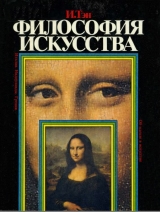
Текст книги "Философия искусства"
Автор книги: Ипполит Адольф Тэн
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 30 страниц)
Чтобы почувствовать божественное, надо быть способным сквозь определенную форму легендарного бога распознать в нем те великие, неизменные, общие могущества и силы, из которых он произошел. Тот навсегда останется сухим и ограниченным идолопоклонником, кто за личным образом бога не прозрит в каком-то вечном сиянии ту физическую или нравственную силу, которой этот образ есть только символ, не более. Во времена Кимона и Перикла греки еще ясно прозревали ее. Сравнительное исследование мифологий недавно показало, что греческие мифы, родственные с санскритскими, вначале выражали только игру естественных сил и что из физических элементов и явлений, их разнообразия, богатства и красоты (инстинктивно мыслящий) язык создавал богов мало-помалу. В основе политеизма лежит чувство живой бессмертной творческой природы, и это чувство действительно существовало еще в те времена. Божественное проникало собою все, без изъятия; с носителями его, вещами, можно было говорить; часто у Эсхила и Софокла человек прямо обращается к стихиям как к тем святым существам, с которыми заодно суждено ему вести великий хор жизни. Филоктет в минуту своего отъезда шлет привет ’’журчащим нимфам источников, звучному голосу моря, ударяющегося о кручи мысов”: ’’Прощай, Лемносская земля! земля ты волнообъятая, отпусти меня безобидно, предоставь благополучно туда, куда несет меня могущественный рок”. Прометей, прикованный к скале, зовет все великие существа, населяющие пространство: ”0 божественный эфир! ветры буйные, ключи рек, бесконечная улыбка морских волн; о, мать всему, Земля! о всевидящий круг Солнца, призываю вас! гляньте, что за муки один бог терпит от других богов!”
Зрителям остается следовать за своим потрясенным лирическим чувством, чтобы снова попасть на те первичные метафоры, которые без их ведома послужили зародышем их религии. "Чистое Небо, – говорит Афродита в одной утраченной пьесе Эсхила, – любит проникать в Землю, и Эрот выбирает ее в супруги; ниспадающий с Неба-родителя дождь оплодотворяет Землю, и тогда она родит для смертных корм стадам и зерно Деметры”[118]. Чтобы понять этот язык, нам стоит лишь выйти из наших искусственных городов и нашей в струнку вытянутой культуры; кто пустится один по какому-нибудь гористому краю, по берегу моря и весь отдастся впечатлению нетронутой, первобытной природы, тот поневоле скоро заговорит с ней; она оживится для него человеческой физиономией; неподвижные, грозные горы превратятся в лысых великанов или в громадные чудовища, присевшие на задние лапы; светлые и прядающие воды – в резвые, болтливые, смеющиеся существа; высокие молчаливые сосны покажутся похожими на строгих девственниц; а когда он взглянет на южное море, лазурное, сияющее, убранное, как на празднике, с той всеобъемлющей улыбкой, о которой говорил нам сейчас Эсхил, – ему невольно придет в голову, для выражения сладострастной красоты, бесконечность которой окружает и проникает его насквозь отовсюду, назвать ту пенорожденную богиню, которая, выходя из морской волны, восхищает сердца смертных и небожителей.
Когда какой-нибудь народ ощущает божественную жизнь природы, ему нетрудно распознать ту заветную ее глубину, откуда исходят его боги. В лучшую пору ваяния, коренной этот грунт явно еще просвечивал из-под той определенной человеческой фигуры, которою легенда хотела его выразить. Есть божества, именно божества потомков, лесов и гор, которые всегда были видны насквозь. Наяда или Ореада была, конечно, молодая девушка, вроде сидящей на скале в олимпийских метопах (которые теперь в Лувре); по крайней мере, так передавало ее скульптурно-изобразительное воображение; но уже при одном ее названии представлялась мысли таинственная важность тихого леса или свежая прохлада быстрого ключа. У Гомера, чьи поэмы были настоящей библией греков, потерпевший крушение Улисс, после двухдневного плавания, принесен "к устью светлоструйной реки и говорит ей: услышь меня, о царь, кто бы ты ни был; я прибегаю к тебе с пламенной мольбой, уходя от моря, полного Посейдоновым гневом... Сжалься, о владыка! я ведь твой усердный молельщик. Он сказал это, и укротилась река, остановив свое течение и быстрые волны, стихла она перед Улиссом и приняла его в свое устье”. Очевидно, что бог здесь не какая-нибудь бородатая, скрытая в пещере личность, но сама быстрая река, вдруг ставшая мирным и гостеприимным потоком. Подобно этому река же явлется раздраженной против Ахилла. ’’Так проговорил Ксанф и ринулся на него, вскипев яростью, полный шума, пены, крови и трупов. И блестящая волна вышедшей от Зевса реки поднялась, увлекая Пелеева сына... Тогда Гефест обратил против нее свое ослепительное пламя, и запылали вязы, ивы и тамаринды; вспыхнул и лотос, и шпажник, и кипарис, что обильно росли вокруг реки светлоструйной: угри и рыбы метались туда-сюда или погружались в омуты, не зная, куда уйти от жгучего дыханья Гефеста, и извелась наконец сила реки до конца, и завопила она во весь голос: Гефест! никому из богов невмочь бороться с тобой. Уймись же. Она молвила это, вся горя огнем, а светлые воды ее так ключом и кипели”. Шесть веков спустя Александр пустился по реке Гидасп (в Индии); стоя на корабельном носу, он совершил возлияния и этой реке, и другой – и ее притоку, и, наконец, Инду, куда текли они обе и куда направлялся Александр. Для души простой и непосредственной большая река, особенно притом неизвестная, сама по себе является уже какой-то божественной силой; перед нею человек чувствует себя, как перед существом вечным, всегда деятельным, то благодатным, то губительным, принимающим бесчисленные формы и виды; это неистощимое и правильное течение невольно порождает в нем мысль о спокойной и мужественной жизни, величавой и сверхчеловеческой. В века упадка в статуях, каковы олицетворяющие Нил и Тибр, древние скульпторы не забыли еще этого первоначального впечатления, и широкий торс, спокойная поза, неопределенно-блуждающий взгляд статуи показывают, что при посредстве этой человеческой формы они все-таки хотели выразить величавое, однообразное и безразличное течение большой массы вод.
Иногда самое название бога указывает уж на его природу. Гестия, например, значит очаг, и никогда богиня эта не могла вполне отделиться от священного огня, служившего средоточием домашней жизни. Деметра значит мать-земля, и обрядовые прозвища или эпитеты именуют ее черной, глубокой и подземной, кормилицей новорожденных существ, плодоносицей, зеленеющей. Солнце у Гомера отдельное от Аполлона божество, и личность нравственная сливается в нем воедино с физическим светом. Бездна других божеств: Горы, т. е. времена года, Дике – правосудие, Немезида – усмирение – вместе с именем вносят в душу поклонника и прямой свой смысл. Я назову лишь Эрота или Амура, чтобы показать, каким образом свободный и проницательный ум грека соединял в одном и том же чувстве поклонение божественной личности и обоготворение природной силы. ’’Эрот, – говорит Софокл, – непобедимый в битве, Эрот, настигающий и могущество и богатство, ты приютился на нежных ланитах молодой девушки; а между тем ты перелетаешь моря, ты заходишь и в сельские лачуги, и не уйти от тебя никому из бессмертных, никому из кратковечных людей”. Немного позже, в устах гостей платоновского ’’Пира”, смотря по разнообразным толкованиям имени, природа бога видоизменяется. Для одних, так как любовь значит сочувствие и лад, Эрот – самый всевластный из небожителей, и, как говорит Гесиод, он творец всякого в мире порядка и всякой гармонии. Другие полагают, что он младший из богов, так как старость несовместима с любовью; он нежнее всех других, потому что гуляет и покоится на том, что ни есть нежнейшего, на сердцах, да и то лишь на одних нежных; он должен состоять из жидкого, тончайшего вещества, потому что входит в души и выходит незаметно; он конечно уж цветущ, потому что живет среди цветов и благоуханий. По мысли иных, наконец, Эрот, будучи желанием и, стало быть, чувством недостатка, просто сын Нищеты, исхудалый, грязный, босоногий, спящий под открытым небом, но жаждущий прекрасного и оттого смелый, деятельный, изобретательный, настойчивый и уж непременно философ. Миф возрождается здесь сам из себя и мелькает под двадцатью формами в руках Платона. У Аристофана облака минутно превращаются в правдоподобные почти божества, и если в Теогонии Гесиода мы проследим полуобдуманную, полуневольную смесь, допускаемую им между божественными личностями и стихиями природы[119], если заметим, что он насчитывает ’’тридцать тысяч богов-хранителей на кормилице-земле”, если вспомним, что Фалес, первый физик и первый философ, говорил, что все произошло из влаги, и в то же время, что все полно богов, если сообразим все это, то поймем глубокое чувство, поддерживавшее тогда греческую религию, тот восторг и то благоговение, с какими грек, под ликами своих богов, угадывал бесконечные силы живой природы.
Правду сказать, не все они в одинаковой степени были воплощены в видимые предметы. Были между ними и такие, – и самые притом популярные, – которых более энергическая легендарная переработка выделила из общей массы и поставила в виде особых совсем лиц. Олимп греков можно уподобить масличному дереву под конец лета. Смотря по месту и высоте разных ветвей, плоды оказываются более или менее созревшими; одни только еще в завязи, состоят из утолщенного лишь пестика, не больше, и тесно соединены с деревом; другие, уже спелые, держатся еще, однако, на ветке; наконец, иные, достигшие полной зрелости, попадали наземь, и потребно некоторое внимание, чтобы распознать тот стебелек, на котором они висели. Подобно этому, и греческий Олимп, смотря по степени очеловечения сил природы, представляет на различных своих ярусах такие божества, в которых физический характер преобладает над личностью, другие, в которых обе стороны уравновешены, и, наконец, третьи, в которых очеловечившийся бог связан уже несколькими только нитями, подчас даже одной, и то едва заметной, нитью с тем стихийным явлением, которое дало ему начало. Но он все-таки еще с ним связан. Зевс, являющийся в И л и а д е грозным главой семьи, а в Прометее – царем-насильником и тираном, остается, однако, во многих чертах своих тем, что он был искони, – дожденосным и молниеметным небом; освященные веками прозвища, старобытные изречения указывают на его первичную природу: реки ”из него падают”, ’’Зевс дождит”. На Крите имя его означает день; впоследствии Энний в Риме говорит, что он – та ’’высшая огнежаркая белизна, которую все признают под именем Юпитера”. Из Аристофана видно, что для мужиков, для черного народа, для людей простых и несколько отсталых он все по-прежнему еще ’’поливатель нив и раститель жатвы”. Когда какой-нибудь софист вздумает говорить им, что нет Зевса, они изумляются и спрашивают: ”А кто дождит? кто гремит?” Он разгромил Титанов, низверг чудовищного Тифона о ста драконьих головах, т. е. те черные испарения, которые, родившись из земли, взвивались, подобно змеям, и набегали на свод небесный. Он живет на упирающихся в небо высях гор там, где собираются тучи, откуда низвергается гром; это Зевс Олимпа, Зевс Ифомы, Зевс Гиметта. В сущности, как и все боги, он множествен, тесно привязан к различным местностям, где человеческое сердце наиживее ощутило его присутствие, к разным городам и даже семьям, которые, открыв его в своих кругозорах, присвоили его себе и первые стали приносить ему жертвы. ’’Умоляю тебя, – говорит Текмесс, – именем домашнего твоего Зевса”. Чтобы точнее представить себе религиозное чувство грека, надобно вообразить долину, морской берег, весь первобытный пейзаж местности, где поселилась та или другая часть племени; она признает за божественные существа не небо вообще и не всемирную землю, а свое небо с его горизонтом волнистых гор, свою землю, на которой она обитает, те леса и те именно текучие воды, среди которых она водворилась на житье; у нее есть свой собственный Зевс, свой Посейдон, своя Гера, свой Аполлон, свои лесные и водяные нимфы. В Риме, где религия лучше сохранила первобытный дух, Камилл говорил недаром: ”В этом городе нет местечка, не пропитанного насквозь религией и не занятого каким-нибудь божеством”. ”Не боюсь я богов вашей страны, – говорит одно действующее лицо у Эсхила, – я ничем не обязан им”. По-настоящему бог у них всегда местный[120], так как по своему происхождению он ведь не что иное, как сама страна; вот почему в глазах грека родной город – священный город и божества его составляют с ним одно неразрывное целое. Если он приветствует их, воротясь с дороги, то не в силу одного поэтического приличия, как делает, например, Танкред; он не испытывает, как современный нам человек, только удовольствия при виде знакомых ему предметов и при мысли, что вот он теперь у себя дома; родной его берег, его горы, стены, ограждающие его земляков, дорога, вдоль которой гробницы хранят кости и прах героев-основателей, все окружающее его – для него род храма. ’’Аргос и вы, родимые божества, – говорит Агамемнон, – вам я должен поклониться прежде всего; вы были мне помощники и в благополучном возврате, и в отместке Приамову городу”. Чем ближе присмотришься, тем более серьезным найдешь их чувство, тем более понятным их верование, тем более основательным их культ; и только уже впоследствии, в эпоху вольнодумства и упадка, стали они в самом деле идолопоклонниками. ’’Если мы представляем богов в человеческом образе, – говорили они, – то это потому, что нет ведь формы прекрасней”. Но из-за этой выразительной формы виделись им, как во сне, правящие душой и вселенной мировые силы.
Проследим одну из их процессий, именно великие Панафинеи, и постараемся представить себе мысли и ощущения афинянина, который, участвуя в торжественном ходе, подступал тут ближе к своим богам. Празднество совершалось в начале сентября. Три дня весь город тешился играми, сперва в Одеоне – всей роскошью орхестрики, декламацией гомеровских поэм, состязанием в пении, в игре на кифаре и на флейте, хорами нагих юношей, пляшущих пирритку, или в праздничной одежде водящих киклический хор; затем, в ристалище, – всеми упражнениями нагого опять тела, борьбой, кулачным боем, пентафлом для взрослых и детей; простым и двойным бегом с факелами, бегом на конях, ристанием на обыкновенных и на боевых колесницах парою и четверней, причем на иных было по два седока, из которых один выпрыгивал на всем скаку, бежал за лошадьми и потом сразу вскакивал опять на мчавшуюся колесницу. По выражению Пиндара: ’’Игры были любы богам”, и нельзя было ничем так достойно почтить их, как этим именно зрелищем. На четвертый день открывалось шествие, которого изображение сохранил нам парфенонский фриз: во главе шли первосвященники, старцы, выбранные из самых красивых девушки лучших семейств, посланцы от союзных городов с приносными дарами, затем – метеки с вазами и утварью из чеканного золота и серебра, атлеты, пешие и на конях или в колесницах, длинный ряд жертвоприносителей и разных жертв, наконец, народ в праздничных одеждах. Потом трогалось с места священное судно, неся на мачте покрывало Паллады, вышитое для нее молодыми девушками, питомицами Эрехтейона; выйдя из Керамика, оно шло в Элевсинию, огибало ее вокруг, проходило вдоль северной и восточной сторон Акрополя и останавливалось перед ареопагом. Тут отвязывали с мачты покрывало для возвращения его богине, и все шествие подымалось по громадной мраморной лестнице во сто футов длиной и в семьдесят футов шириной – лестнице, ведущей к преддверию Акрополя, Пропилеям. Как тот угол старой Пизы, где скучены вместе собор, перекосившаяся башня, Кампо-Санто и Баптистерий, – этот обрывистый и всецело посвященный богам горный скат совершенно исчезал под множеством памятников, храмов, молелен, колоссов и статуй; но со своей четырехсотфутовой высоты он господствовал над всей страной; в промежутки колонн и углов рисующихся на небе построек афиняне видели отсюда половину своей Аттики, круг обнаженных и выжженных летним зноем гор, блестящее море, обрамленное матовым выступом побережьев, все великие, вечные существа, в которых коренятся сами боги, – гора Пентелик с ее алтарями и виднеющейся издали статуей Паллады-Афины, горы Гиметт и Анхесм, где колоссальные лики Зевса указывали еще первобытное родство между громовержущим небом и горными вершинами.

Они несли покрывало вплоть до Эрехтейона, самого многочтимого из их храмов, святилища, где хранились упавший с неба Палладион, гробница Кекропса и заветная маслина, прародительница всех остальных. Там вся решительно местная легенда, все обряды, все имена богов пробуждали в уме смутно-величавое воспоминание о первой борьбе и первых шагах на поприще человеческой цивилизации; в мифическом полумраке человек прозревал здесь древнюю и многоплодную борьбу воды, земли и огня; возникающую из волн морских, постепенно оплодотворяющуюся, одевающуюся полезной растительностью, питательными семенами и деревьями землю, заселяемую и очеловечиваемую под рукой таинственных сил, которые сокрушают друг о друга дикие стихии и сквозь хаотическую их безрядицу устанавливают мало-помалу преобладание умственной силы над всем. Основатель Кекропс имел символом одноименное с собой существо Kekrops, т. е. кузнечика, рожденного, как полагали, из земли, – насекомое самое уж афинское, какое только можно себе представить, певучий и поджарый обитатель сухих холмов, недаром старые афиняне носили в волосах его изображение. Рядом с Кекропсом первый изобретатель Триптолем, т. е. ’’зернотер”, родился от отца Диавла, в переводе ’’двойной борозды”, и сам родил Гордиду, т. е. ’’ячмень”. Еще знаменательнее легенда о великом праотце Эрехтее. Между наготами детского воображения, наивно и странно рисовавшего себе его происхождение, собственное его имя, означающее плодоносную почву, и имена его дочерей: Чистый Воздух, Роса и Великая Роса – прямо сквозят мыслью о сухой земле, оплодотворяемой ночною влагой. Разные подробности служебного ему культа окончательно уясняют этот смысл. Молодые девушки, вышившие заветное покрывало, называются Эррефорами, т. е. ’’росоносицами”; это символы росы, за которою они ходят по ночам 'в пещеру, близ храма Афродиты. Фалло, пора цветов, и Карпо, пора плодов, чествуемые неподалеку оттуда, также опять имена божеств полевых или земледельческих. Все эти выразительные имена глубоко запечатлелись в уме афинянина; он чуял затаенную в них историю своего племени, уверенный в том, что души его усопших родоначальников и предков продолжают жить вокруг могилы и покровительствуют тем, кто чтит место их погребения; он приносил им пироги, мед, вино и, ставя свои приношения, окидывал мысленным взглядом все долгое благоденствие родного города и связывал в своих надеждах его будущее с его прошлым.
Выйдя из древнего святилища, где первобытная Паллада царила под одной кровлей с Эрехтеем, афинянин видел почти прямо перед собой построенный Иктином новый храм, где она жила одна и где все говорило о ее славе. Кем она была первые времена, теперь он едва лишь чувствовал; ее лживая связь с природой совсем стерлась благодаря развитию ее нравственной личности; но энтузиазм – это вещая догадка, и потому какие-нибудь лоскутки легенд, какие-нибудь освященные веками атрибуты, одни уже исконные прозвища наводили взоры на ту даль, откуда вышла богиня. Известно было, что она – дочь Зевса, молниеносного неба, рожденная только от него; она вырвалась из чела его среди молний и общего переполоха стихий; Гелиос тогда вдруг остановился, Земля и Олимп потряслись, море страшно взбушевало, на Землю пролился золотой дождь световых лучей. Вероятно, первые люди поклонились вначале вёдру или прояснившемуся воздуху под ее именем; они пали ниц перед этой внезапно явившейся девственной белизной, проникнутые той крепительной свежестью, которая наступает вслед за грозой; они уподобили ее молодой, энергической деве[121] и назвали Палладой. Но в Аттике, где прозрачность и блеск ясного эфира чище, нежели где-нибудь в другой местности, она сделалась Афиной, т. е. просто Афинянкою. Другое из древнейших ее прозвищ – Тритогения, ’’водорожденная” – напоминало также, что она рождена из небесных вод, или наводило мысль на сверкающий блеск моря. Другими явными следами ее происхождения были цвет ее серо-зеленых глаз и выбор в подручные ей птицы совы, зрачки которой так ярко светятся в ночной темноте. Постепенно обрисовывался ее лик, а с тем вместе росла и ее история. Ее бурное рождение сделало ее воинственной, вооруженной, грозной спутницей Зевса в его битвах с возмутившимися Титанами. Как девственница и чистый свет, она мало-помалу стала мыслью и разумом, и ее прозвали художественной, потому что она изобрела искусства, наездницей, потому что она укротила коня, спомощницей, потому что она исцеляла от недугов. Все ее благодеяния и победы были изображены на стенах, а глаза зрителя, переносясь от фронтона храма на необъятный пейзаж, обнимали в одно и то же мгновение оба религиозные момента, взаимно уяснявшие друг друга и сливавшиеся в душе воедино одним высоким чувством совершенной красоты. С южной стороны на горизонте афиняне видели бесконечное море, Посейдона, обнимающего и колеблющего землю, лазурного бога, крепко охватившего руками и берег, и острова, и тем же самым взглядом они усматривали его под западным венцом Парфенона, стоявшего в ярости, с его мускулистым торсом, с его могучим нагим телом и гневным жестом раздраженного божества, тогда как позади его Амфитрита, Афродита, почти нагая, на коленях Фалассы, Латона с двумя своими детьми, Левкофея, Галлирофий, Эврит волнистыми выпуклостями своих детских или женских форм давали чувствовать всю грацию, все переливы красок, всю свободу вечно улыбающегося моря. На том же самом мраморе победоносная Паллада укрощала коней, которых Посейдон вышиб из-под земли одним ударом своего трезубца, и подводила их к божествам суши, к основателю Кекропсу, к праотцу Эрехтею ’’земельнику”, к трем дочерям его, увлажняющим тощую почву, к прекрасному ключу Каллироэ и к тенистой речке Илиссу; налюбовавшись их изваяниями, глаз только опускался вниз и видел опять их же у подножий пригорка.
Но сама Паллада распространяла лучезарный блеск свой вокруг; тут не требовалось ни размышлений, ни науки, нужны были только глаза и сердце поэта или художника, чтобы подметить родство богини с окружающими предметами, чтобы почувствовать ее присутствие в великолепии сияющей атмосферы, в ярком, быстро разливающемся свете, в чистоте этого легкого воздуха, которому афиняне приписывали живость своего творчества и своего гения: сама она была гением страны, духом живущего здесь народа; ее-то дары, ее вдохновение, ее создание видели они повсюду вокруг себя, докуда хватал глаз, – в полях, покрытых масличными деревьями, в испещренных нивами косогорах, в трех пристанях, где дымились арсеналы и теснились разнородные суда, в длинных и крепких стенах, которыми город соединялся с морем, в красоте самого города, который своими храмами, гимназиями, театрами, своим Пниксом, всеми пересозданными памятниками и вновь выстроенными домами одевал хребты и скаты холмов и который своими искусствами, промышленностью, празднествами, своей изобретательностью и своим неутомимым мужеством сделался ’’школой для всей Греции”, распространил свое господство на все сплошь море и свое господствующее влияние на весь греческий народ.
В эти минуты могли раскрыться двери Парфенона и показать среди бездны приношений, ваз, венков, доспехов, колчанов со стрелами и серебряных масок колоссальное изваяние, покровительницу, победоносную деву, стоящую неподвижно во весь рост с копьем на плече и щитом, поставленным сбоку, с Победой из золота и слоновой кости в правой руке, с золотой эгидой на груди и узким золотым шлемом на голове, в длинном золотом одеянии разнообразных оттенков; ее лицо, ноги, руки, плечи выделяются из блеска одежды и оружия теплою, живою белизной слоновой кости, а светлые глаза из блестящего драгоценного камня неподвижно горят в полумраке расписанной целлы. Конечно, измышляя ее ясное, божественное выражение, Фидий задумал силу, мощь, выходящую за все человеческие пределы, одну из тех мировых сил, которые правят ходом всех вещей в природе, тот вечно деятельный разум, который был в Афинах истинною душой страны. Быть может, звучал в его сердце отголосок той новой тогда физики и философии, которые, смешивая еще дух и вещество, смотрели на мысль как на ’’легчайшую и чистейшую из субстанций”, род тонкого эфира, распространенного повсюду и везде для порождения и поддержания порядка в целом мире[122]; так сложилась у него идея, еще превысившая народную: его Паллада превосходила столь важную, уже эгинскую, всем величием того, что вечно. Длинным обходом и все более и более сближающимися кругами проследили мы все зачатки греческой статуи и пришли наконец к той пустоте, которая видна еще и поныне, к тому месту, где возвышалось ее подножие и откуда исчезла величественная ее форма.
ОБ ИДЕАЛЕ В ИСКУССТВЕ
(Посвящается Сен-Бёву)
Предмет и способ этого исследования. – Значение слова идеал.
Милостивые Государи!
Предмет, о котором я буду с вами беседовать, по-видимому, только и доступен одной поэзии. Когда говорят об идеале, говорят языком сердца, души; мысль полна тогда прекрасной неопределенной грезы, которою выражается чувство самое заветное; его высказывают разве только полушепотом, с каким-то сдержанным восторгом; если же рассуждают о нем громко, во всеуслышание, то уж не иначе как в какой-нибудь кантате, в стихах; к нему прикасаются только кончиками пальцев или сложивши руки, как бы на молитву, когда речь идет о счастии, о небе, о любви. Что до нас, мы, по своему обыкновению, станем изучать его, как натуралисты, методически, путем анализа и постараемся прийти не к оде, а к закону.
Надо, во-первых, уразуметь слово идеал; грамматически объяснить его нетрудно. Припомним себе определение художественного создания, найденное нами в начале этого курса. Мы сказали, что художественное произведение имеет целью проявить какой-нибудь существенный или выдающийся характер полнее и яснее, нежели он проявляется в действительных предметах. Для этого художник составляет себе идею того характера и по идее преобразует действительный предмет. Преобразованный на этом основании, предмет становится соответствен идее, другими словами – идеален. Итак, вещи переходят из реальных в идеальные, когда артист воспроизводит их, преобразуя по своей идее; преобразует же он их по своей идее тогда, когда, постигнув в них какой-нибудь особенно заметный характер и выделив его из среды других, он систематически видоизменяет естественные соотношения частей их именно с тем, чтобы выдвинуть этот характер более на вид и придать ему более господствующее значение.
I
Кажется, будто все характеры одинаково ценны. – Логические основания. – Исторические основания. – Различные способы обработки одного и того же сюжета. – В литературе – типы скряги, отца, любовников. – В живописи – картины: Иисус в Эммаусе Рембрандта и Веронезе, мифологические картины Рафаэля и Рубенса, Леды Леонардо да Винчи, Микеланджело и Корреджо. – Безусловная ценность всех значительных характеров.
Между идеями, влагаемыми художником в свои образы, есть ли идеи сравнительно высшие? Можно ли указать в них на характер, который был бы сравнительно лучше других? Существует ли для каждого предмета известная идеальная форма, вне которой все становится уклонением или ошибкой? Можно ли раскрыть закон подчинения, который определял бы иерархически места или ранги различным художественным произведениям?
С первого взгляда кажется, как будто нет; найденное нами определение, по-видимому, преграждает путь к подобного рода исследованию; оно наводит на мысль, что все художественные произведения стоят друг к другу в уровень и что личному произволу открыт здесь полнейший простор. В самом деле, коль скоро предмет становится идеальным по тому лишь одному, что вообще отвечает идее, то все равно, какова она ни будь, выбор вполне зависит от художника: он изберет то или другое по своему вкусу, и нам нечего тут возразить. Один и тот же сюжет можно обделать так или совершенно иначе, или, наконец, на все посредствующие между этими двумя крайностями лады. Мало того, история тут заодно с логикой, и эта теория прямо подтверждается фактами. Всмотритесь в разные века, в разные народы, в разные школы. Художники, рознясь племенем, духом и воспитанием, различно и поражаются одним и тем же предметом: каждый видит его со своей точки зрения, каждый подмечает в нем какой-нибудь новый характер, каждый составляет себе о нем своеобразное понятие, и это понятие, эта идея, воплощенная в новом создании искусства, вдруг воздвигают в галерее идеальных форм новое, изящное произведение, как нового бога на том самом Олимпе, который считался уже полным и без него. Плавт вывел на сцену бедного скрягу Эвклиона; Мольер берет тот же опять характер и создает Гарпагона, богатого скупца. Спустя два века скупец, уже неглупый и неподымаемый на смех, а, напротив, грозный и торжествующий, превращается под рукой Бальзака в отца Гранде, и тот же скупой, перенесенный из своей провинции в столицу, ставший парижанином, космополитом и поэтом-приживальщиком, доставляет тому же опять Бальзаку тип ростовщика Гобсека. Одно и то же положение отца, обижаемого неблагодарными детьми, вызвало последовательно Софоклова Эдипа в Колоне, Шекспирова короля Лира и Бальзакова отца Горио. Все романы и все театральные пьесы представляют молодого человека и молодую женщину влюбленными и стремящимися к браку; но в какой бездне разнообразных лиц являлась эта чета, начиная от Шекспира до Диккенса и от г-жи де Лафайет до Жорж Санд! Итак, влюбленные, отец, скряга, все вообще крупные типы, постоянно могут быть возобновляемы; они беспрерывно менялись до сих пор, да будут меняться и в будущем: изобретать, выходя за черту условности и предания, – именно и есть настоящий признак, единственная слава и как бы родовая обязанность истинного гения.
Если после литературных произведений мы взглянем на пластические искусства, то право свободно выбирать тот или другой характер окажется тут еще более установившимся. Несколько лиц и сцен евангелических или мифологических, можно сказать, одни давали сюжеты любой великой художественной школе, свобода выбора художника явно обнаруживается здесь и в разнообразии произведений, и в большом успехе. Мы не дерзнем превознесть одно перед другим, поставить одно совершенное произведение выше другого, также совершенного, не дерзнем сказать, что надо более держаться Рембрандта, чем Веронезе, или Веронезе более, чем Рембрандта. И посмотрите, однако ж, какой между ними контраст! В картине Эммаусская трапеза Христос у Рембрандта[123] изображен только что воскресшим, – мертвенное, желтое, страдальческое лицо, испытавшее могильный холод; грустный, полный соболезнования взор Его останавливается еще раз на бедствиях человеческих; близ Него два ученика, старые, утомившиеся труженики, с лысыми, убеленными сединой головами; они сидят у харчевенного стола; мальчишка-дворник глядит на них с глупым выражением, голова Распятого пришельца с того света окружена чудным неземным сиянием. В картине Христос со ста флоринами (le Christ aux cent florins) та же идея проявляется опять еще сильнее: это именно Христос простонародия. Спаситель бедных, Он стоит в одном из тех фламандских подвалов, где некогда молились и ткали гонимые лолларды; нищие в лохмотьях, лазаретные бедняки простирают к Нему умоляющие руки; неуклюжая крестьянка на коленях не сводит с Него своих полных глубокой веры широко раскрытых глаз; подвозят лежащего поперек тележки расслабленного: дырявые лохмотья, ветхие, засаленные и выцветшие от непогоды плащи, золотушные или изувеченные, бледные, изнеможенные или оживотненные лица, жалкое сборище отверженцев и больных, нечто вроде подонков человечества, на которых счастливцы того времени, толстобрюхий бургомистр, зажиточный разжиревший горожанин, смотрят с наглым равнодушием, но над которыми всеблагой Христос распростирает свои исцеляющие руки, а сверхъестественное Его сияние проницает между тем полумрак и отражается даже на заплесневелых стенах. Если бедность, горе и темнота, сквозь которую едва мерцают лучи света, могли доставить истинно художественные произведения, то богатство, веселье, теплый и смеющийся свет белого дня доставляют, в свою очередь, такое же произведение. Присмотритесь в Венеции и в Лувре к трем картинам Веронезе, изображающим Христа за трапезой. Необъятное небо высится над целой архитектурой баляс, колоннад и статуй; блестящая белизна и пестрые узоры мраморов обрамляют сборище мужчин и женщин за веселым пиром; это – пышное венецианское празднество, и притом именно XVI столетия; посреди находится Христос, а длинными рядами вокруг него едят и посмеиваются вельможи в шелковых епанчах, принцессы в парчовых платьях, между тем как левретки, маленькие негритята, карлики, музыканты забавляют зрение и слух присутствующих. Черные с серебром симарры стелются волною рядом с шитыми золотом бархатными юбками; кружевные воротнички охватывают атласную белизну шей; в русых косах светятся жемчуга; цветущие румянцы выдают силу молодой крови, легко и обильно текущей в здоровых жилах; умные, оживленные лица вот-вот готовы улыбнуться; на серебристом или розоватом лоске общего колорита – желтизна золота, яркая синь, огнистый багрянец, полосатая зелень, все эти разорванные и сливающиеся, однако, тоны своей чудной и изящной гармонией дополняют поэзию аристократической сладострастной роскоши. С другой стороны, что, скажите, может быть определеннее языческого Олимпа? Литература и ваяние греков вполне установили его тип: в сфере его, кажется, воспрещено всякое нововведение, всякая форма строго обозначена, какому бы то ни было вымыслу прегражден решительно всякий путь. И, однако ж, каждый живописец, перенося его к себе на холст, придает в нем преобладание тому характеру, который прежде не был замечен. Рафаэлевский Парнас представляет нашим глазам прекрасных молодых женщин с совершенно человеческой кротостью и грацией, Аполлона, который, возведя глаза к небу, забывается, вслушиваясь в звуки своей кифары; архитектуру, подчиненную мерным, спокойным формам; скромную наготу, подчеркнутую еще больше трезвостью и почти тусклостью общего тона фрески. Рубенс замышляет такое же создание с противоположными, однако, характерами. Его мифологические картины, бесспорно, всего менее античны. В его руках греческие божества превращаются в лимфатических, полнокровных фламандцев, а его небесные праздники похожи на маски (или машкары), какие Бен Джонсон устраивал в ту же самую пору при дворе Якова I: смелая до дерзости нагота, еще более усиленная блеском ниспадающих драпировок; жирные и белые Венеры, удерживающие своих любовников разгульным жестом куртизанки; плутовские лица смеющихся церер, мясистые, трепетные спины сирен, как нарочно скрученных в такую позу, полные неги извивы живого, гибкого тела, неистовость похотливых порывов, великолепная выставка разнузданного, торжествующего сладострастия, поддерживаемого темпераментом и недоступного внушениям совести, – сладострастия, которое, не выходя из пределов животного чувства, становится поэтическим и – небывалый, можно сказать, факт! – соединяет в своем упоении весь разгул первобытной природы со всей роскошью цивилизации. Тут достигнута опять одна из вершин искусства: ’’колоссальное веселье покрывает и увлекает все, нидерландский Титан обладал такими могучими крыльями, что взлетел чуть не к самому солнцу, хотя целые пуды голландского сыра были привешены к его ногам”[124]. Если, наконец, вместо того чтобы сравнивать двух художников разных стран, вы ограничитесь одной какой-нибудь нацией, то вспомните описанные вам мною произведения итальянцев: эти многочисленные Распятия, Рождества, Благовещения, этих Мадонн с младенцем, эту бездну Юпитеров, Аполлонов, Венер и Диан, а для придания большей точности своим воспоминаниям возьмите лучше одну и ту же сцену, последовательно обработанную кистью трех разных мастеров: Леонардо да Винчи, Микеланджело и Корреджо. Я говорю об их Ледах, известных вам по крайней мере из гравюр. Леда Леонардо стоит стыдливая, опустив глаза, и гибкие, змеистые линии ее тела извиваются с высоким утонченным изяществом; настоящим супругом лебедь почти человечески охватывает ее крылом, а маленькие близнецы, вылупляющиеся из яйца подле, даже и глядят-то по-птичьи, искоса; тайна первобытных времен, глубокое родство между человеком и животным, смутное язычески-философское чутье единой и всемирной жизни нигде не выразились с такой мастерской изысканностью и не обнаружили так вещей догадки столь проницательного и вдумчивого вместе гения. Напротив, Леда Микеланджело – царица колоссальной и воинственной расы, сестра одной из тех чудных дев, которые отдыхают, усталые, в капелле Медичей или мучительно пробуждаются, чтобы возобновить жизненную битву; ее крупное удлиненное тело наделено такими же мышцами и таким же вообще строением; щеки ее худы; в ней нет ни малейшего следа веселья, ни увлечения; даже и в подобный миг она серьезна, почти сурова. Трагическая душа Микеланджело движет эти мощные части, подъемлет этот героический торс и сдвигает этот неподвижный взгляд под нахмуренными бровями. Но вот век повернул в сторону, и мужественные чувства уступают чувствам женственным. У Корреджо сцена превращается в купальню молодых девиц под нежной, кроткой зеленью деревьев, среди журчания и блеска быстрых вод. Все тут очаровывает и манит; мечта блаженства, пленительная грация, полнейшее сладострастие никогда не прельщали и не волновали сердца языком столь вкрадчивым и живым. Краса тела и голов не отличается благородством, но она полна ласки и привлекательности. Круглые и смеющиеся, эти лица лоснятся, как цветки, облитые вешним солнцем; свежесть самой свежей юности скрепляет нежную белизну их пропитанного светом тела. Одна, белокурая, приветливая, легким станом и прической напоминающая молодого мальчика, отстраняет лебедя от себя прочь; другая, миниатюрная, миленькая, шаловливая, держит наготове сорочку; подруга входит в нее, как в сеть, но чуть облекающая ее воздушная ткань не скроет от наших глаз полных очертаний красивого ее тела; далее шалуньи, каждая с небольшим лбом, с пухлыми губками и круглым подбородком, играют в воде, обнаруживая кто своевольство, кто нежность в своем разгуле; Леда увлеклась до того, что отдается : видимой радостью, улыбается, замирает от восторга, и роскошное, упоительное ощущение, веющее ото всей этой сцены, достигает высшего своего предела в ее экстазе и в ее замирании.








