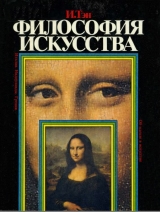
Текст книги "Философия искусства"
Автор книги: Ипполит Адольф Тэн
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)
С другой стороны, Греция – страна не только гористая, но и многобережная. Будучи меньше Португалии, она объемом берегов превосходит Испанию. Море врезывается в нее множеством заливов, излучин, впадин и зубцов; если вы взглянете на привозимые путешественниками виды, то, наверно, в половине даже тех, которые изображают внутренние местности, вы все-таки заметите синюю ленту моря, или какой-нибудь его треугольник, или, наконец, на горизонте блестящий его полукруг. Чаще всего то море обрамлено выступами скал или сближающимися между собой островами, которые образуют этим естественную пристань, самородный порт. Подобное положение так и тянет к морской жизни, в особенности когда тощая почва и скалистые берега не могут вдоволь прокормить жителей. Первоначально существовал один только род плавания – судоходство вдоль берегов, и нет моря, которое бы так манило к нему прибрежное население. Каждое утро встает северный ветер как нарочно для того, чтобы подгонять суда из Афин к Кикладам; под вечер противоположный ветер несет их обратно в родной порт. От Греции вплоть до Малой Азии острова рассыпаны, как переходные камни по иному броду; в ясную погоду судно, следующее этим путем, постоянно идет в виду берега. С Коркиры (Корфу) вы видите Италию, с мыса Малея – вершины Критских гор, с Крита – Родосские горы, с Родоса – Малую Азию; от Крита до Кирены двое суток плавания; в Египет можно дойти из Крита через три дня. И теперь еще[71] ”в каждом греке есть жилка истого моряка”[72]. В этой стране всего с девятисоттысячным населением в 1840 году считалось тридцать тысяч моряков и четыре тысячи кораблей; они держат в своих руках всю прибрежную торговлю в Средиземном море. Еще при Гомере мы находим у них те же нравы: поминутно спускают на море суда; Улисс строит себе корабль собственноручно; идут торговать и грабить по соседним прибрежьям. С самого начала и во всю их историческую жизнь они не переставали быть купцами, путешественниками, пиратами, маклерами, искателями приключений; ловкой или насильственной рукой доили они крупные восточные монархии или варваров Запада, привозили к себе золото, серебро, слоновую кость, рабов, строевой лес, разные драгоценности – и все это чуть не задаром; да сверх того быстро перенимали у других изобретения и идеи, обращаясь за ними и в Египет, и в Финикию, и в Халдею, и в Персию[73], и в Этрурию. Подобный строй жизни изощряет и необыкновенно возбуждает ум. Доказательством может служить то, что самые передовые, самые образованные, самые умные из народов Древней Греции все были моряки: малоазийские ионийцы, жители великогреческих колоний, коринфяне, эгинцы, сикионяне, афиняне. Напротив, замкнутые в своих горах аркадцы пребывали в сельской простоте; также акарняне и эпироты. Озольские локры, действовавшие на другом, менее благоприятном море и никогда не странствовавшие, оставались полуварварами до конца; в эпоху римского завоевания соседи их, этолийцы, жили еще только в бесстенных слободах и были грубые разбойники. Их не коснулось стремление, двигавшее вперед другие племена. Таковы были физические обстоятельства, изначала благоприятствовавшие пробуждению мысли. Народ этот можно сравнить с ульем пчел, которые, родясь под кротким небом, но на скудной почве, пользуются открытыми им воздушными путями, собирают везде соки, ходят на добычу, роятся, обороняются своей ловкостью и своим жалом, сооружают хитрые постройки, приготовляют превосходный мед, всегда в поисках, всегда жужжа и снуя вдоль и поперек среди окружающих их тяжеловесных тварей, которые способны только пастись под надзором хозяина или толкаться между собой без ряду, как попало.
В наше еще время, как ни глубоко их падение[74], ’’они не уступят в уме ни одному на свете народу, и нет, можно сказать, такого умственного труда, на который они не были бы способны. Они понимают скоро и хорошо; с поразительной легкостью научаются всему, чему только захотят учиться. Молодые купцы быстро овладевают уменьем говорить на пяти-шести разных языках”. Рабочие в несколько месяцев изловчаются изучить любое, трудное даже ремесло. Целое селение, со старейшиной во главе, готово с любопытством расспрашивать и выслушивать заезжих путешественников. ’’Особенно замечательно неутомимое прилежание учеников”, маленьких и взрослых; даже слуги, исполняя свою обязанность, находят еще время приготовиться к экзамену на звание адвоката или врача. ”В Афинах вы встретите учащихся всякого рода, кроме лишь таких, которые не учатся”, а ленятся. В этом отношении нет племени, так богато одаренного природой, и кажется, все обстоятельства соединились для того, чтобы развить их ум и изощрить способности.
II
Следы этого характера в их истории. – Улисс. – Грек эпохи римского господства. – Наклонность к чистой науке и отвлеченному доказательству. – Открытия в науках. – Обобщения в философии. – Спорщики и софисты. – Аттический вкус.
Проследим эту черту в их истории. Обратимся ли к практической их жизни или к их теориям, везде увидим тонкий, ловкий, находчивый ум. Не странно ли, что даже на заре цивилизации, когда человек обыкновенно еще буен, наивен и задорно груб, один из двух греческих героев, тонкая особа, Улисс, человек осторожный, предусмотрительный, хитрый, неистощимый на увертки, надувательства, ловкий мореход, никогда не забывающий своих выгод. Воротясь к себе переодетым, он советует жене выманить у своих волокит побольше ожерельев и запястий и убивает их только тогда, когда они обогатили его дом. Когда отдается ему Киркея или когда Калипсо предлагает с ним уйти, он и тут из предосторожности заставляет их наперед поклясться. На обычный вопрос о его имени у него всегда готова какая-нибудь новая, хорошо придуманная история или родословная. Сама Паллада, которой, не зная ее, Улисс рассказывает свои сказки, невольно восхищаясь им, хвалит его так: "О хитрец, обманщик, пройдоха, неистощимый на плутни, кто превзойдет тебя в ловкости, кроме разве какого-нибудь бога!” И сыновья стоят батюшки: под конец так же, как и при начале цивилизации, ум преобладает у них над всем; он всегда первенствовал в их характере, а теперь он его переживает. Когда Греция была покорена, грек явился дилетантом, софистом, ритором, письмоводцем, критиком, наемным философом; потом, в эпоху римского господства, он уже просто гречишко (Graeculus), нахлебник, шут, сводник, вечный весельчак, проворный, сговорчивый, готовый на все услуги, на любое ремесло, подделывающийся ко всем характерам, вывертывающийся из всякой беды, бесконечно ловкий, первый родоначальник скапинов, маскариллей и всех хитрых скоморохов, которые, получив в наследие только один ум, пользуются им, чтобы жить на счет ближнего. Воротимся к лучшей эпохе древних греков и рассмотрим то великое их создание, которое приобрело им всего более прав на сочувствие и восхищение целого света: мы говорим об их науке, которая явилась ведь в силу того же инстинкта и тех же самых потребностей. У купца-финикиянина есть арифметические правила для его расчетов; у египтянина, землемера и наемщика, есть геометрические приемы для кладки громад из его песчаника, для обмежевки его поля, ежегодно поднимаемого нильскими разливами. Эта техника, эта рутина переходят от них к греку; но они не удовлетворяют его; ему мало промышленного и торгового приложения; он пытлив и умозрителен от природы; он хочет знать, отчего и почему все это так, хочет знать причину вещей, вникнуть в их основание[75]; он ищет отвлеченного доказательства и следит тонкую сеть идей, ведущих от одного положения к другому. Более чем за 600 лет до Рождества Христова Фалес бился уже над доказательством равенства углов в равнобедренном треугольнике. Древние передают, что Пифагор пришел в такой восторг, найдя решение своей теоремы о квадрате гипотенузы, что обещал богам гекатомбу (большое жертвоприношение из ста волов). Грека интересует сама по себе истина; увидев, что сицилийские математики применяют свои открытия к постройке машин, Платон укорял их, что они унижают этим науку; по его мнению, ей следует ограничиваться созерцанием одних идеальных линий. Действительно, греки всегда двигали науку вперед, не заботясь о практической ее пригодности. Так, например, их исследования о свойствах конических сечений нашли себе приложение только семнадцатью веками позже, когда Кеплер стал отыскивать законы движения планет. В этом великом деле греков, которое легло в основу всех наших наук, их анализ строг до такой степени, что и доныне еще в Англии геометрия Евклида служит руководством для учащихся. Разлагать идеи на составные их части, подмечать взаимную их связь, образовывать из них такую цепь, чтобы в ней были налицо все звенья и чтобы вся она примыкала к какой-нибудь бесспорной аксиоме или к группе общедоступных наблюдений, находить удовольствие в выковке, связывании, размножении и проверке этих звеньев, не имея притом другой цели, кроме одного желания видеть их все более и более многочисленными и надежными, – вот особый дар греческого ума. Эти люди только для того и мыслят, чтобы мыслить, и вот почему они создали науку. Мы и теперь не воздвигаем ни одной новой науки без того, чтобы не опереться на заложенный ими фундамент; часто мы обязаны им первым ярусом, иногда и целым крылом научного здания[76]; в математике тянется сплошной ряд изобретателей, от Пифагора до Архимеда, в астрономии – от Фалеса и Пифагора до Гиппарха и Птолемея, в естественных науках – от Гиппократа до Аристотеля и александрийских анатомистов, в истории – от Геродота до Фукидида и Полибия, в логике, политике, морали, эстетике – от Платона, Ксенофонта, Аристотеля до стоиков и неоплатоников. Люди, так сильно увлекшиеся идеями, не могли не полюбить прекраснейших из них, идей обобщения, объединения. В течение одиннадцати веков, от Фалеса до Юстиниана, их философия никогда не останавливалась в росте; всегда новая какая-нибудь система расцветала на почве старых или рядом с ними; даже когда умозрение было замкнуто в церковный догматизм, и тогда оно пробивало себе дорогу, прорастая сквозь расщелины. В громадном этом складе мы и теперь еще находим плодотворнейшие из наших гипотез[77]; греки так много мыслили, голова у них была сложена так отлично, что предположения их часто попадали на истину.
В этом отношении совершенный ими труд уступал разве только их рвению. В глазах этого народа два только занятия отличали человека от скота и грека от варвара: интерес к общественным делам и изучение философии. Прочтите Платоновых ’’Феага” и ’’Протагора”, и вы увидите тот неослабный энтузиазм, с каким даже очень еще молодые люди стремятся к идеям сквозь тернии и шипы диалектики. Особенно поразительна склонность их к самой диалектике; они не скучают дальними ее обходами, они любят охоту не меньше добычи, самое путешествие – столько же, как и его цель. Грек еще более резонер, чем метафизик или ученый; ему нравятся тончайшие отличия, неуловимейший анализ; он готов изо всего выткать паутину[78]. Тут ловкость его превосходит все; найдет ли эта слишком сложная и мелкая сеть какое-нибудь теоретическое и практическое применение, до этого ему нет дела; он любуется уже тем, как тонкие ее нити переплетаются между собой в едва заметные симметрические клеточки. Здесь национальный недостаток всецело обличает национальное дарование. Греция – мать спорщиков, риторов и софистов. Нигде в другом крае вы не увидите группы значительных и популярных людей вместе, которые, подобно Горгиям, Протагорам и Полосам[79], учили бы со славой и успехом выдавать дурное за хорошее и так правдоподобно отстаивать нелепейшую вещь, как бы ни казалась она невероятной[80]. Греческие риторы ухитрились славить моровую язву, лихорадку, клопов, Полифема и Терсита; один греческий же философ уверял, что мудрец был бы счастлив, даже жарясь в медном быке Фалариса. Нашлись школы, например школа Карнеада, защищавшие прямо противоположные тезисы; другие, подобно школе Энези-дема, старались доказать, что всякое положение так же истинно, как и обратное ему. В завещанном нам древностью наследии есть, между прочим, богатейший склад выводов и парадоксов; для утонченности эллинов было бы слишком мало простора, не вдавайся она точно так же в заблуждение, как и в истину.
Такова тонкость ума, которая из области отвлеченных рассуждений, будучи перенесена в литературу, образовала в ней так называемый ’’аттический” вкус, т. е. острое чутье оттенков, легкую грацию, неуловимую иронию, простоту слога, красоту речи, изящество доводов. Рассказывают, что Апеллес, придя к Протогену и не застав его, не сказал своего имени, а взял кисть и провел ею на приготовленной филёнке тонкую извилистую линию. Воро-тясь домой, Протоген увидел эту черту и воскликнул, что она, наверно, принадлежит Апеллесу; затем обвел рисунок еще более тонкой чертой и велел показать ее незнакомцу, если он зайдет в другой раз. Является снова Апеллес и, пристыженный тем, что хозяин перещеголял его, рассекает два первые контура новой чертой изумительной тонкости. Взглянув на нее, Протоген сказал: ”Я побежден и бегу обнять своего учителя”. Этот легендарный рассказ дает приблизительно самое верное понятие о греческом уме. Вот та тончайшая черта, какою он обводит контуры всех возможных предметов; вот то искусство, та точность и врожденная легкость, с какими он кружит в сплетении идей, чтобы сперва отчетливо различить, а потом ловко воссоединить их.
III
Ничего слишком громадного в окружающей природе. – Горы, реки, море. —Отчетливость рельефов, прозрачность воздуха. – Аналогия с этим в политическом быту. – Малость государства в Греции. – Приобретенная умом греков способность к определенным и ясным понятиям. – Следы этого характера в их истории. – Религия. – Слабое чувство всеобщего, вселенного. – Идея космоса. – Человековидные и определенные боги. – Грек под конец просто играет ими. – Политика. – Независимость колоний. – Города не умеют соединяться. – – Пределы и непрочность государственного строя греков. – Целостность и развитие человеческой природы.—Совершенное и вместе ограниченное понимание нашей природы и судьбы.
Это, однако, еще первая только черта, но есть и другая. Вернемся в страну, и тогда вторая черта присоединится к первой. Тут опять физический строй края положил на умственный склад племени тот самый отпечаток, какой мы находим в его созданиях и в его истории. В стране этой нет ничего громадного, гигантского; ни одна из видимых вещей не поражает несообразными, подавляющими размерами. Вы не найдете здесь ничего, подобного чудовищным Гималаям, или бесконечному сплетению чрезмерно обильной растительности, или громадным рекам, которые описываются в индейских поэмах, ничего подобного нескончаемым лесам, необозримым равнинам, беспредельному дикому океану Северной Европы. Глаз легко схватывает формы предметов и выносит точные от них образы. Все здесь средних размеров, все в меру, все легко и отчетливо дается внешним чувствам. Горы Коринфа, Аттики, Беотии, Пелопоннеса – всего в три или четыре тысячи футов вышиной; немногие лишь доходят до шести тысяч; надо зайти на окраину Греции, на самый север, чтобы встретить высь, подобную пиренейским и альпийским; это именно Олимп, который греки за то и сделали жилищем богов. Самые большие реки – Пеней и Ахелой – длиной в каких-нибудь тридцать или сорок французских миль, не более; остальные обыкновенно только ручьи и потоки. Само море, столь яростное и грозное на севере, тут предстает чем-то вроде озера. Вы не чувствуете пустынной его громадности: постоянно виден берег или какой-нибудь остров; нигде ни производит оно мрачного впечатления, нигде не представляется каким-то свирепым, губительным существом; оно не носит мертвенного или свинцово-мутного цвета, не опустошает своих берегов и не имеет тех приливов, которые окаймляли бы его грудами кругляков и грязи. Оно так везде светится и, выражаясь словами Гомера, ’’блещет то цветом вина, то фиалковым отливом”; красноватые скалы его берегов окружают ясную поверхность вод узорчатой каймою, будто рамкою. Вообразите себе души, новые и нетронутые, которым взамен всякого воспитания даны подобные картины. Глядя на них, они до того привыкнут к определенным и ясным образам, что никогда не испытывают смутной тревоги, крайней мечтательности, припадков тоскливого гадания о никому неведомом потустороннем мире. Так сложилась та умственная форма, откуда все идеи выльются потом с особенной рельефностью. Двадцать разных почвенных и климатических условий соединились для завершения этой формы во всей полноте. Почвенный рельеф земли тут еще осязательнее виден, чем у нас в Провансе; она не сглажена и не прикрыта, как в наших влажных северных краях, повсеместно простертым слоем пахотной земли и растительной зелени. Земной остов, геологический костяк, серо-фиолетовый мрамор проступает наружу торчащими утесами, растягивается в виде обнаженных круч, рисуется в небе своим резким профилем, замыкает своими островерхими высями и гребнями долины, так что весь пейзаж, изборожденный крутыми изломами, иссеченный зазубринами и совсем нежданными углами, представляется рисунком какой-то могучей руки, у которой прихотливая фантазия не отнимает, однако, ни верности, ни точности. Качество воздуха придает еще более выпуклости предметам. Воздух преимущественно Аттики прозрачен на удивление. Обогнув мыс Сунион, мореплаватель за десятки миль различал шеломный гребень Паллады на Акрополе. Гора Гиметт – в двух французских милях (около восьми верст) от Афин, а европеец, высаживаясь на берег, думает сходить туда пешком, пока готовят для него завтрак. Вечно блуждающие в нашей атмосфере пары там вовсе не смягчают очертаний дали; последние предстают нам не в смутном, полускраденном и как бы затушеванном слегка виде, – они ярко выделяются на своих фонах, ни дать ни взять как фигуры античных ваз. Добавьте еще ко всему этому великолепный блеск солнца, крайне усиливающий контрасты света и теней и присоединяющий противоположность сплошных масс к отчетливости отдельных линий. Так сама природа, запечатлевшая в мысли грека свои формы, прямо клонит его к ясным и определенным созерцаниям. Туда же клонит она его и косвенно посредством той политической ассоциации, к которой она его ведет и которою ограничивает его почти поневоле.
В самом деле, сравнительно со своей славой Греция ведь только лоскуток земли, и она покажется вам еще меньше, если вы обратите внимание на крайнюю ее раздробленность. С одной стороны – главные хребты и боковые цепи гор, с другой стороны – море делят ее на множество разных областей, тесно замкнутых каждая в своей ограде; Фессалия, Беотия, Арголида, Мессения, Лакония – все сплошь острова. Море труднопроходимо в варварские времена, а ущелья гор всегда удобны для защиты. Поэтому народам Греции легко было предохранить себя от завоевания и существовать в качестве мелких независимых государств одно возле другого. Гомер насчитывает их около тридцати[81], а их стало несколько сот, когда возникли и умножились колонии. На наш новый взгляд, любое греческое государство кажется миниатюрой. Арголида простирается всего на восемь или на десять миль в длину и от четырех до пяти в ширину; Лакония почти на столько же; Ахейя – узкая гряда земли на спускающейся к морю горной цепи. Вся Аттика не составит половины меньшего из наших департаментов; территория Коринфа, Сикиона, Мегары ограничивается только городской округой: обыкновенно целое государство, в особенности на островах и в колониях, составляет город с небольшим участком или окружающими его мызами. С одного акрополя простыми глазами виден был другой или же горный кряж соседнего владения. В таких тесных пределах все представляется уму совершенно ясно; нравственно-мыслимое отечество не заключает в себе ничего гигантского, отвлеченного и смутного, как у нас; оно доступно внешним чувствам и сливается в одно с физической родиной; оба эти понятия запечатлены в уме гражданина совершенно точными очертаниями. Чтобы представить себе Афины, Коринф, Аргос или Спарту, ему достаточно вообразить разрезы родной долины или силуэт родного города. Он знает в нем всех граждан, точно так же, как живо помнит все его контуры, и узость,его политического быта, подобно форме его тесной и природной области, дает ему заранее тот умеренный и ограниченный тип, в который замкнутся все его понятия и соображения.
Рассмотрите в этом отношении религию греков: у них нет чувства той необъятной бесконечности, в которой любое поколение, любой народ, всякое конечное существо, как бы ни было оно велико, представляется одним только моментом, одной точкой. Вечность не воздвигает перед ними своей пирамиды из целых миллиардов веков как чудовищную гору, в сравнении с которой наша маленькая жизнь какая-то крапинка или едва заметная кучка песку. Они не заботились, как другие народы, индийцы, египтяне, семиты, германцы, ни о беспрерывно возрождающемся круге метемпсихозов, ни о вечном тихом сне могилы, ни о той бесформенной и бездонной пропасти, из которой твари выходят, как легкий, мимолетный пар, ни о едином всепоглощающем и грозном Боге, в котором сосредоточиваются все силы естества и для которого небо и земля только шатер и подножие ног его, ни о том высшем, таинственном, незримом могуществе, которое благочестивая душа прозревает сквозь видимый мир, за его пределами[82]. Их идеи слишком для того ясны, да и построены на слишком малый размер. Вселенское ускользнуло от них совсем или, по крайней мере, коснулось их только стороною, они не создали себе из него Бога, еще менее Бога личного; в религии их оно стоит на заднем плане: это – Мойра, Айса, Эймармене (судьба, парка, рок), другими словами – определенный каждому жребий. Ни единому существу, человек ли оно или бог, не избежать выпавших ему на долю событий; это, собственно говоря, отвлеченная истина; если Мойры Гомера – богини, то благодаря лишь вымыслу; под поэтическим выражением, как под прозрачной водой, виднеются неразрывное сцепление фактов и неизгладимые рубежи или пределы вещей. Науки наши допускают пределы эти в настоящее время, и идея греческой судьбы то же самое, что новейшая идея закона. Все определено – вот что говорят наши формулы и что предчувствовали греки в своих вещих гаданиях.
Если они развивают эту идею, то для того лишь единственно, чтобы еще более упрочить грани, полагаемые ею любому данному существу. Из темной силы, развертывающей и распределяющей жребий, они создали свою Немезиду[83], карательницу горделивых и смирительницу заносчивых. ”Ни в чем излишка”, – гласило одно из великих прорицаний оракула. Беречься всяких чрезмерных желаний, страшиться полного благоденствия, не допускать себя до опьянения, блюсти меру во всем – вот совет, даваемый всеми поэтами и всеми мыслителями великой эпохи. Нигде инстинкт не был так ясен, а разум так самодеятелен, как у греков. Когда при первом пробуждении мысли они пытаются постигнуть мир, он выходит у них прототипом их собственного ума, совершенным его образом. Это – порядок, космос, гармония, прекрасное и стройное расположение вещей, существующих и преобразующихся сами собой. Впоследствии стоики уподобят мир городской общине, управляемой наилучшими законами. Тут нет места ни с чем не соизмеримым, неопределенным божествам, нет места и богам-деспотам, всеистребляющим самовластцам. Религиозное головокружение никак не входит в эти здоровые, строго уравновешенные умы, представляющие себе мир в подобном виде. И боги скоро превращаются в людей; у них есть родители, дети, своя родословная, своя история, своя одежда, свои чертоги, свое тело, подобное нашему; они подлежат страданию, подвержены ранам; величайшие из них, сам Зевс, когда-то ведь воцарились, и, пожалуй, будет время, что они увидят конец своего владычества[84]. На щите Ахиллеса, изображающем войско, ’’люди шли, предводимые Аресом и Афиной, золотые сами и одетые в золото, красивые и рослые, как подобает богам, ибо люди все сплошь меньше их”. В самом деле, между ими и нами и нет ведь другой разницы. Не раз в Одиссее Улисс и Телемах, случайно повстречавшись с каким-нибудь высоким и пригожим человеком, спрашивают у него, не бог ли он? Столь человеческие боги, конечно, уж не смутят, не озадачат замыслившего их ума; Гомер распоряжается ими по своей воле; он то и дело заставляет Афину вступаться во всякие мелочи, чтобы, например, указать Улиссу дом Алкиноя или то место, куда упал его диск. Поэт-теолог разгуливает в божеском своем мире свободно и весело, словно играющее дитя. Он тут потешается, смеется; Аполлон шутя спрашивает у Гермеса, желал ли он быть на Аресовом месте? ’’О, если бы на то была милость богов, о царственный луконосец Аполлон! Пусть обовьют меня узы трижды более неразрешимые и пусть глядят на то все боги и богини – лишь бы только быть мне поближе к светлокудрой Афродите!” Прочтите гимн, где Афродита предлагает себя Анхизу, и особенно гимн Гермесу, который в самый день рождения оказывается уж выдумщиком, вором, надувалой, как истый, завзятый грек; только все это выходит у него так грациозно, что рассказ поэта похож больше на какую-нибудь шалость скульптора. Аристофан в ’’Лягушках” и в ’’Облаках” обходится еще бесцеремоннее с Геркулесом и Вакхом. Все это приводит наконец к декоративным богам Помпеи, к милым Лукиановым насмешкам, к Олимпу одних уже только забав, чисто комнатному и театральному. Столь близкие человеку боги вскоре становятся его товарищами, а потом превращаются в игрушку. Тот ясный ум, который, чтобы сделать их общепонятнее, отнял у них и бесконечность и таинственность, естественно, узнал в них после свое же собственное создание и стал потешаться вымышленными им мифами.
Обратим теперь внимание на практическую жизнь греков. Тут также нет у них должной чинности, настоящего благоговейного чувства. Грек не умеет, как римлянин, подчиниться какому-нибудь крупному единству, например обширной родине, которую постигаешь умом, хотя и не видишь вполне глазами. Он не переступил той формы общественности, в которой государство только еще город, не более. Колонии их сами себе госпожи; они получают из метрополии первосвященника и вообще относятся к ней с чувством детской любви, но этим и ограничивается их зависимость. Они – эмансипированные дочери и точь-в-точь молодой афинянин, который, возмужав, не зависит более ни от кого и становится полным себе властелином; тогда как римские колонии не более как военные посты и подобны молодому римлянину, который и вступив уже в брак, состоя на государственной службе даже в сане консула все еще чувствует на себе жесткую руку отца и тот деспотический авторитет, от которого ничто, кроме разве троекратной продажи (тем же отцом), не может его избавить. Отречься от своей воли, подчиниться далеким властям, которых никогда и не видывал' считаться только долею обширнейшего целого, забыть себя ввиду великого национального интереса – вот чего греки никогда не могли надолго выдержать. Они дробятся на части, ревнуют друг к другу, крамольничают; даже когда Дарий и потом Ксеркс вторгаются в их отечество, им очень трудно кое-как соединиться; Сиракузы отказывают во всякой помощи, потому что не им предоставлено главное начальство; Фивы держатся мидийской партии. Когда Александр силою соединил их для завоевания Азии, лакедемонцы все-таки не явились на призыв. Ни одному городу не удается составить из других союза под своим главенством. Спарта, Афины, Фивы безуспешно берутся за это дело; лишь бы не повиноваться соотечественникам, побежденные города скорее обращаются за деньгами к персам и готовы раболепствовать перед великим царем. В любом городе враждебные партии изгоняют одна другую по очереди, а затем, как в итальянских республиках, изгнанники норовят возвратиться силою при помощи иноземцев. Раздробленную таким образом Грецию завоевывают полуварварские, но привыкшие к дисциплине народы, и независимость каждого города особняком ведет к порабощению целой нации. Падение это не случайно, а просто неизбежно. Государство в том виде, в каком понималось оно греками, до того уж мало, что не в силах сопротивляться напору громадных масс извне; это гениальное, совершенное произведение искусства слишком хрупко. Величайшие мыслители их – Платон, Аристотель – низводят государство до общины в пять или десять тысяч свободных граждан. В Афинах было двадцать тысяч; большее число было бы уже, по мнению греков, беспорядочною толпой. Они не в состоянии и вообразить себе, чтобы можно было хорошо устроить более широкий союз. Покрытый храмами, освященный костями героев-основателей и изображениями племенных богов, Акрополь, агора (место народных сходок), театр, гимназия и несколько тысяч людей, умеренных в пище и питье, пригожих, храбрых и свободных, которые заняты ’’философией и общественными делами”, которым служат рабы, возделывающие землю и производящие все ремесла и промыслы, – вот городская община, которая предстает их уму, чудное создание искусства, ежедневно возникающее и завершающееся на их глазах во Фракии, по берегам Эвксина, Италии и Сицилии; вне этой рамки всякая форма общественной жизни кажется им какою-то путаницей и варварством; совершенство ее обусловлено малостью размеров, и потому при сильных столкновениях человечества ее станет ненадолго.
Этим неудобствам отвечают, впрочем, и не меньшие преимущества. Хотя религиозные понятия греков лишены серьезности и величия, хотя их политическому строю недостает устойчивости и прочности, зато они свободны от тех нравственных порч, к каким величие религии или государства неизбежно ведет человеческую природу. Повсюду цивилизация нарушала естественное равновесие способностей и наклонностей, подавляла одни из них и преувеличивала другие, жертвовала будущей жизни настоящей, божеству – человеком, государству – личностью; она создала индийского факира, египетского или китайского чиновника, римского законника и сыщика, средневекового монаха, подданного, подначального и (опекаемого отовсюду) гражданина новых времен. Под ее давлением человек то совсем стирался, то уж воспарял вдруг к облакам. Он превратился в колесо громадной машины, в которой смотрел на себя, как на пылинку перед бесконечным. В Греции же он подчинял себе свои учреждения, вместо того чтобы самому им подчиняться. Он сделал из них средство, а не цель. Он воспользовался ими, чтобы гармонически развить всего себя; он мог быть в одно и то же время поэтом, философом, критиком, сановником, жрецом, судьей, гражданином, атлетом, упражнять свои члены, свой ум и свой вкус, соединять в себе двадцать разнородных дарований так, чтобы ни одно из них не мешало притом другому, быть воином, не будучи автоматом, быть плясуном и певцом, не превращаясь в театрального фигуранта, быть мыслителем и писателем, не став книгоедом и кабинетным затворником, решать общественные дела, не поручая своей власти представителям, поклоняться своим богам, не замыкаясь в догматические формулы, не сгибаясь под тиранией никакой сверхчеловеческой силы, не уходя весь в созерцание существа неопределенного и всеобщего. Составив себе осязательный и точный очерк человека и жизни, греки как будто бы забыли все остальное и решили про себя так: ’’Вот действительный человек – подвижное и чувствующее тело, одаренное мыслью и волей, и вот действительная жизнь – шестьдесят или семьдесят лет от первого крика новорожденного и до безмолвия могилы. Постараемся сделать это тело возможно более бодрым, крепким, здоровым, красивым, развернуть эту мысль и волю в кругу всяких мужественных дел, украсить эту жизнь всеми прелестями, какие только могут создать и вкусить утонченные чувства, быстрый ум, душа живая и гордая”. Далее они ничего не видят, а если что и есть за этой чертой, оно представляется им чем-то вроде страны киммерийцев, о которой говорит Гомер, бледной страны мертвых без солнца, одетой мрачными туманами, где, подобно летучим мышам, рыщут с пронзительными криками стаи жалких привидений, наполняющих и согревающих свои жилы алой кровью, которую высасывают они на могилах из своих жертв. Общий строй ума замкнул желания и силы греков в том определенном кругу, который вполне озарен ярким солнцем, и вот на этом-то поприще, так же освещенном и так же ограниченном, как их ристалище для бега, надобно любоваться их деятельностью.








