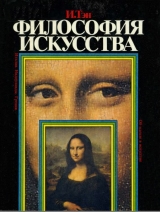
Текст книги "Философия искусства"
Автор книги: Ипполит Адольф Тэн
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
Как оно бывает в серьезных интересах и делах, так же точно и в сфере искусства и удовольствия. Умные люди всего умнее, когда действуют сообща. Для того чтобы иметь художественные произведения, нужны прежде всего художники, да необходимы также и мастерские. В то время существовали мастерские и сверх того художники составляли из себя корпорации. Все крепко держались друг за друга, и в пределах одного большого общества члены разных мелких обществ тесно и свободно сливались воедино. Дружеские отношения сближали их, а соперничество подстрекало. Мастерская была тогда просто лавкой, а не парадным салоном, как теперь, убранным с одной целью – вызвать побольше заказов. Ученики были тогда работниками, делившими труд и славу со своим мастером-хозяином, а не любителями, которые, расплатившись за урок, чувствуют себя потом вполне свободными. Мальчик обучался в школе читать, писать и немножко орфографии; затем тотчас же, двенадцати или тринадцати лет, он поступал к живописцу, ювелиру, архитектору, ваятелю; обыкновенно мастер-хозяин совмещал все это в себе, и юноша изучал под его руководством не один только клочок искусства, а все искусство целиком. Он работал за него и на него, исполняя, что полегче, – фоны картин, мелкие украшения, второстепенные, придаточные фигуры; он лично участвовал в художественном произведении и интересовался им, как своим собственным делом; он был сыном и вместе домочадцем-прислужником; его называли созданием, креатурой мастера. Ел он с ним за одним столом, бегал у него на посылках, спал под ним на нижних полатях, получал от него трепки и головомойки, а иногда пинки и от его жены[28].
«Я прожил, – говорит Рафаэлло ди Монтелупо, – с двенадцати до четырнадцати лет, то есть два года, у Микеланьоло Бандинелли, и по большей части только и делал, что раздувал меха для хозяйских работ; иногда садился я, впрочем, за рисование. Однажды хозяин велел мне прокалить, то есть снова положить в огонь, несколько золотых репейков, которые изготовлялись для Лоренцо Медичи, герцога Урбинского. Он бил их молотком по наковальне, и пока возился с одним, я прокаливал между тем другой. Приостановясь, чтоб сказать что-то потихоньку одному из своих приятелей, и не заметив, как я в это время принял холодную пуговицу и положил на ее место раскаленную, он взялся за нее и обжег себе два пальца, которыми ее хватил; крича и прыгая по всей лавке, он хотел исколотить меня; но я ловко увертывался от него туда и сюда и решительно не дался ему в руки. Когда, однако ж, настал обеденный час и я проходил мимо дверки, у которой сидел хозяин, он схватил меня за волосы и отвесил мне несколько ’’добрых пощечин”».
Это ведь нравы каких-нибудь слесарей или каменщиков, грубые, открытые, веселые и дружелюбные; ученики путешествуют вместе с хозяином и наряду с ним бьются кулаками и шпагой по большим дорогам. Они обороняют его и от нападений, и от ругани – вы уже видели, как ученики Рафаэля и Челлини обнажают за честь хозяйского дома саблю и кинжал.
Мастера, ко взаимной своей выгоде, живут между собой также коротко и дружно. Одна из их артелей во Флоренции называлась артелью Котла и могла состоять всего только из двенадцати членов; главными там были: Андреа дель Сарто, Джан Франческо Рустичи, Аристотель да Сангалло, Доменико Пулиго, Франческо ди Пеллегрино, гравер Робетта и музыкант Доменико Бачелли. Каждый из них имел право привести с собой на сходку троих или четверых гостей. Каждый приносил по кушанью своего изобретения, а кто случайно сходился в выдумке с другим, тот платил штраф. Взгляните, что за сила и что за соки бродили в этих взаимно оживляемых друг другом умах и каким образом пластические искусства находили себе у них место даже за ужином. Однажды Джан Франческо берет вместо стола громадную кадку и гостей помещает внутри ее; тогда из центра кадки поднимается вдруг дерево, и ветви предлагают каждому его блюдо, между тем как снизу слышится оркестр музыки. Поданное Джаном блюдо был огромных размеров пирог, в котором виднелся Улисс, приказывающий варить своего отца для того, чтобы возвратить ему молодость[29]; обе фигуры не что иное, как лишь вареные каплуны, обделанные в человеческую форму и гарнированные разного рода вкусными вещами. Андреа дель Сарто приносит восьмигранный храм, утвержденный на колоннах; место пола занимает большое блюдо студня, разделенного на клетки, изображающие мозаику; колоннами, которые казались из порфира, на деле были толстые сосиски или колбасы; базисы и капители были из пармезана, карнизы из сладкого печенья, а кафедра из марципанов. Посередине стоял аналой из холодной говядины с развернутым на нем служебником из вермишели, где буквы и музыкальные ноты обозначались перечными зернами; вокруг размещены были певчие – жареные дрозды, каждый с широко разинутым клювом, позади их два жирных голубя изображали собой басов, а шесть маленьких овсянок—дискантов. Доменико Пулиго принес поросенка, представляющего деревенскую пряху, которая, сидя за работой, в то же время стережет и только что выведшихся цыплят; Спилло доставляет слесаря, сделанного из большого гуся. Вы отсюда слышите громкую хохотню фантастической, неудержной веселости. Другая артель, артель каменщичьей Лопатки, к ужинам присовокупляет еще маскарады. Забавляясь, гости представляют то похищение Прозерпины Плутоном, то любовь Венеры и Марса, то ’’Мандрагору” Макиавелли, ’’Suppositi” Ариоста, ’’Каландру” кардинала Биббиены. В другой раз, так как эмблемой их товариществу служит каменщичья лопатка, председатель вменяет членам в обязанность явиться в одежде каменщиков, со всеми орудиями этого ремесла и велит им возвести постройку из мяса, хлеба, пирожков и сахару. Избыток воображения выливается в таких живописных проказах. Человек тут, по-видимому, настоящий ребенок, до того еще молода его душа; всюду он заносит любимые им телесные формы; он превращается в актера и мима, он играет своим искусством, до того он переполнен им.
Кроме таких ограниченных ассоциаций или товариществ существовали тогда и другие, более широкие, соединявшие всех сплошь художников в одном общем усилии, в одном общем порыве. Вы сейчас видели на их ужинах веселье, откровенность, товарищество, простоту отношений и неудержную шутливость, напоминающие рабочих; но у них также проявлялся и патриотизм рабочего люда. Они с гордостью говорят о своей ’’славной флорентийской школе”. По их мнению, и нет другой, где можно бы было научиться рисунку как следует. ’’Сюда, – говорит Вазари, – стекаются люди, совершенные во всех искусствах, и особенно в живописи, так как здесь подстрекают вас с трех разных сторон. Во-первых, сильная и настойчивая критика, потому что самый воздух края производит свободные от природы умы, которые не могут удовлетвориться посредственностями и ценят только хорошее и изящное, не обращая внимания на авторское имя. Во-вторых, необходимость трудиться, чтобы жить, т. е. тут надо беспрестанно работать и рассудком, и изобретательностью, быть сметливым и расторопным в любом начатом деле – короче, уметь нажить себе хлеб, ибо страна, не будучи ни богатой, ни обильной, не может, как другие прочие, дешево вас прокормить. В-третьих, – и это не менее важно, чем две предыдущие причины, – опять-таки самый воздух страны поселяет в людях всех профессий такую жажду славы и почестей, что они приходят в негодование от одной мысли стать, я уж не говорю – ниже, а даже и наравне только с теми, которых признают за мастеров, но считают такими же людьми, как и они сами. Честолюбие и соревнование дошли здесь до того, что люди, от природы рассудительные и добрые, становятся подчас неблагодарны и злословны”. Зайди речь о том, чтобы почтить чем-нибудь особенным свой город, – и всякий спешит отличиться самой лучшей работой, а соревнование, подстрекающее каждого превзойти других, ведет их постепенно к совершенствованию. Когда в 1515 году папа Лев X вздумал посетить свою родину, Флоренцию, город созвал всех своих художников, чтобы принять гостя как можно великолепнее. Соорудили двенадцать триумфальных арок, украшенных статуями и живописью; в промежутках высились разные монументы, обелиски, колонны и группы, подобные римским. ”На Пьяцца деи Синьори Антонио да Сангалло построил восьмифасный храм, а Баччо Бандинелли поместил на Лоджии статую гиганта. Между Бадиа и дворцом подесты Граначчио и Аристотель да Сангалло соорудили триумфальную арку, а на углу Бискери-де-Россо воздвиг другую со множеством различных, превосходно расположенных фигур. Но всего более понравился фасад Санта-Марии дель-Фиоре, возведенный из дерева, на котором Андреа дель Сарто написал светотенью несколько таких прекрасных историй в лицах, что лучше нельзя было и желать. Архитектор Якопо Сансовино украсил этот фасад многочисленными историческими барельефами и изящными скульптурами, по плану покойного Лоренцо Медичи, отца папы. Тот же Якопо поставил на площади Санта-Мария Новелла коня, подобного римскому, который показался очень изящным. Апартаменты для папы к улице делла-Скала были тоже убраны бесчисленным множеством орнаментов, а половина этой улицы – рядом превосходных лицевых историй, исполнен-ных разными художниками, но рисованных по большей части рукой Баччо Бандинелли”.
Вы видите, как многообъемен здесь сноп талантов и на какую высоту подняла его дружная ассоциация. Город старается себя приукрасить; нынче весь он занят этим для какого-нибудь кардинала или для въезда державного лица; завтра и в течение целого года он будет работать по кварталам, корпорациям, братствам или монастырям, и каждая небольшая группа, одушевляясь при этом своим рвением, ’’более богатая сердцем, нежели деньгами”[30] и столько же суеверная, сколько истинно народная, всю славу свою полагает в том, чтобы поизящнее украсить свою часовню или свою обитель, свой портик или место своего сборища, наряды и знамена своих турниров, свои колесницы и свои Ивановские (носимые в Иванов день) значки. Никогда взаимное возбуждение не достигало такой всеобщности и силы, никогда температура, порождающая пластические искусства, не была столь благоприятна, никогда не видано подобного момента и подобной среды. Стечение обстоятельств, в самом деле, было единственным в своем роде: племя, одаренное ритмическим и фигуративным (лицетворным) воображением, достигает высоты новейшей культуры, сохранив между тем нравы еще феодальные, примиряет энергические инстинкты с развитием утонченных идей, мыслит чувственными образами и заразительной силой самородного, симпатического порыва мелких свободных групп, составляющих это племя; оно уносится до крайних пределов своего гения и изобретает идеальный образец, телесное совершенство которого одно способно выразить прекрасный языческий характер, возрождаемый только на миг. От такой-то совокупности условий зависит всякое художество, изображающее формы тела. От такой-то совокупности зависит и великая живопись. Явись какой-нибудь недостаток, какая-нибудь порча в этих условиях – обнаружится недостаток или порча и в самой живописи. Она ведь не возникала до тех пор, пока совокупность условий не была полна, а едва последняя стала распадаться, как испортилась и живопись. По пятам шла она за образованием этой совокупности, за ее развитием, разложением и упадком. Она оставалась символической и мистической до конца XIV столетия, под влиянием христианско-богословских идей. Символическая и мистическая школа продержалась до половины XV столетия[31], во время долгой борьбы христианского духа с языческим. В середине XV века живопись нашла себе ангельского истолкователя в святой душе Беато Анджелико, предохранившего себя от соблазнов новоязычества в тиши монастырских стен. С первых же годов XV столетия и по следам скульптуры живопись заинтересовалась реальным и крепким телом, благодаря открытию перспективы, изучению анатомии, усовершенствованию лепки, применению портретной передачи и употреблению масляных красок; в то же время смягчение войн, укрощение городских смут, успехи промышленности, увеличение богатства и благосостояние возрождение античной литературы и античных идей обратили на вопросы текущей жизни глаза, устремленные дотоле к жизни будущей, и надежду на небесное блаженство заменили исканием человеческого счастья. От точного подражания живопись перешла к прекрасному изобретению или творчеству, когда в эпоху Леонардо да Винчи и Микеланджело, Лоренцо Медичи и Франческо делла Ровере окончательно сложившаяся (новая) культура, расширив умственный кругозор и завершив развитие мысли, породила наряду с возрождением классической древности народную литературу и, поверх легких сперва очерков эллинизма, водворила во всей полноте язычество. Целым полустолетием долее, чем где-либо, просуществовала она в Венеции, этом оазисе, укрытом от варваров, этом независимом городе, где веротерпимость поддерживалась на глазах у папы, патриотизм на глазах Испании и воинственные нравы перед лицом турок. Живопись изнежилась при Корреджо и охладела при наследниках Микеланджело, когда вторжение иноземцев и многие скопившиеся бедствия надломили пружину человеческой воли, когда светская монархия, церковная инквизиция и академический педантизм обузили и умалили струю народного творчества, когда нравы облеклись в приличную внешность, а умы приняли сентиментальный оборот, когда живописец, дотоле наивный ремесленник, превратился в вежливого кавалера, когда лавка и работники-ученики уступили место ’’Академии”, когда смелый, вольный художник, выкидывавший и ваявший свои шалости на ужинах каменщичей Лопатки[32], сделался дипломатом-царедворцем, убежденным в своей важности, блюстителем этикета, сторонником мелочных правил, тщеславным льстецом прелатов и вельмож. Такое точное и беспрерывное соответствие показывает нам, что одновременность великого искусства и его среды вовсе не случайное лишь совпадение; напротив того, среда зарождает, развивает, ведет к зрелости, порче и разложению самое искусство, несмотря ни на какие случайности громадной людской толкотни, ни на какие неожиданные выходки или скачки личного своеобразия. Среда приносит или уносит с собой искусства, как более или менее значительное охлаждение воздуха осаждает или уничтожает росу, как более или менее слабый свет солнца питает или сушит зеленые части растений. Подобные же нравы, и в своем роде еще более совершенные, произвели некогда подобное же и еще более совершенное искусство в маленьких воинственных городах и в благородных гимназиях Древней Греции. Подобные нравы, но в своем роде несколько менее совершенные, водворялись в Испании, во Фландрии, даже во Франции, порождают там подобное же искусство, хотя, конечно, с уклонениями и изменениями, зависящими от изначальных способностей тех племен, куда они переходят; и отсюда можно, наверное, заключить, что для появления на сцене мира подобного опять искусства необходимо, чтобы поток времен установил наперед подобную же и среду.
ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА В НИДЕРЛАНДАХ
(Посвящается Гюставу Флоберу)
Отдел первый. Постоянные причины
Две группы народов в европейской цивилизации. – Итальянцы среди латинских народов. – Фламандцы и голландцы среди народов германских. – Национальный характер фламандского и голландского искусства.
В трех предыдущих курсах я излагал вам историю живописи в Италии; в этом году мне предстоит ознакомить вас с историей живописи в Нидерландах. Две группы народов были и остаются до сих пор главными деятелями новейшей цивилизации: с одной стороны, латинские или облатиненные народы, итальянцы, французы, испанцы и португальцы; с другой – народы германские, бельгийцы или фламандцы, голландцы, немцы, датчане, шведы, норвежцы, англичане, шотландцы и американцы. В группе латинских народов итальянцы, бесспорно, лучшие художники; в группе народов германских такими, конечно, являются фламандцы и голландцы, так что, изучая историю искусства у этих двух народов[33], мы изучаем историю новейшего искусства у самых крупных и противоположных его представителей.
Дело столь обширное и разнообразное, живопись, державшаяся около четырехсот лет, искусство, насчитывающее столько великих произведений и запечатлевшее их всеобщим и своеобразным характером, – такое дело прямо уже национально; оно тесно связано со всею жизнью народа, корень его в самом народном характере. Это – цвет, подготовленный издалека и из глубины выработкою жизненных соков, сообразно приобретенному строю и первичный природе принесшего тот цвет растения. По усвоенному нами методу мы наперед изучим ту заветную и предварительную историю, которая объяснит нам историю внешнюю и окончательную. Я сперва покажу вам зерно, т. е. породу или племя, с их основными неизгладимыми свойствами, проявляющимися при всех возможных обстоятельствах и во всех климатах; затем – растение, т. е. самый народ, с его изначальными качествами, разросшимися или, напротив, суженными впоследствии и уж во всяком случае приложенными к делу и видоизмененными его историей или его средой; и наконец, цвет, т. е. искусство, и именно живопись, которою все это развитие завершилось.
I
Племя. – Противоположность германских племен латинским. – Тело. – Животные инстинкты и способности. – Недостатки германских племен. – Преимущества их. – Наклонность к труду и к свободной ассоциации. – Потребность истины.
Люди, населяющие Нидерланды, принадлежат, большею частью, к тому племени, которое наводнило Римскую империю в V веке и тогда же впервые наряду с латинскими народами потребовало себе места в божьем мире. В некоторых краях, например в Галлии, Испании и Италии, они доставили только предводителей и поддержку первобытному населению. В других странах, например в Англии и Нидерландах, они прогнали, истребили и совершенно заменили собою прежних обитателей, и их чистая или почти чистая кровь течет и теперь в жилах людей, занимающих поныне эту местность. В продолжение всех средних веков Нидерланды назывались Нижней Германией. Бельгийский и голландский языки только ведь наречия немецкого, и за исключением Валлонской стороны, где говорят испорченным французским языком, они составляют народный говор всего края.
Рассмотрим черты, общие всему этому германскому племени, и разности, противопоставляющие его народам латинским. В физическом отношении мы находим более белое и мягкое тело, глаза обыкновенно голубые, часто цвета фаянсовой лазури или светлые, и чем севернее, тем светлее, а в Голландии стекловатые; волосы бледно-льняного цвета, почти белые у маленьких детей; еще древние римляне удивлялись этому и говорили, что у германских детей стариковские волосы. Цвет лица у молодых девушек пленительно-розовый, чрезвычайно нежный; у юношей, а иногда и пожилых людей он оживлен румянцем, обыкновенно же среди рабочих классов и в зрелом возрасте я встречал его бледноватым, брюквенным, а в Голландии похожим на цвет сыра, и притом еще не свежего, а уже поиспортившегося. Тело чаще всего большое, но неотесанное или слишком приземистое, тяжелое и некрасивое. Равно и черты лица зачастую неправильны, особенно в Голландии; они как-то взбуровлены, скулы торчат наружу и челюсти выступают напоказ. Вообще недостает скульптурной обточки и благородства. Вы редко встретите здесь правильные черты лица, каких много попадается вам в Тулузе и Бордо, красивые и гордые головы, какими изобилуют окрестности Флоренции и Рима; гораздо чаще найдете слишком крупные черты, какое-то неладное соединение форм и тонов, странные одутлости, ходячие карикатуры. Будь это произведения искусства, живые фигуры эти выдавали бы на каждом шагу капризную руку художника своим неправильным и вялым вместе рисунком.
Если теперь мы взглянем на это тело в его действии, то найдем, что способности и животные потребности его грубее, чем у латинцев; вещество и масса как будто преобладают в нем над движением и душой; оно прожорливо и даже кровожадно. Сравните аппетит англичанина или голландца с аппетитом француза или итальянца; пусть те из вас, кто бывал в тех краях, вспомнят общие столы и число блюд, в особенности мяса, какое преспокойно и по нескольку раз в день проглатывает себе какой-нибудь обитатель Лондона, Роттердама или Антверпена; в английских романах завтракают то и дело, и под конец третьего тома вы видите, что самые чувствительные героини истребили бездну поджаренных в масле тартинок, чашек чаю, кусков дичи и бутербродов с мясом. Этому немало содействует сам климат; под густым северным туманом невозможно поддержать свои силы одной чашкой супа, или ломтем хлеба, натертого луком, или полутарелкой макарон, как делает мужик латинского племени. В силу тех же причин германец любит крепкие напитки. Это заметил еще Тацит, а Луиджи Гвиччардини, свидетель XVI столетия, на которого придется сослаться еще раз, говорит о бельгийцах и голландцах: ’’Почти все они наклонны к пьянству и до страсти предаются этому пороку; здесь наливаются по горло под вечер, а иногда и с раннего утра’’. И теперь в Америке и в Европе, в большей части германских земель неумеренность – национальный недостаток; половина самоубийств и душевных болезней положительно происходит от него. Даже у людей среднего состояния и, вообще говоря, благоразумных влечение к крепким напиткам очень сильно. В Германии и Англии и благовоспитанному человеку не в укор выйти из-за стола навеселе; а по временам он напивается до самозабвенья; у нас это уже пятно, в Италии оно просто слывет позором; в Испании за последнее еще столетие одно название пьяницы считалось таким оскорблением, которого не могла смыть дуэль: удар ножом был в таком случае единственным ответом. Ничего подобного не услышите ни в одной германской стране. Бесчисленное множество полупивных, всегда набитых посетителями, громадный сбыт крепких напитков и всевозможных сортов пива свидетельствуют там о вкусах публики в этом отношении. Войдите в Амстердаме в одну из этих лавочек, полных лоснящимися бочками, где стакан за стаканом дуют водку, белую, желтую, зеленую, темную, часто приправленную простым либо индейским еще перцем. Сядьте часов в десять вечера в какой-нибудь брюссельской полупивной за один из тех темных столов, вокруг которых ходят продавцы морских раков, соленых булок и печеных яиц; взгляните, как эти люди, спокойно усевшись, каждый про себя, иной раз попарно, но чаще всего в полнейшем безмолвии, покуривая трубки и закусывая, опорожняют громадные кружки пива и подогревают их стаканчиком крепкого ликера по временам. Вы инстинктивно поймете то грубое чувство теплоты и животного довольства, каким наслаждаются они в одиночку, не проронив ни единого словца, по мере того как плотная пища и чрезмерно обильное питье обновляют в них ткани тела, и как все оно постепенно принимает участие в раздолье сытого и переполненного желудка.
В их внешности остается указать еще одну, последнюю черту, особенно поражающую уроженцев юга, – это их медленные, тяжеловатые впечатления и движения. Какой-то тулузец, продавец зонтиков в Амстердаме, почти бросился мне на шею, узнав, что я говорю по-французски, и целые четверть часа я должен был выслушивать его сетования. Для его живого темперамента туземцы были просто невыносимы: ’’Это мертвецы, деревяшки, ни одного человеческого движения, ни одного чувства – безжизненные, вялые, просто репа, сударь, репа как есть!” И в самом деле, его искренность и болтовня представляли решительную им противоположность. Когда вы говорите с ними, кажется, как будто они не могут сразу понять вас или как будто механизму их выражения надо некоторое время, чтобы пораскачаться и поразойтись; какой-нибудь сторож при музее или слуга в гостинице сперва постоят с минуту, разинув рот, а потом уже соберутся отвечать вам. В кофейнях и в вагонах флегматичность и неподвижность лиц просто поразительны; у них нет, по-нашему, потребности беспрестанно суетиться, говорить; по целым часам могут они сидеть как оцепенелые наедине со своими мыслями или со своей трубкой. На вечере в Амстердаме женщины, разрядившись, как куклы, неподвижно сидят в креслах, будто статуи. В Бельгии, в Германии, в Англии фигуры крестьян кажутся нам безжизненными, мертвыми или застывшими; один из моих приятелей, воротясь из Берлина, говорил: ’’Все эти люди выглядят мертвецами”. Даже у молодых девушек у всех какой-то чересчур наивный и заспанный вид; часто останавливался я перед стеклами какого-нибудь магазина, любуясь розовым, спокойно-милым и простосердечным лицом, средневековою мадонной, занятой модным рукодельем; это совершенная противоположность нашему югу и Италии, где глаза любой гризетки готовы завести разговор хоть со стульями, если нет вблизи живого существа, где мысль едва успеет зародиться и тут же переходит в жест. В германских странах все каналы чувства и выражения как будто бы засорились; все мгновенно восприимчивое, нежное, живоподвижное кажется здесь невозможным: заезжий южанин так и вопиет против здешней неуклюжести и неловкости; таково было общее впечатление всех французов во время революционных и имперских войн. Костюм и походка могут быть лучшими показателями в этом отношении, особенно если взять их в среднем или низшем классе. Сравните гризеток Рима и Болоньи, Парижа и Тулузы с большими механическими куклами, каких вы увидите по воскресеньям в Гамтонкорте, взгляните на эти туго накрахмаленные юбки, на эти фиолетовые шарфы, яркие шелки, золотые пояса, на всю эту выставку надутой и безвкусной роскоши. Я как раз припоминаю себе теперь два праздника: один – в Амстердаме, тут собрались богатые поселянки из Фрисландии, у всех голова закутана в трубообразный чепец, над которым как-то судорожно торчит шляпка кабриолетом, между тем как на висках и на лбу красуются по две золотых бляхи, настоящий металлический фронтон, и золотые же скрученные локоны обрамляют бледные и невзрачные лица; другой праздник – во Фрейбурге, что в Брисгау, там деревенские девушки стояли рядами на благонадежных ногах, как-то смутно глядя перед собой, в национальном наряде: черные, красные, зеленые и фиолетовые юбки, с резкими складками, как на готических статуях, раздутые спереди и сзади корсажи; рукава, нарочно раздутые толстою подкладкой и массивные, точно задняя четверть барана; стан, перетянутый чуть не под мышку; желтые и тусклые волосы, круто зачесанные кверху, а косы или шиньоны упрятаны в какую-то шитую золотом и серебром кису; над ней возвышалось оранжевою трубой нечто вроде мужской шляпы – странное украшение тела, словно вырубленного топором, напоминающее общим своим видом деревянный столб, размалеванный пестрыми красками. Короче, в этом племени животная сторона человека медлительнее и грубее, чем в латинском; можно, пожалуй, даже прямо счесть его за низшее в сравнении с итальянцем или южным французом, столь трезвыми и столь быстрыми умом, от природы мастерами говорить, болтать, передавать мысль свою мимикой, наделенными притом вкусом, чувством внешнего изящества и потому вдруг достигшими без особенных усилий культуры и образования, как, например, провансальцы в XII веке и флорентийцы в XIV.
Но мы не остановимся на этом первом взгляде: он дает нам только одну сторону предмета, не более; есть еще другая, неразлучная с нею сторона, как теневая неразлучна со светлою. Тонкий ум и скороспелость, свойственные латинским народам, сопряжены со многими дурными последствиями; они поселяют в них потребность приятных ощущений, и от того народы эти чересчур требовательны относительно счастья; им необходимы многочисленные, разнообразные, сильные или утонченные удовольствия, развлечения, беседы, учтивая вежливость в обращении, удовлетворение суетности, чувственная сторона любви, наслаждение всегда чем-нибудь новым и неожиданным, гармонические симметрии форм и даже самых оборотов речи; они легко становятся риторами, дилетантами, эпикурейцами, сластолюбцами, вольнодумцами, волокитами и суетными до конца ногтей. В самом деле, эти именно пороки развращают и губят их цивилизацию; вы встретите те же недостатки в эпоху падения Древней Греции и Древнего Рима, в Провансе в XII столетии, в Италии в XVI, в Испании в XVII и во Франции в XVIII столетии. Их темперамент, быстрее достигающий утонченности, быстрее преутончает и их самих. Они непременно хотят отведать изысканных ощущений и не могут удовлетвориться вялыми, обыденными; это люди, которые, привыкнув к апельсинам, бросают подальше от себя репу и морковь; и, однако ж, будничная наша жизнь вся ведь составляется из моркови, репы и других не очень вкусных овощей. В Италии одна знатная дама, глотая великолепное мороженое, заметила: ”А как, однако, жаль, что есть его не-грех”. Во Франции один знатный вельможа, рассказывая про какого-то беспутного дипломата, промолвил: ’’Как не обожать его? Он ведь так порочен!” С другой стороны, живость впечатлений и крайняя быстрота на все делают их импровизаторами; они слишком скоро и слишком сильно приходят в возбуждение; при всяком столкновении с вещами они как раз готовы забыть долг и рассудок, хватаются за нож в Италии, за ружья во
Франции; стало быть, они мало способны выжидать, подчиняться чему бы то ни было, соблюдать заведенные порядки. А для успеха в жизни необходимо уметь потерпеть, поскучать, делать и переделывать, начинать сызнова и продолжать начатое так, чтобы порыв гнева или вспышка воображения не останавливали и не отвлекали вас от урочного занятия. Одним словом, сопоставив их наклонности с настоящим ходом света, мы найдем, что он слишком для них механичен, однообразен и суров, а наклонности их признаем для него слишком живыми, восприимчивыми и блестящими. По истечении нескольких столетий этот коренной разлад всегда снова обнаруживается в их цивилизации; они требуют от вещей слишком уже много и, не умея вести себя как следует, не достигают даже и того, что вещи могли бы действительно им доставить.
Теперь устраните эти счастливые дары, а с другой стороны, эти невыгодные наклонности; вообразите себе на неповоротливом и тяжелом теле германца хорошо образованную голову, полное разумение и посмотрите, что из этого выйдет. Обладая не столь живою впечатлительностью, человек такого склада будет более степенен и рассудителен. При меньшей потребности приятных ощущений он, не скучая, может выполнять довольно скучные дела. Так как чувства его вообще суровее, он предпочтет сущность форме и внутреннюю правду приглядной внешности; будучи менее быстр в первых, он менее подвержен безрассудным вспышкам и нетерпению; у него всегда есть довольно выдержки, и он может быть настойчив в тех предприятиях, для которых необходимо время. Короче, разум у него хозяин над всем, потому что соблазнов извне у него меньше, а внутренние вспышки несравненно реже. В самом деле, рассмотрите германские народы, каковы они теперь и в течение всей их истории. Во-первых, они величайшие в свете труженики, работяги; с этой стороны, в области умственной работы, никто, конечно, не сравнится с немцами; за ними ученость, философия, знание самых трудных языков, великолепные издания, словари, сборники, классификация, лабораторные исследования; во всех возможных науках им принадлежит все, что требовало скучного и неприятного, но необходимого, подготовительного труда; с удивительным терпением и самоотвержением обтесывают они все камни новейшего здания. В области вещественного труда англичане, американцы и голландцы делают то же самое. Мне хотелось бы показать вам какого-нибудь английского отделщика материй или ткача как есть, за его работой; это совершенный автомат, работающий целый день, ни на минуту не отвлекаясь от дела, в десятом часу работы точно так же, как и в первом, все равно. Если он в одной мастерской с французскими рабочими, последние представляют разительную противоположность: они отнюдь не способны усвоить себе этой машинной точности; они скорее становятся невнимательными, скорее устают; поэтому к концу дня оказывается, что они сработали гораздо меньше: вместо тысячи восьмисот шпулек они пропустят каких-нибудь тысячу двести. Чем далее на юг, тем способность к труду становится меньше; провансальцу, итальянцу непременно надо поболтать, попеть, поплясать; он готов слоняться без дела и жить чем Бог пошлет, хотя бы для этого пришлось щеголять в очень и очень потертом платье. Праздность там кажется чем-то естественным и даже почетным. Благородная жизнь, т. е. лень человека, который не работает из гордости, живя впроголодь и кое-как, была истинным бичом Испании и Италии за два последние века. Напротив, в то же самое время фламандец, голландец, англичанин, немец ставили себе в особенную честь добывать трудом все полезное и нужное; инстинктивное отвращение простолюдина от труда и ребяческое тщеславие, побуждающее образованного человека не становиться на одну ногу с простым рабочим, уступили – и то и другое – перед их здравомыслием и умом.








