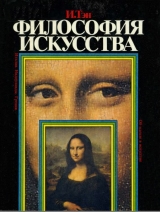
Текст книги "Философия искусства"
Автор книги: Ипполит Адольф Тэн
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц)
Мне скажут, что это немцы и англичане – народ серьезный, протестанты, люди ученые или деловые, но что в Париже, по крайней мере, обладают же ведь вкусом и ищут же удовольствия. Правда, Париж в настоящее время является городом, где более чем где-либо любят поговорить, почитать, побеседовать об искусствах, подметить различные оттенки прекрасного и в котором иностранцы находят самую разнообразную, самую веселую жизнь. И, однако же, французская живопись, превосходя живопись других стран, не может, даже и по отзыву самих французов, сравниться с итальянской живописью времен Возрождения. Во всяком случае, она совсем иная; произведения ее указывают на другой дух, да и обращаются они к другому духу. Она заключает в себе гораздо более поэтических, исторических или драматических элементов, чем собственно живописных. Уступая в чувстве красоты нагого тела и прекрасной простой жизни, она старалась всеми силами передавать действительные сцены и точный наряд самых отдаленных стран и веков, трагические волнения души, увлекательные пейзажи. Она сделалась соперницей литературы; она работала и рылась на том же поле; она также обратилась к ненасытной пытливости, к археологическому вкусу, к потребности сильных ощущений, к утонченной и болезненной чувствительности. Она преобразилась, чтобы заговорить языком горожан, истомленных трудом, замкнутых в сфере сидячей жизни, изнемогающих под бременем многосложных мыслей, жадных до новостей, до интересных документов, до ощущений, но также и до полного спокойствия. В промежутке от XV до XIX века совершился громадный переворот; весь скарб, весь домашний обиход головы человеческой усложнились до невероятной степени. В Париже и во Франции приходится чересчур ломать голову по двум причинам. Во-первых, жизнь сделалась дорога. Бездна маленьких удобств стала теперь насущной потребностью. Ковры, занавесы, кресла необходимы даже человеку скромному и одинокому; после женитьбы ему сверх того понадобятся этажерки, установленные безделушками, красивое и недешевое помещение; бесконечное множество домашних мелочей, на которые нужны деньги, так как вещей этих нельзя ни украсть на большой дороге, ни добыть насильно, как в XV столетии, а деньги приобретаются тяжелым трудом. Таким образом, огромная часть жизни расходуется на трудовые усилия. Кроме того, хочешь выбиться на лучшую дорогу; мы ведь огромная демократия, где места выдаются по конкурсу, добываются постоянством, ловкостью, и потому каждый из нас смутно надеется быть министром или миллионером, а это общее соревнование усугубляет наши занятия, наши заботы и тревоги.
С другой стороны, в Париже более полутора миллионов человек – это много, и даже слишком уж много. Так как в столице скорее всего можно добиться своей цели, то все люди с умом, честолюбием и энергией стекаются сюда, толкутся и теснятся. Таким образом, столица эта становится общей сходкой для всех лучших людей страны; они складывают тут все свои поиски и изобретения; они взаимно подстрекают друг друга; чтение, театр, разного рода беседы доводят их до лихорадочного состояния, мозг парижан не может быть в правильном, здоровом состоянии: он слишком разгорячен, надорван, возбужден, и создания его, в живописи или в литературе, носят на себе отпечаток этого иногда к своей выгоде, но чаще в явный ущерб себе.
Не так было в Италии. Там вы не увидите миллиона людей, скученных в одном месте, но множество городов в пятьдесят, сто или двести тысяч душ; там нет такой громадной толкотни честолюбий, такого брожения неустанной пытливости, такого сосредоточения усилий, такой непомерной человеческой деятельности и суетни. Городское население было тогда поистине чем-то отборным, а не такой смешанной толпой, как теперь у нас. Да и потребность житейских удобств вовсе не простиралась так далеко: тела были еще грубоваты, путешествия совершались верхом и люди преспокойно жили себе под открытым небом. Большие дворцы или палаты того времени, правда, великолепны, но я не знаю, согласился ли бы какой-нибудь мелкий гражданин нашего времени поселиться в них на житье; они неудобны и холодны; сиденья, испещренные резными головками львов и пляшущих сатиров, превосходны в художественном отношении, но вам они показались бы очень жестки, и самая маленькая квартира, дворницкая в любом богатом доме со своей теплой печью, право, комфортабельнее дворцов Льва X и Юлия II. Им не нужны были все те мелкие удобства, без которых мы не можем нынче обойтись: для них вся роскошь заключалась в обладании красой, а не пользами и удобствами жизни; они мечтали об изящной сопостановке колонн и фигур, а не о хозяйственном приобретении китайского фарфора, диванов и экранов. Наконец, так как видные места открывались только благодаря военному счастью или милости государя для нескольких знаменитых разбойников, для пяти-шести верховодных убийц, для немногих льстивых нахлебников, то и в обществе не видно было такого рьяного соревнования, такой муравьиной суетливости, такого настойчивого рвения, с каким каждый из нас силится опередить другого.
Значит, человеческий дух вообще находился тогда в большем равновесии, нежели в той Европе и в том Париже, где мы теперь живем. По крайней мере, он был лучше уравновешен для живописи. Начертательные искусства требуют для своего произведения такой почвы, которая не лежала бы, конечно, в пару, да и не была бы, однако ж, слишком обработана. В феодальной Европе почва эта была массивна и тверда, теперь она чересчур разрыхлилась; прежде цивилизация еще недостаточно избороздила ее плугом, теперь борозды умножились до бесконечности, до крайности. Для того чтобы величаво-простые формы улеглись на полотно под рукой какого-нибудь Тициана и Рафаэля, необходимо, чтобы формы эти естественно и порождались вокруг них в душах людей вообще; а чтобы они естественно возникали в уме человеческом, необходимо, чтобы образы не заглушались и не искажались в нем идеями.
Позвольте мне приостановиться на этом слове, потому что оно очень важно. Свойство чрезмерной культуры состоит в том, что она все более и более сглаживает образы в угоду идеям. Под непрерывным напором воспитания, разговора, размышления и науки первичное представление теряет форму, разлагается и исчезает, уступая место голым, нагим идеям, хорошо расположенным словам, некоторого рода алгебре. С того самого времени ход ума принимает уже чисто рассудочное направление. Если он и возвращается иногда к образам, то разве лишь благодаря особенному усилию, болезненному, напряженному скачку, путем какой-то беспорядочной и опасной галлюцинации. Мозг наш наполнен бездной смешанных, разнородных и перекрестных идей; всевозможные цивилизации и нашего отечества, и других народов, прошлые и настоящие, хлынули в него своими волнами и оставили в нем каждая свои обломки. Произнесите, например, перед каким-нибудь человеком нового времени слово дерево, – он смекнет, что речь идет не о собаке, не о баране, не о мебели; он поместит этот знак в своей голове в особый ящичек с особенным ярлыком: вот ведь что в нашу пору зовется пониманием. Наше чтение и знание начинили наш ум бездной отвлеченных знаков, наша привычка к распорядку правильно и логично приводит нас от одного к другому. Мы только урывками ловим на миг цветистые, живые формы; они в нас вовсе не держатся – смутно мелькнут на внутреннем полотне и тотчас же опять исчезнут. Если мы иногда успеем задержать и точно определить их, то разве только особенной силой воли, после долгого упражнения и перевоспитания, идущего наперекор нашему обыкновенному воспитанию; это крайнее усилие оканчивается страданием и лихорадкой; наши величайшие колористы, литераторы ли они или живописцы, – не более как надсадившиеся или же сбитые с пути мечтатели[20]. Напротив, художники Возрождения были прямо ясновидцы. То же слово дерево, услышанное людьми еще здоровыми и простыми, тотчас же представит им целое дерево, как оно есть, с круглой и подвижной массой его лоснящейся листвы, с теми черными изломами, какие его сучья и ветви рисуют на синеве неба, с его морщинистым стволом, изборожденным толстыми жилами, с его ногами, глубоко ушедшими в землю для обороны от ветра и бурь, – так что то, что для нас составляет лишь известный значок и цифру, то самое для них будет одушевленным и целостным зрелищем. Без усилий остановятся они на нем и без усилий к нему возвратятся; они выберут в нем для себя самое существенное – не станут с какой-то болезненной и упрямой щепетильностью гнаться за мелочами; они будут прямо наслаждаться своим прекрасным образом, не вырывая и не выбрасывая его судорожно из себя, как клочок бьющейся одной с ними жизнью. Вольно и без раздумья изображают они, как бежит лошадь, как летит птица; колоритные формы являются тогда естественным языком души: любуясь ими в какой-нибудь фреске или на полотне, зрители уже видели их наперед и в себе самих – они узнают их; для них это не чуждые образы, искусственно выведенные на сцену при помощи какой-нибудь археологической комбинации, усилия воли или условного школьного предания; образы эти до того близки им, что они вносят их и в свою домашнюю жизнь, и в свои общественные церемонии. Они окружают себя ими, составляя живые картины рядом с картинами рисованными.
В самом деле, взгляните на костюм: какая разница между нашими панталонами, сюртуками, нашим мрачным, черным фраком и их выложенной галунами симаррой (род длинной поддевки или ферязи), их бархатными и шелковыми спенсерами или куртками, их кружевными воротниками, их кинжалами и шпагами с насечкой из арабесков, их золотым шитьем, бриллиантами, их токами в густых перьях. Все это великолепие, предоставленное теперь женщинам, блестело тогда и в одежде благородного звания мужчин. Заметьте еще дававшиеся во всех городах живописные праздники, торжественные входы и выходы, маскарады, кавалькады, которыми равно тешились и государи, и народ. Например: герцог Миланский, Галеаццо Сфорца, посещает в 1471 году Флоренцию; его сопровождают сто драбантов, пятьсот человек пехоты, пятьдесят человек пеших лакеев, одетых в бархат и шелка, свита в две тысячи дворян с прислугой, пятьсот свор собак и бесчисленное множество соколов. Прогулка эта обошлась ему в 200 тыс. червонцев. Пьетро Риарио, кардинал ди-Сан-Систо, истрачивает 20 тыс. червонцев на один праздник в честь герцогини Феррарской; затем он предпринимает путешествие по Италии с такой многочисленной свитой и с таким великолепием, что его можно было принять за папу, его брата. Лоренцо Медичи затевает во Флоренции маскарад, изображающий торжество Камилла. Множество кардиналов съезжается на него посмотреть. Лоренцо просит на этот случай у папы слона, и тот вместо слона, занятого в ту пору в другом месте, посылает ему двух леопардов и барса; папа сожалеет, что его сан не дозволяет ему всенародно явиться на такое великолепное зрелище. Герцогиня Лукреция Борджиа вступает в Рим в сопровождении двухсот роскошно разодетых наездниц, и при каждой свой кавалер. Величавость, представительность, нарядные костюмы, целая выставка владетельных князей и вельмож, – разве все это не дает понятия о каком-либо чудесном параде, исполняемом участниками его серьезно, не шутя. Заглянув в хроники и памятные записки, вы тотчас увидите, что итальянцам хочется превратить всю сплошь жизнь в блестящее празднество. Другие заботы казались им перед этой просто вздором. Наслаждаться, и наслаждаться благородно, величественно, наслаждаться умом, чувствами и в особенности глазами – вот чего им желалось. Да другого-то им и делать нечего. Им неизвестны наши политические и гуманитарные заботы, у них нет парламентов, митингов, огромных газет и журналов; людям передовым или могущественным не приходится руководить судящею и рядящею толпой, соображаться, советоваться с общественным мнением, вести сухие препирательства и споры, предъявлять целые массы статистических данных, трудиться над постройкой нравственных или социальных выводов. Италией управляют мелкие тираны, захватившие власть силой и сохраняющие ее силой. В свободные свои часы они заказывают постройки и картины. Богачи и знать, подобно им, думают только о забавах, о том, как добыть хорошеньких любовниц, накупить статуй, картин, нарядов, завести при дворе своих поверенных, которые предваряли бы их в случае какого-нибудь доноса или замысла на их жизнь.
Их не волнуют и не занимают также и религиозные идеи; друзья Лоренцо Медичи, Александра VI или Лодовико Моро не думают ни о миссиях, ни о мерах к обращению язычников, ни о подписках на образование и на поднятие нравственного уровня в народе; Италия была в то время так далека от набожности, как дальше быть нельзя. Лютер, приехав туда полным веры и страхов совести, был вскоре совершенно возмущен и говорил по возвращении: ’’Итальянцы – нечестивейшие из людей; они насмехаются над истинной религией и подшучивают над нами, христианами, за то, что мы верим всему в Писании... Собираясь в церковь, они обыкновенно говорят: ’’Пойдем поблажать народному заблуждению...” ’’Будь мы вынуждены, – говорят они еще, – всему верить в слове Божьем, мы были бы что ни на есть несчастными и не знали бы ни минуты веселья. Надобно казать приличный вид, а верить всему отнюдь не следует”...” Действительно, народ здесь – язычник по природе, по темпераменту, а образованные люди – без веры по воспитанию. ’’Итальянцы, – с ужасом продолжает Лютер, – или эпикурейцы, или уж суеверны до крайности. Народ более боится Св. Антония и Св. Себастьяна, нежели Иисуса Христа, потому-де, что святые эти насылают язвы. Вот отчего, чтоб помешать прохожим мочиться где не следует, на том месте пишут св. Антония с огненным его копьем. Так-то живут они в крайнем суеверии, не зная Слова Господня, не веря ни в воскресение плоти, ни в вечную жизнь и боясь лишь кар и язв сего мира”. Многие философы тайно или почти явно не признают там ни Откровения, ни бессмертия души. Христианский аскетизм и догмат об умерщвлении плоти всем здесь не по нраву. Вы найдете у поэтов Ариосто, у венецианца Лудовичи, у Пульчи жесточайшие выходки против монахов и самые вольные, насмешливые намеки относительно догматов...
Против этого чувственного разгула и безбожия проповедники того времени, Бруно и Савонарола, вооружаются всеми силами. Савонарола говорит флорентинцам, которых ему довелось потом обратить всего на три или на четыре года: ’’Ваша жизнь – жизнь свинская, вся она проходит у вас на постели, в сплетнях, в прогулках, в оргиях и разврате”. Откинем из этого малую толику, как оно и необходимо в тех случаях, где о подобных вещах говорит проповедник или моралист, нарочно возвышающий голос, чтобы его услышали; но сколько мы ни откинь, все еще останется довольно. Биографии вельмож того времени, цинические и пересоленные потехи герцогов Феррарского и Миланского, тонкий эпикуреизм или открыто вольное поведение Медичей во Флоренции, показывают, до чего доходило там искание всякого рода удовольствий. Эти Медичи были банкиры, люди капитальные, которые, отчасти силой, а больше ловкостью, сделались первыми сановниками и настоящими владыками республики. Они держали при себе поэтов, живописцев, скульпторов, ученых; они давали в своем дворце представления, изображавшие охоту и любовные шашни мифологических богов, в картинах они предпочитали открытую наготу Делло и Поллайоло и к величавому, благородному язычеству охотно подбавляли сладострастной чувственности для приправы. Вот почему они были так снисходительны к шалостям и проказам своих живописцев. Вы знаете историю Фра Филиппо Липпи, который увез монахиню; родители ее жалуются, а Медичей невольно разбирает смех. Тот же Фра Филиппо, работая у них, до того увлекался любовными связишками, что, когда, для окончания срочного дела, его запирали на замок, он вил веревку из своих простынь и спускался по ней в окошко. Наконец Козимо Медичи решил: ’’Оставить его на свободе; люди с талантом – существа небесные, а не какой-нибудь рабочий скот: не следует ни запирать их, ни неволить”. В Риме было еще хуже этого: не стану рассказывать вам потех папы Александра VI – их надо прочесть в дневнике его капеллана Бурхарда; такие грязные сцены и вакханалии можно передавать только по-латыни. Что до Льва X, то это человек со вкусом, любит хорошую латынь, охотник до ловких эпиграмм; но это не мешает ему свободно предаваться удовольствиям и полному физическому веселью. Вокруг него Бембо, Мольца, Аретино, Барабалло, Кверно, множество поэтов, музыкантов, нахлебников ведут далеко уж не назидательную жизнь, и стихи их обыкновенно более чем вольны; кардинал Биббиена велит дать перед ним комедию Каландра, которую теперь не дерзнул бы поставить у себя ни один театр. Сам он забавляется, потчуя своих гостей блюдами в виде какой-нибудь мартышки или вороны. В шутах он держит при себе монаха Мариано, страшного обжору, который глотает в один прием целого голубя, вареного или жареного – все равно, и может, говорят, съесть зараз сорок яиц и два десятка цыплят. Грубое веселье, фантастические и шутовские выдумки этому папе по душе; природная энергия и жизненные соки бурлят в нем, как и у его современников; в сапогах со шпорами страстно гоняется он за оленем и вепрем по диким холмам Чивита Веккии, и задаваемые им праздники так же мало носят на себе духовный характер, как и его нравы. Очевидец, секретарь герцога Феррарского, так описывает нам один из его дней. Сравните эти забавы с забавами нашего времени, и тогда вы увидите, насколько усилилось теперь господство приличий, насколько ограничены своевольные и неудержные инстинкты природы, насколько живость воображения подчинена чистому рассудку и какое расстояние отделяет нас от этих полуязыческих времен, всецело чувственных, но и всецело живописных, где умственная жизнь не первенствовала еще над плотской.
”В воскресенье вечером я был на комедии, – пишет секретарь[21], – высокопреосвященнейший Рангони[22] ввел меня туда, где находился папа со своими юными и досточтимыми кардиналами, именно в одну из приемных Чибо[23]. Его святейшество прохаживался, дозволяя впуск то тем, то другим, кто был ему по нраву; а когда их набралось столько, сколько он определил, все направились в комедийную залу; святой отец наш поместился у дверей и, без шуму, давая свое благословение, разрешал вход, кому было ему угодно. Допущенные в зал находили с одной стороны сцену, а с другой – возвышенную площадку со ступенями, на которой поставлено было кресло папы; когда миряне все вошли, он сел на свое место, поднятое на пять ступеней от полу, а вокруг расположились по чину все прелаты и посланники. Едва только собралась толпа зрителей, доходившая, быть может, до двух тысяч человек, как при звуке флейт спустили занавес, на котором был написан брат Мариано[24] с целым роем бесов, заигравших с ним по обеим сторонам занавеса, среди которого красовалась надпись: ’’Вот затеи брата Мариано”. Заиграла музыка, и папа, сквозь свои очки, любовался сценой, которая была прекрасна и вся написана рукой Рафаэля; действительно, великолепный вид переходов и перспектив был осыпан похвалами. Его святейшество удивлялся также чудесно изображенному небу; канделябры составлены были из букв, каждая буква поддерживала пять свечей, а все вместе выражали: Leo X, Pontifex Maximus (т. е. папа Лев X). На сцене появился нунций и сказал пролог. Он осмеял в нем заглавие комедии ’’Suppositi”[25] до того, что папа расхохотался от всего сердца взапуски с присутствующими (зрителями), и, судя по тому, что дошло до моих ушей, французы были несколько возмущены сюжетом ’’Suppositi”. Началась комедия, которую сказывали (играли) хорошо, и вслед за каждым актом давалась музыкальная интермедия на дудках, волынках, двух рожках, нескольких виолах, лютнях и на маленьком органе с чрезвычайно разнообразными звуками, подаренном папе светлейшим герцогом, – вечная ему память; тут же была одна флейта и один голос, которые всем понравились; был еще и концерт певчих, но, по-моему, не столь удачный, как другие музыкальные произведения. Последней интермедией была Мавританка (род балета), изображавшая басню о Горгоне; она очень хороша, шла, однако, не в том совершенстве, как я видел это во дворце Вашей Светлости. Тем и окончился праздник. Слушатели начали расходиться там поспешно и такой страшной толпой, что злая судьба натолкнула меня на какую-то скамеечку и я чуть не сломал себе при этом ноги. Бондельмонте получил ужаснейший толчок от одного испанца, и, пока начал отсчитывать ему за это кулаки, мне удалось кое-как выбраться из залы; несомненно, что нога моя подверглась большой опасности; впрочем, меня несколько вознаградили за эту беду великое благословение и приветливая улыбка, каких удостоил меня Святой отец.
За день до этого вечера происходили конские скачки, где мы видели отряд испанских наездников с монсиньором Лорнеро во главе, одетый разнообразно по-мавритански, и затем другой отряд, наряженный испанцами в александрийский атлас с двуличневой шелковой подкладкой, с капюшоном и подлатником; во главе у них был Серапика, со своей ливрейной прислугой. Последняя состояла из двадцати верховых; папа пожаловал по сорока червонцев на каждого всадника; и поистине то была прекрасная свита, с гайдуками и трубачами, одетыми в шелк одних и тех же цветов. Прибыв на площадь, они пустились попарно прямо к дверям дворца, где стоял у окна папа; а когда окончилась скачка, отряд Серапики собрался на одной стороне площади, а отряд Корнера – около св. Петра; первый, взяв в руки трости, напал вдруг на второй, который поджидал его также с палками; компания Серапики швырнула палками в компанию Корнера, а последняя в нее, и обе они ринулись потом друг на друга, так что было любо смотреть на них, да к тому же и не опасно. У наездников выдавалось несколько отличных испанских кобыл и жеребцов. На другой день происходил бой быков; я был там с синьором Антонио, как писал уже и прежде; три человека убито, и ранено пять лошадей, две насмерть, и из них одна, бывшая под Серапикой, великолепный испанский жеребец, сбросивший его наземь и подвергший большой опасности: бык стоял уже над ним, и, если б зверя не успели подкольнуть пиками, он не оставил бы своей добычи без того, чтоб ее не убить. Уверяют, что папа вскричал: ’’Бедный Серапика!” и крепко о нем сокрушался. Слышу, что вечером играли какую-то комедию одного монаха... и так как она не слишком понравилась, то папа, взамен обычной мавританки, приказал качать монаха, завернутого в одеяло, и потом вдруг опустить его так, чтобы он плотно хлопнулся брюхом об пол; потом он велел разрезать ему подвязки и стащить с пяток чулки, но тут монах принялся кусать троих или четверых папских конюхов (которые над ним возились). Наконец его-таки принудили сесть на лошадь и хлопали его руками по заду столько раз, что, как слышно, ему пришлось потом ставить банки; он слег в постель и заболел. Говорят, папа поступил так для того, чтобы отвадить монахов от мысли представлять свои глупости. Эта мавританка очень его насмешила. Сегодня пришла очередь играть в кольцо перед дворцом, и папа смотрел на это из своих окон; награды были уже заранее означены на вазах. Настали затем бега буйволов – смешно видеть, как бегают эти неуклюжие животные, то подаваясь, то пятясь; чтобы достичь цели, им нужно много времени; они ступят один шаг вперед и четыре назад, так что выиграть приз – для них всегда трудная задача. Последним из пришедших к цели оказался тот, который был впереди всех; ему и присуждена награда; их всего было там десять, и, право, это вышла презабавная история. Затем я пошел к Бембо, а от него ходил с визитом к его святейшеству, где встретил французского епископа из Бейе. Только и разговору было, что о масках да о веселых предметах.
Из Рима, сего 8 марта MDXVIII г., в четвертом часу ночи.
Вашей Высокоименитой Светлости
нижайший слуга Альфонс Паулуцо”.
Таковы масляничные забавы при дворе, которому бы, кажется, следовало быть самым степенным и приличным в целой Италии; там бывали также бега ’’нагих людей’’, как на древних играх в Греции; бывали и чисто срамные уж сцены (приапеи), какие представлялись только в цирках Древней Римской империи. С воображением, так пристально обращенным к физическим зрелищам, с цивилизацией, видящей в удовольствии единственную цель жизни человеческой, при столь полном освобождении себя от всяких политических забот, от всех промышленных дрязг и от всяких нравственных усилий, привязывающих теперь умы и к интересам положительным, и к отвлеченным идеям, – при таких условиях неудивительно, что племя, от природы способное к искусствам и сильно подготовленное к тому бытораз-витием, постигло, создало и довело до совершенства искусство передавать чувственные формы. Возрождение – единственный в своем роде момент, занимающий переход от средневекового к новому времени, от культуры недостаточной к культуре, можно сказать, чрезмерной, от царства голых совсем инстинктов к царству вполне вызревших идей. В то время человек уже перестает быть грубым, драчливым, плотоядным животным, только и знающим, что упражнять свои члены в борьбе; но это еще и не чисто салонный или кабинетный ум, только и знающий, что упражнять свой язык и свою голову. Он причастен пока к двум разным натурам. У него есть напряженные, продолжительные грезы, как у варвара; есть у него и изощренно-тонкая пытливость, как у человека цивилизованного. Подобно первому, он думает в образах; подобно второму, он умеет найти в них стройность и порядок. Подобно первому, он ищет чувственного наслаждения; подобно второму, он стремится к чему-то повыше одних грубых утех. У него есть животные влечения, но есть и разборчивая утонченность. Он интересуется внешностью вещей, наружной обстановкой, но он требует от всего совершенства, и прекрасные формы, созерцаемые им в произведениях великих его художников, только выясняют для него те смутные образы, какими и без того полна его голова, и удовлетворяют тем глухим инстинктам, какими насквозь пропитано его сердце.
V
1. Третье условие живописи. – Обстоятельства, которые привели искусство к изображению человеческого тела.
2. Характеры в Италии в эпоху Возрождения. – Нравы, образовавшие их. – Недостаток суда и полиции. – Обращение к силе и к самоуправству. – Убийство и насилие. – Оливеротто да Фермо и Цезарь Борджиа. – Теория убийства и вероломства. – Государь Макиавелли. – Последствия этих нравов на характерах. – Развитие энергии, привычка к трагическим страстям.
3. Бенвенуто Челлини. – Сила темперамента. – Богатство способностей. – Широкий пыл и восторги радости. – Живопись воображения. – Резкая неудержимость в действиях.
4. Каким образом нравы и характеры эти подготовляют людей к пониманию передачи человеческого тела. – Знакомство с телом из личного и обиходного опыта. – Способность понимать энергичные и простые формы. – Чувствительность к прекрасному. – Жизнь и вкусы современного человека сравнительно с жизнью и вкусами итальянца времен Возрождения.
Остается узнать, почему этот великий талант живописи избрал главным своим предметом тело человека, какого рода опытами, какими привычками, какими страстями подготовлен был в людях интерес к мускулам, отчего на этом обширном поле искусства глаза их предпочтительно обратились к тем здоровым, сильным, деятельным фигурам, на которые или совсем не умели попасть последующие века, или ограничились одной копировкой их по преданию.
Для этого, изложив вам общее состояние умов, я постараюсь указать преобладающий склад характеров. Под состоянием умов понимают род, количество и качество мыслей, заключающихся у человека в голове, составляющих как бы ее меблировку. Но меблировка головы, как и меблировка дворца, меняется без особого затруднения; не трогая стен, можно обтянуть их другими обоями, поставить во дворце другие буфеты, другую бронзу и разостлать другие ковры; равным образом, не касаясь внутреннего строя души, можно вложить в нее другие мысли; достаточно для этого перемены в условиях жизни или в воспитании; у человека невежественного и просвещенного, у плебея и аристократа мысли далеко не одинаковы. Следовательно, в человеке есть нечто более важное, чем идеи, – этот самый строй его, т. е. характер, – другими словами, его природные инстинкты, его первичные страсти, степень его чувствительности, энергии – короче, сила и направление всего внутреннего его механизма. Чтобы показать вам этот глубокий склад итальянских душ, я раскрою перед вами обстоятельства, привычки и потребности его произведения: история этого склада уяснит вам его лучше, нежели какое бы то ни было отвлеченное определение.
Первая черта, замечаемая тогда в Италии, – это недостаток упрочившегося и постоянного мира, строгого правосудия и бдительной полиции, вроде той, к какой мы у себя привыкли. Мы с трудом можем вообразить себе такую крайнюю степень тревоги, беспорядков и насилий. Слишком давно находимся мы в противоположном состоянии. У нас столько жандармов и городовых, что мы склонны считать их скорее неудобными, чем полезными. У нас, если человек пятнадцать соберется на улице поглазеть на собаку, переломившую себе ногу, тотчас же является какой-нибудь усатый господин и говорит: ’’Господа, сборища запрещены, расходитесь”. Это кажется нам излишним, стеснительным, мы посылаем дозорцев к черту и забываем обратить внимание на то, что эти же усачи доставляют и самому богатому, и самому слабому возможность безопасно ходить одному и без оружия в полночь по глухим даже улицам. Мысленно уничтожим этих усачей и представим себе страну, в которой полиция бессильна или бездеятельна. Подобные места вы найдете в Австралии, в Америке, например, хоть на россыпях, куда толпою стекаются искатели золота и живут там наудачу, не образуя еще никакой государственной организации. Там, если вы опасаетесь удара или оскорбления или же получите их в самом деле, вы разряжаете на сопернике или противнике свой револьвер. Тот отвечает тем же, а подчас в дело вмешиваются и соседи. Ежеминутно приходится оборонять свое имущество или жизнь, и нежданная-негаданная опасность теснит и подавляет человека со всех сторон.
Таково было около 1500 года положение дел в Италии, там совершенно не знали еще ничего подобного той великой общественной организации, которая в наше время, усовершенствовавшись после четырех столетий опыта, считает первой своей обязанностью обеспечить за каждым не только его имущество и жизнь, но также спокойствие и безопасность. Государи Италии были маленькие тираны, обыкновенно захватывавшие власть путем убийств, отравлений или, по крайней мере, насилий и вероломства. Конечно, первой заботой их было удержать за собой эту власть подоле. А о безопасности граждан не пеклись они нимало. Частные лица должны были сами защищать себя, сами за все расправляться; ввиду какого-нибудь слишком упорного должника, повстречавшись на улице с каким-нибудь грубияном, считая кого-либо для себя опасным или враждебным, граждане находили совершенно естественным освободиться от него как можно скорее.








