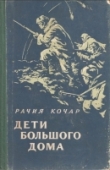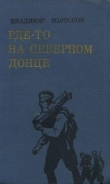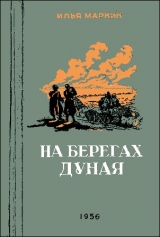
Текст книги "На берегах Дуная"
Автор книги: Илья Маркин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 31 страниц)
– Как настроение людей?
– Неплохое, – ответил Крылов, и лицо его из празднично-торжественного стало озабоченным, почти суровым. – Все говорят о наступлении наших фронтов, подсчитывают, когда они подойдут к Берлину, ну и, как всегда, мечтают о конце войны.
Крылов улыбнулся и, смутившись своей улыбки, опустил голову. По его лицу Алтаев понял, что сам Крылов о конце войны мечтает не меньше других.
– И все же, товарищ командующий, – поборов смущение, продолжал Крылов, – вот здесь, в левофланговых частях, есть одна особенность в настроении людей. Этого нет ни на правом фланге, ни в центре. Здесь все ждут нового наступления противника, – склоняясь к Алтаеву, приглушенным голосом выговорил он последние слова и, словно высказав самое главное, вновь выпрямился и продолжал прежним тоном: – и ждут нового наступления именно вот здесь, на левом фланге армии.
– А на чем же основываются такие настроения?
– Вот это и есть самое интересное, – оживляясь, ответил Крылов. – Никаких конкретных причин для этого нет. Все осталось таким же, как день, два, неделю назад, а нового наступления ждут. Правда, большинство не высказывает этой мысли, но когда прислушаешься и присмотришься к людям, сразу понятно.
– Да, это очень интересно, очень интересно, – раздумывая, повторял Алтаев и, весело улыбнувшись, добавил: – Выходит, сам воздух наполнен признаками грозы?
– Почти что так, – ответил Крылов и, взглянув на часы, взволнованно проговорил: – Простите, товарищ командующий, собрались взводные агитаторы, я доклад должен сделать для них.
– Да, да. Идите, идите, если собрались. Опаздывать нельзя. А еще у вас какие работы на сегодня?
– Партийное собрание во втором батальоне, затем хочу поговорить с редакторами боевых листков, вечером зайду в девятую роту, парторг там молодой, неопытный еще.
– Прошу ходом сообщения, – показал Мартынов в сторону темного углубления в землю, – тут его пулеметы все простреливают.
Ход сообщения только что отрыли, и свежий чернозем не успело засыпать снегом. Несколько солдат в гимнастерках продолжали кирками долбить землю.
– День и ночь копаю и никак не могу соединить все подразделения, – сказал Мартынов.
Солдаты, увидев генерала, прекратили работу. Кое-кто из них пытался подпоясаться и привести себя в порядок, но Алтаев махнул им рукой и разрешил продолжать работу. Он хотел было с ними поговорить, но не решился, видя, что солдаты были мокры от пота и могли простудиться.
Наконец показалась траншея. Она, извиваясь, уходила вправо и влево от хода сообщения и скрывалась в тумане. Это был передний край. За ним были «нейтральная зона» и позиции противника. Где-то невдалеке протрещала автоматная очередь. В ответ ей заговорил пулемет.
– Вот так и перекликаемся изредка, – улыбался Мартынов, – жизнь у нас кипит только ночью. То разведчики ползут, то венгры перебегают.
В выемке траншеи с биноклем в руке стоял солдат. Он так углубился в наблюдение, что заметил Алтаева и Мартынова только тогда, когда они уже стояли около него. Он обернулся, поспешно, вытянулся, опустил красные от мороза руки и доложил:
– Гвардии рядовой Варварушкин. Изучаю местность и готовлюсь к выполнению задания.
– Разведчик, – пояснил Мартынов, – сегодня ночью опять идет в поиск.
Алтаев посмотрел на крупное горбоносое лицо разведчика и подал ему руку. Варварушкин вытер о штаны руку, протянул ее Алтаеву и скороговоркой сказал:
– Здравствуйте, товарищ генерал.
– Ну, что противник? – спросил Алтаев.
– Сидит, – ответил разведчик.
– А вчера вы ходили в разведку?
– Так точно.
– И как?
– Не подпустил… Ракеты, а потом пулеметы… Ранило двоих. Мы всегда восьмеркой ходили, а теперь вшестером придется. Новых-то лучше не брать. Пока обвыкнут, натерпишься с ними.
– А сегодня как, возьмете пленного?
– Должны бы. Только немцы, видать, в обороне теперь. И каски не такие, и шинели зеленые, и беспокойные какие-то, то и дело стреляют. Мадьяры-то, те молчат больше. А эти чуть шевельнулся – так и застрочили.
Он говорил спокойно и рассудительно, как пожилой человек, хотя на вид ему было не больше двадцати пяти лет.
– А если немцы, то что же?
– Если обычные, то ничего. А вот если «SS», то фашисты настоящие. Тогда уж и прижмешь-то, а он кусается. Только нынче все равно возьмем, пусть даже «SS». После вчерашнего стыдно и в глаза-то смотреть. И за ребят обидно. Скварчуку-то, наверное, ногу отрежут, а ему ведь только двадцать второй пошел. Ну, Иванцов-то подлечится и скоро придет, в плечо его царапнуло.
Рассудительный разговор солдата понравился Алтаеву. Ему хотелось обо всем расспросить этого разведчика, узнать его думы.
– Ну, а если немцы в наступление пойдут вот здесь?
– Могут, конечно. Там-то у них сорвалось, они тут попробуют. Гитлер-то, говорят, самолично приказ написал. Прорваться в Будапешт – и баста! А раз так приказал, то будут рваться, пока из них кишки не выпустим.
«А раз так приказал, то будут рваться», – эта простая солдатская мысль вызвала у Алтаева глубокое раздумье. Он прошел по всей обороне полка, побывал в штабе, заехал в медсанбат дивизии и все время думал об этой мысли. Не было ли это ключом для раскрытия всех замыслов противника?
То, что гитлеровцы прекратили наступление под Будапештом и грузили в эшелоны свои наиболее боеспособные танковые дивизии, было несомненным фактом. Но куда они везли эти дивизии? Если в Польшу, то наступления под Будапештом больше не будет. А если это хитрый маневр?
Алтаев знал, что после неудачного покушения на его жизнь и раскрытия генеральского заговора Гитлер разогнал старый генералитет и окружил себя послушными людьми. Теперь, как никогда в другое время, проявлялось диктаторство Гитлера. Все делалось только по его личным приказам. И недаром он сам подписал приказ о прорыве к окруженной группировке. И этот приказ не выполнен. Гитлер, несомненно, рассвирепел и, видимо, полетела не одна генеральская голова. А для Гитлера сейчас престиж дороже всего.
Из всего опыта войны вытекал вывод, что Гитлер и его командование в своих действиях очень часто руководствовались не трезвыми, научными расчетами реальных сил и возможностей, а предвзятыми идеями, имеющими в своей основе удовлетворение личного самолюбия и поддержание личного престижа.
А сейчас, когда война подходит к концу, разве уменьшилось диктаторство и бахвальство Гитлера? Чего стоят одни его слова в приказе войскам, нацеленным на прорыв кольца окружения будапештской группировки «Я лично буду руководить вами!»
– Нет, нет, – проговорил Алтаев, – Гитлер не может отказаться от наступления на Будапешт.
– Слушаю вас, товарищ командующий, – отозвался сидевший сзади адъютант.
– Это не к вам, – ответил Алтаев.
По приезде в штаб армии Алтаев пригласил секретаря партийной организации штаба.
Алтаев и сам не замечал, что у него вошло в привычку в трудные моменты советоваться с руководителями партийных организаций. И сейчас, приглашая секретаря партийной организации штаба армии, он не думал о том, зачем он это делает и что этот тридцатипятилетний майор Холодков, всего четвертый год служивший в армии, вряд ли мог сказать ему, генералу армии, отдавшему тридцать семь лет жизни военной службе и воспитавшему не одну сотню офицеров и генералов, что-нибудь особенно ценное. Ему просто в разговорах с секретарем партийной организации хотелось найти подтверждение или отрицание своих мыслей, почувствовать, чем живет партийный коллектив штаба армии, и по каким-либо черточкам понять, как думает большинство коммунистов.
Михаил Николаевич Холодков до войны в армии не служил. Молодым пареньком поступил он на оборонный завод и через год стал слесарем. Комсомольская организация втянула его в учебу, и Холодков без отрыва от производства окончил рабфак, а затем поступил на вечернее отделение машиностроительного института. Через пять лет напряженной учебы Холодков стал сменным инженером цеха. Перед войной, также без отрыва от производства, он окончил Промышленную академию и был назначен парторгом ЦК на крупный московский завод. Когда разгорелась война, Холодков вместе с тысячами москвичей ушел в народное ополчение, рядовым артиллеристом воевал под Можайском, а затем был назначен политруком батареи, заместителем командира дивизиона, секретарем парторганизации штаба армии.
– Присаживайтесь, – встретил Холодкова Алтаев, – как настроение?
– Как у всех, товарищ командующий, – отозвался Холодков, – хорошее. Самые трудные бои выдержали.
– Самые трудные, говорите? – повторил Алтаев и, всматриваясь в лицо майора, строго спросил: – А вы думаете, что труднее и боев не будет?
Холодков не понял причины изменения настроения генерала и прежним тоном ответил:
– Да труднее едва ли будет.
Алтаев усмехнулся, лукаво взглянул на Холодкова и иронически проговорил:
– Рановато войну-то заканчиваете. Еще не только дым будет, но и огоньку вдосталь хватит.
Холодков заметил иронию командующего и невольно подосадовал на себя: он хотел сказать совсем не то, что подумал Алтаев.
– Я, товарищ командующий, – заговорил Холодков, – не в смысле боев, а имел в виду общую обстановку, так сказать, всего хода войны.
Алтаев придвинул стул ближе к Холодкову и вполголоса спросил:
– Михаил Николаевич, как думает большинство коммунистов о ближайших перспективах нашей армии?
Холодков на секунду задумался, опустив стриженую голову.
– Если говорить о настроениях, то их, пожалуй, можно разделить на две резко противоположные группы. Одни считают, что немцы отказались от наступления на Будапешт и теперь нашей армии не придется вести тяжелых оборонительных боев…
– Значит, по их мнению, центр тяжести переместился теперь в Польшу, на границы Германии?
– Да. А у нас второстепенное направление. Другие, наоборот, твердо уверены, что гитлеровцы будут рваться к Будапешту и нам нужно быть готовыми к отражению новых ударов противника.
– И как вы думаете, кто из них прав?
– Я лично считаю, что сражения под Будапештом еще не закончены. Будапешт – это не просто город и не только столица Венгрии. Будапешт – это южный фланг немецкого фронта на востоке. И с его потерей открываются самые жизненные центры Германии – Австрия, южная Германия.
– Да, но Берлин важнее.
– Конечно, важнее, зато перед Берлином сплошные полосы обороны, и на них безусловно гитлеровцы надеются. Там легче остановить наступление. А на юге подготовленных рубежей у немцев нет.
Слушая, Алтаев изучающе смотрел на Холодкова. Этот «совсем гражданский человек» рассуждал глубоко по-военному, основываясь не на частностях, а на конкретных фактах общего значения.
– Так что же все-таки выходит: если к вам ломятся в дверь, вы будете защищать дальнее окно?
– Иногда окно-то и будет самым опасным местом.
Алтаев еще ближе придвинулся к Холодкову, и теперь они сидели почти рядом, лицом к лицу. Холодков рассказывал о частых спорах между офицерами, которые разгорались по этим двум принципиально разным мнениям, вспоминал доводы и тех и других, критически рассматривал противоречивые взгляды, и Алтаев с каждой минутой чувствовал все большую уверенность в своих выводах. Теперь ему было совершенно ясно, что два мнения – не случайность. Одни смотрели на события глубже, оценивая их в комплексе борьбы противоречий, другие видели только внешнюю сторону событий и не дошли до понимания скрытых, невидимых причин, которые руководили борьбой в этот период войны.
Проводив Холодкова, Алтаев пригласил к себе члена Военного совета и начальника штаба. Нужно было принимать основное решение на руководство войсками армии в новых условиях.
Первым пришел Шелестов. Он, так же как и Алтаев, двое суток находился в войсках и теперь был переполнен массой новых впечатлений.
– Как на правом фланге? – спросил его Алтаев.
Шелестов присел к столу, потом вдруг встал и подошел к Алтаеву.
– Георгий Федорович, какой у нас народ изумительный! Был я в городе Бичке. Там дивизии Цветкова, Панченко, танкисты Маршева. Они же у нас выдержали самый сильный напор противника. А сейчас только и говорят о наступлении, все рвутся вперед. Противник перед ними притих, затаился, проводит перегруппировку, а наши не могут сидеть спокойно.
– Да, это хорошее настроение, – задумчиво проговорил Алтаев, – то, что нам в ходе тяжелых оборонительных боев удалось сохранить наступательный порыв, это огромный плюс. Возьмите историю всех войн. После обороны обычно наступало затишье, все хотели отдохнуть. А у нас наоборот. После обороны под Москвой сразу же началось контрнаступление, то же самое под Сталинградом, под Курском. Это новое в военной науке и практике, наше, советское.
Неслышно вошел Дубравенко и прислушался к разговору командующего и члена Военного совета.
– И это новое дает нам великие преимущества, – возбужденно продолжал Алтаев. – Что такое контрнаступление? Это переход от обороны в решительное наступление. Этот прием военная история знает очень давно. Его применяли все крупные полководцы. Но какая великая разница между прошлым и нашим, советским контрнаступлением. Если раньше после тяжелых оборонительных сражений наступала пауза, иногда очень длительная, войска накапливали силы, готовились и только тогда начинали контрнаступление, то в этой войне мы переходили в контрнаступление без всяких пауз, по существу еще в ходе обороны. Это новый прием. И вот, вдумываясь в историю, анализируя все случаи контрнаступления Советской Армии, видишь одно: успех обеспечивает не только количество и качество, но еще один очень важный элемент. Это выбор момента для перехода в контрнаступление: когда ударить, в какое время перейти от обороны к наступлению. И в этом отношении весьма показательно московское сражение. Когда наши войска перешли в контрнаступление? Не в октябре, не в ноябре и не в январе, а шестого декабря. Почему именно шестого декабря, а не, скажем, шестого ноября? Тогда внешне было бы выгоднее. Наш исторический праздник, а соответственно и моральный подъем воинов. А дело в том, что в октябре, в ноябре и даже в первых числах декабря в контрнаступление переходить было рано. Противник еще наступал, имел крупные резервы и не был надломлен. А вот к шестому декабря наступление противника выдохлось, все главные резервы он израсходовал, его наступательный порыв иссяк. И вот как раз в это время мы и ударили по противнику. В итоге враг был ошеломлен, отброшен далеко от Москвы и потерпел крупное поражение. То же самое было под Сталинградом и под Курском. А что было бы, если, скажем, наше контрнаступление под Москвой началось бы не шестого, а, например, двадцатого декабря? Разница всего на полмесяца. А за эти полмесяца противник мог закрепиться, создать прочную оборону, подвести из глубины новые резервы, и в итоге пришлось бы вести затяжные тяжелые бои. И второй вариант: если б мы начали контрнаступление в ноябре. Противник был еще силен, его резервы не израсходованы – и опять затяжные бои. Следовательно, нужно уметь правильно определить кризис наступления противника. У нас уже противник не наступает третьи сутки. Что это, кризис?
– Безусловно кризис, – ответил Дубравенко.
– Значит, нужно переходить в контрнаступление?
– Да, и чем скорее, тем лучше.
– А по каким признакам вы определяете, что кризис уже наступил?
– Признаков очень много. Ударная группировка противника потеряла до шестидесяти процентов личного состава и более семидесяти процентов танков. Это во-первых. В последние дни наступления она никакого продвижения не имела. Это во-вторых. А в-третьих, немцы сами прекратили наступление, вывели в тыл свои танковые дивизии, грузят их в эшелоны и отправляют на запад или северо-запад.
Алтаев смотрел на Дубравенко и не узнавал своего начальника штаба. Лицо его горело, глаза строго смотрели то на Алтаева, то на Шелестова, в голосе чувствовалось недовольство чем-то и желание любыми доводами доказать правоту своих мыслей.
А Дубравенко в это время думал о доводах Алтаева. Он понял, что командующий не верит в то, что противник отказался от наступления на Будапешт, и это казалось ему ошибкой Алтаева. Если сейчас не нанести удар противнику, то он безнаказанно отведет свои главные силы и перебросит их против наступающих фронтов. А это по меньшей мере безделие и нежелание содействовать общему успеху Советской Армии.
Шелестов сидел молча, вслушиваясь в спор командующего и начальника штаба. Он также много думал о замыслах противника, но к определенным выводам еще не пришел. Ему хотелось выслушать как можно больше противоречивых мнений и тогда в сравнениях отыскать истину.
Спор между Алтаевым и Дубравенко разгорался. Они сидели один против другого, и взгляды их непрерывно встречались. Дубравенко в подтверждение своих мнений приводил неопровержимые факты. И Алтаев волей-неволей должен был с ними согласиться. Противник действительно уводит с фронта танковые дивизии и грузит их в эшелоны. Если б он сосредоточивал их на каком-либо другом участке армии, то зачем нужна переброска войск по железной дороге? От правого до левого фланга гвардейской армии всего немногим менее ста километров. Проще всего пустить их по шоссейным дорогам, и они за двое суток могут оказаться перед левым флангом армии.
Все выводы, к которым пришел Алтаев, сейчас вновь вызывали у него сомнения. Алтаев смотрел на Шелестова и по выражению лица пытался узнать его мнение.
Шелестов откинулся на спинку стула, прикрыл глаза припухлыми веками. Его густые темные волосы спадали на широкий лоб. Губы сурово сжались, и казалось, он их никогда не разомкнет.
А Дубравенко приводил все новые и новые факты в защиту своего мнения.
– Настроение солдат венгерской армии, – резким голосом говорил он, – показывает, что венгры слишком слабая поддержка для гитлеровцев. И если мы ударим именно сейчас, когда немцы не оправились от провала своего наступления, то венгры бросят фронт и начнется массовый переход их солдат на нашу сторону. А это значит, что в немецкой обороне образуются бреши, которые им нечем будет закрыть.
Алтаев всем своим существом чувствовал неправоту основного мнения начальника штаба, но убедительных доказательств для опровержения этого мнения не было. Мысль о том, что Гитлер из-за поддержания своего личного престижа не откажется от наступления на Будапешт, была верной, но она основывалась не на точных фактах, а на анализе всех действий Гитлера за время его властвования. А эта мысль была основным доводом Алтаева.
– Константин Николаевич, – заговорил, наконец, Шелестов, – а как вы оцениваете факт переброски двух танковых армий с англо-американского фронта на восток?
– Этого нужно было давно ждать, – не задумываясь, ответил Дубравенко, – это последний резерв Гитлера, и он его использует для прикрытия берлинского направления.
– А почему одна из этих армий не может быть переброшена в Венгрию?
– С какой целью?
– Прорваться в Будапешт, отбросить наши войска за Дунай, сохранить за собой «альпийскую крепость» и в конечном итоге затянуть войну, чтоб выторговать выгодный мир.
Довод Шелестова несколько поколебал Дубравенко. Он задумался, хмуря брови, и заговорил глухим голосом:
– Это, конечно, верно. Но безрассудство защищать Альпы и открывать дорогу на Берлин.
– А разве все действия Гитлера во время войны были разумны и логичны? – вновь вмешался Алтаев.
– Гитлер – это еще не все, – ответил Дубравенко, – он пешка в руках главных заправил. Генеральный штаб, генералы руководят всеми действиями…
– Вы недооцениваете значение Гитлера, – прервал его Шелестов. – Нельзя забывать, что он диктатор. И генералы дрожат перед ним.
– Тем более, после неудачной попытки свалить его, – добавил Алтаев, – они хотели от него избавиться, но не удалось, и сломали на этом головы. И теперь никто из них пикнуть не посмеет.
Дубравенко молчал. Он понимал правоту последнего довода, но никак не мог согласиться с тем, что главное для гитлеровской Германии – защита Альп, а не удержание восточных границ и Берлина.
– Я считаю, – заговорил Алтаев, – вывод может быть только один: гитлеровцы будут рваться к Будапешту, и нам еще придется вести тяжелые оборонительные бои. Поэтому главное сейчас не подготовка контрнаступления, а создание прочной обороны. Не расхолаживать войска тем, что противник уводит с нашего фронта свои танковые дивизии, а готовить всех к новым оборонительным боям и к последующему решительному наступлению на Вену.
– Безусловно, – поддержал его Шелестов, – рассчитывать на легкую победу нельзя. Гитлер еще немало наделает пакостей. Что бы ни было, но в Альпах он видит свое спасение. И свою «альпийскую крепость» он будет защищать. А Дунай – это передний край «альпийской крепости».
Шелестов посмотрел на Дубравенко. Начальник штаба сдвинул кустистые брови. Лицо его было хмуро, глаза прятались под длинными ресницами.
– Теперь нужно решить еще одно, – сказал Алтаев: – где противник всего вероятнее нанесет новый удар.
И опять разгорелся яростный спор. Дубравенко доказывал, что выгоднее всего противнику бить по правому флангу или центру армии. Алтаев был твердо убежден, что новый удар будет именно на левом фланге.
К двум часам ночи было выработано основное решение: готовить войска армии к отражению нового наступления противника, а для этого усилить левый фланг и все резервы держать в центре.
Сейчас же Алтаев связался с командующим фронтом и доложил ему принятое решение. Маршал Толбухин, не перебивая ни одним замечанием, выслушал Алтаева и, когда он закончил докладывать, заговорил:
– Я согласен с вашим решением, только прошу учесть еще одно обстоятельство. Сейчас Второй Украинский фронт готовит решительный штурм окруженной группировки. Поэтому все ближайшие резервы Верховное Главнокомандование передает Второму Украинскому фронту, а мы должны обойтись своими силами и средствами, которых – вы хорошо знаете – у нас не слишком много. Так что рассчитывайте на то, что у вас есть. Завтра я у вас заберу кавалерийский корпус. Он пойдет ликвидировать мелкие группы противника в лесах под Будапештом. Так что казаков в свои расчеты не принимайте.
Алтаев облегченно вздохнул. Сразу стало как-то легче на душе. Теперь он был твердо уверен в правильности того, о чем он мучительно раздумывал. Неуверенность и колебания отошли в прошлое.
– Константин Николаевич, – обратился он к Дубравенко, – я прошу вас лично заняться увязкой вопросов взаимодействия между родами войск и особенно разведкой. Офицеров штаба послать во все дивизии, вызвать ко мне командиров корпусов – и все силы на укрепление обороны!
– Слушаюсь, – ответил Дубравенко и торопливо вышел из кабинета.
Алтаев долго молчал, глядя вслед ушедшему начальнику штаба. Он знал, что Дубравенко предстоит большая, очень большая работа. От принятого решения до претворения его в жизнь так же далеко, как далеко от зарождения в голове конструктора идеи создания новой машины до пуска этой машины в действие. Нужно разрешить и увязать между собой сотни различных вопросов, согласовать и направить к выполнению единой цели самые разнообразные виды оружия и боевой техники, организовать и руководить работой десятков тысяч людей. Более чем на сотню километров по фронту и почти на столько же в глубину раскинулись войска гвардейской армии. И сейчас каждое отдельное звено, каждое подразделение, часть, соединение нужно было объединить в единую, четкую, гибкую систему, которая должна работать, как безупречный механизм, без скрипов, без рывков, без единой задержки.
И большую часть этой работы должны были выполнить штаб и лично начальник штаба армии.
– Кажется, обиделся Дубравенко? – опросил Алтаев члена Военного совета.
– Не может быть, – ответил Шелестов, – он явно не прав и, видимо, понял свою неправоту.
– Я все-таки попрошу вас, Дмитрий Тимофеевич, поговорите с ним. Очень плохо, когда между командиром и начальником штаба возникают разногласия. Тогда все скрипит и ползет через пень-колоду.
IV
Трое суток похода по вражеским тылам и, особенно, удачный налет на полевую немецкую комендатуру, где удалось захватить много документов и карту с нанесенным на нее положением трех немецких дивизий, окрылили Бахарева. Его группа наводила на немцев страх, и они, бросая все, в панике разбегались, не зная, что против них действовало менее десятка советских разведчиков. Потом Бахарев решил не ввязываться в мелкие стычки, а осуществить более серьезное мероприятие. По захваченным документам он узнал, что в небольшом имении, вдали от крупных населенных пунктов, разместился пункт управления начальника тыла немецкого танкового корпуса. На этот пункт и решил Бахарев напасть, взять в плен генерала или ответственного офицера, захватить побольше документов и, как всегда, скрыться в горных лесах.
Два дня, притаясь на опушке рощи в полукилометре от имения, разведчики изучали пункт. По дороге к имению то и дело сновали легковые автомобили, изредка проезжали грузовики. Особенно обнадеживало Бахарева то, что ни в самом имении, ни на подступах к нему не было видно подготовленной обороны и серьезной охраны. Только у двухэтажного дома, сменяясь через два часа, стоял часовой с автоматом.
В час ночи, когда обычно в имении все замирало, разведчики бесшумно двинулись вперед. Сам Бахарев шел впереди с Косенко и Мефодьевым, остальные пробирались в сотне метров за ними. Густая темнота предвещала полный успех дела. Однако все пошло не так, как намечал Бахарев. Они еще не дошли до крайнего дома, как в воздух одна за другой взлетело шесть осветительных ракет и сразу же ударили два автомата, затем к ним присоединился пулемет и еще несколько автоматов.
С первых же выстрелов Бахарев понял, что налет не удался, и, как только догорели ракеты, поднял группу и броском отвел ее в рощу. Теперь нужно было уходить и как можно скорее и дальше.
А в имении все ожесточеннее разгоралась стрельба, сериями взлетали вверх осветительные ракеты, шумели автомобильные моторы.
Но разведчики были уже далеко, и Бахарев облегченно передохнул, радуясь, что так легко удалось ускользнуть от противника.
– Товарищ гвардии капитан, через сорок минут – донесение, – напомнил радист.
– Отскочим километра на три и передадим, – ответил Бахарев и приказал парному дозору выдвигаться вперед.
Прошли километра три. Бахарев хотел было приказать остановиться и развернуть рацию, но впереди мелькнули два желтых огня и послышался шум мотора. Навстречу шла какая-то машина. Бахарев свернул вправо, и группа броском по рыхлому снегу отскочила в сторону. Желтые огни приближались. Все залегли в снег. Позади первой пары огней виднелась вторая, за ней третья и четвертая. Расстояние между ними все время увеличивалось. Первая машина шла на полной скорости, остальные заметно притормаживали. Видимо, это были бронетранспортеры. Головной часто останавливался, разворачивался то вправо, то влево, настороженно шаря лучами прожекторов по сторонам. Когда первый бронетранспортер развернулся, его фары уставились прямо на разведчиков. В ярких полосах лучей на белизне снега предательски чернела глубокая извилистая дорожка, где только что прошла группа.
«Неужели догадаются?» – беспокоился Бахарев.
К первому бронетранспортеру подошел второй, быстро приближались третий и четвертый.
«Не менее полусотни человек и наверняка пулеметы, – подсчитывал Бахарев, – а у нас только одни автоматы и гранаты».
– За мной, ползком, – скомандовал капитан, – не отставать.
Позади выхлестывали пулеметы. Немцы, видно, не обнаружили группу и стреляли наугад. Свист пуль то приближался, проносясь прямо над головой, то удалялся, замирая в темной вышине. Свет внезапно погас, и вокруг сгустилась спасительная темнота.
– Встать, бегом! – скомандовал Бахарев. – По такому снегу бронетранспортеры не пройдут. Теперь немцы преследовать могут только пешком. И победит тот, кто окажется выносливей. Ну, хлопцы, – вполголоса продолжал он, – спасут нас только ноги и смелость. Беречь силы, не отставать – и без паники!
Он быстро шагал, сверяя направление по компасу, изредка останавливался, пропуская всю группу, и снова забегал вперед. Все люди шли бодро и уверенно, но и немцы не отставали. Позади все время слышался их говор и хруст снега.
Эта погоня и непроглядная ночь напомнили Бахареву далекий случай раннего детства. Мальчишкой лет семи с друзьями разыскал он на дальней улице города старую водосточную трубу. Ее большой черный зев уводил под гору, к центру города. В трубе было сухо и тепло. Детское любопытство увлекло ребят. Они на карачках поползли в трубу. Впереди была таинственная неизвестность. Долго ползли в темноте. Давно остался позади радужный круг света. Кругом было черно и страшно. Казалось, трубе не будет конца и они никогда не увидят свет. Слезы навертывались на глаза. Хотелось вскочить и побежать назад. Но узкая труба давила со всех сторон. Ползти было все труднее и труднее. Затхлый воздух затруднял дыхание. Руки наталкивались на что-то скользкое и гадкое. Несколько раз ребята останавливались, пытались ползти задом, но так ползти было совсем невозможно. Бахарев хорошо помнил этот момент. Силы покинули его. Он с трудом двигал руками и ногами, но все же полз. Вспомнились мать, отец, жаркое солнце на улице к крупные зеленые яблоки в саду. Уходя из дому, он забыл дать корм кроликам. Кто же их теперь накормит? Сидят, наверно, голодные и печально смотрят сквозь решетчатую дверцу. Цветы в саду не политы. Завянут совсем, погорят на солнце. Отец и мать на работе. По щекам катились слезы. А может, никогда не увидит он больше ни солнца, ни яблок, ни кроликов, ни цветов? Застрянет в трубе, и никто не узнает, где он умер. От этой мысли стало так больно и обидно, что он рванулся и стукнулся головой о холодную стену трубы. Боль в затылке подхлестнула его, толкнула вперед. Он лихорадочно перебирал руками и ногами. Не чувствовалось больше ни темноты, ни сырости, ни скользких камней.
Все маленькое тело устремилось вперед. Наконец что-то засинело, а потом засветлело впереди. Четко обозначился светлый круг. И вот оно – солнце, овраг, наверху по улице громыхает трамвай. На всю жизнь запомнил Бахарев этот момент.
И сейчас такая же темнота, как и тогда в трубе, давила со всех сторон. Бахарев поправил ушанку, подтянул ремень автомата. Люди попрежнему шли бодро, но и в движениях и в сумрачных фигурах сквозили тревога и усталость.
Младший лейтенант Аристархов шагал замыкающим. Его неширокие плечи гнулись под тяжестью мешка и автомата. Ноги часто скользили.
Он приостановился, настороженно посмотрел назад и со злостью проговорил:
– А они все время идут и идут по пятам.
– Товарищ гвардии капитан, – прошептал сержант Косенко, – мабуть, мы их подзадержим трохи. Дозвольте мне подкараулить их, резануть автоматом, а вы за это время километров пять махнете. В темноте-то не скоро очухаются.