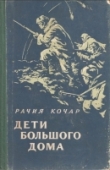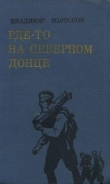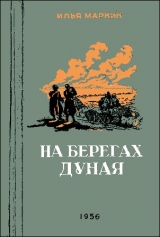
Текст книги "На берегах Дуная"
Автор книги: Илья Маркин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 31 страниц)
Часть третья


I
В первые дни 1945 года лихорадочное оживление царило в ставке Гитлера. Генералы и штабные офицеры передавали друг другу последние новости, но, боясь друг друга, говорили только то, что хотел услышать Гитлер. Наступило самое страшное для фашистской Германии время. Немецко-фашистская армия, как зверь в предсмертной агонии, начала свой последний прыжок. По приказу Гитлера отборные танковые дивизии от предместий чехословацкого города Комарно рванулись на Будапешт. В первый день они продвинулись от шести до восьми километров и перевалили через горы Вертэшхедьшэг.
Гитлеру доложили об этом. Он приказал благодарить наступающие войска. Но в докладе была упущена одна «маленькая» подробность; говоря о продвижении, Гитлеру не сказали, что наступающая группировка потеряла в боях до тридцати процентов людей и более сорока процентов танков.
Во второй и третий день наступления дивизии продвинулись еще на восемь-десять километров. И опять Гитлеру «забыли» доложить, что потери наступающих войск достигли шестидесяти процентов в личном составе и более семидесяти – в танках.
А на четвертый день гитлеровские дивизии не продвинулись ни на шаг. Они несли все новые и новые потери, но их рубежи оставались там же, где были и вчера.
На помощь ударной группировке были брошены ближайшие резервы. Прошло еще двое суток ожесточенных боев, а фашистские дивизии стояли все там же, на восточных отрогах гор Вертэшхедьшэг.
Взбешенный Гитлер приказал снять все танковые дивизии с других участков фронта в Венгрии, сосредоточить их перед центром советской гвардейской армии и нанести новый удар.
Утром 7 января рванулась в наступление новая ударная группировка гитлеровских войск. Рванулась – и, оставив на полях под селом Замоль тысячи трупов и десятки сожженных танков, отхлынула назад. Пять суток, не умолкая ни днем, ни ночью, шли яростные бои на этом направлении. Захлебнувшись в собственной крови, гитлеровские войска не достигли успеха и перешли к обороне.
Неудачи под Будапештом взбесили Гитлера. Он метался, ища выхода. Выход, по его мнению, был только один: нанести тяжелые поражения англо-американским войскам и постараться заставить союзников пойти на сепаратный мир.
Гитлер прекрасно знал положение англо-американских войск. Фашистская агентура была везде даже в штабах Эйзенхауэра, Брэдли и Монтгомери.
Арденнский удар, помимо материальных потерь, нанес англо-американским войскам тяжелое моральное поражение. Англо-американские войска были деморализованы и боялись немецкого наступления. Выброшенные в тылах немецкие парашютисты-диверсанты терроризировали тыл. Англичане и американцы останавливали каждого встречного, подозревая в нем диверсанта. В одиночку никто не ходил и не ездил. Передвигались только группами, с вооруженной охраной.
Грызня между Монтгомери и Брэдли с каждым днем принимала все большие и большие размеры. Теперь это уже была не вражда двух генералов, а националистический антагонизм военных двух государств. Подхлестываемые правящими кругами, английские газеты и радио не жалели красок для поношения Брэдли и заносчивых американцев.
Американцы, в свою очередь, не оставались в долгу. Брэдли при своем штабе организовал собственный отдел печати. В первых же заявлениях корреспондентам Брэдли доказывал, что Монтгомери не мог выиграть Арденнскую битву, потому что он:
во-первых, «не принимал в ней никакого участия, пока не была установлена основная стратегия обороны»;
во-вторых, «даже когда он командовал северным сектором битвы, исход этой битвы решался не на севере, а на юге, в Бастони, где были войска Брэдли», и,
в-третьих (только не стенографировать!), Монтгомери вообще тупица, бездарь, карьерист, и только сумасбродные англичане могли такому тупице доверить командование войсками. Будь он американцем, ему бы взвода не дали, а в Англии он фельдмаршал!
Каждое слово Брэдли с быстротой молнии распространялось в войсках. Закипели националистические страсти. В пивных и ресторанах вспыхивали драки между американскими и английскими офицерами. Глухо роптали и солдаты. Все чувствовали, что хорошим это не кончится, но никто не мог остановить все разгоравшиеся междоусобицы.
А Гитлер только этого и добивался. Англичан с американцами он почти поссорил. Теперь осталось стравить их с русскими. Но русские – Гитлер это понимал – на склоку не пойдут. Они упорно будут добиваться своего.
И Гитлер решил прежде всего разделаться с американцами и англичанами. На Западном фронте началась сложная перегруппировка войск. Из наличных тут сил наиболее боеспособные дивизии сосредоточивались в районе Арденнского выступа.
К 6 января с правого фланга Западного фронта к Арденнам маршировали десять дивизий и одна бригада. Там, где были разгромлены войска 1-й американской армии, сосредоточивалась мощная немецкая ударная группировка. Она нацелилась на побережье Ла-Манша и угрожала разрезать англо-американские войска на части и сбросить их в море.
Англо-американское командование знало об опасности и в панике искало выхода. Но выхода не было. Английские и американские войска были деморализованы, значительных резервов не было, свежие силы находились на американском континенте. Для переброски их требовалось длительное время. Действовавшие на Западном фронте англо-американские войска с каждым часом все больше и больше охватывал страх перед новой катастрофой.
Крупные дельцы и генералы начали заблаговременно переправлять ценности в Англию. Как ветром сдуло праздных экскурсантов и туристов. Все меньше и меньше оставалось корреспондентов. Как крысы с тонущего корабля, бежали различные дельцы и маклеры. Обстановка с каждым днем накалялась и принимала размеры катастрофы.
5 января в штаб Эйзенхауэра прилетел Черчилль. На сверхсекретном совещании обсуждались различные меры по предотвращению катастрофы. Совещание продолжалось долго, но никакого решения принято не было. Черчилль улетел в Англию.
6 января 1945 года Черчилль обратился с посланием к Советскому верховному главнокомандующему.
«На Западе идут очень тяжелые бои, и в любое время от Верховного Командования могут потребоваться большие решения. Вы сами знаете по Вашему собственному опыту, насколько тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий фронт после временной потери инициативы. Генералу Эйзенхауэру очень желательно и необходимо знать в общих чертах, что Вы предполагаете делать, так как это, конечно, отразится на всех его и наших важнейших решениях. Согласно полученному сообщению наш эмиссар главный маршал авиации Теддер вчера вечером находился в Каире, будучи связанным погодой. Его поездка сильно затянулась не по Вашей вине. Если он еще не прибыл к Вам, я буду благодарен, если Вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января, и любые другие моменты, о которых Вы, возможно, пожелаете упомянуть. Я никому не буду передавать этой весьма секретной информации, за исключением фельдмаршала Брука и генерала Эйзенхауэра, причем лишь при условии сохранения ее в строжайшей тайне. Я считаю дело срочным».
На это послание 7 января 1945 года был дан У. Черчиллю следующий ответ:
«Получили вечером 7 января Ваше послание от 6 января 1945 года.
К сожалению, главный маршал авиации г-н Теддер еще не прибыл в Москву.
Очень важно использовать наше превосходство против немцев в артиллерии и авиации. В этих видах требуется ясная погода для авиации и отсутствие низких туманов, мешающих артиллерии вести прицельный огонь. Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако, учитывая положение наших союзников на западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему центральному фронту не позже второй половины января. Можете не сомневаться, что мы сделаем всё, что только возможно сделать для того, чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам».
Уже через несколько дней гитлеровскому командованию, видимо, стало известно, что советские войска перейдут в наступление во второй половине января. Оно предпринимает срочные меры. Все резервы и пополнения спешно отправляются на восток, войска приводятся в боевую готовность, авиация перебазируется ближе к Восточному фронту.
Одновременно с усилением фронта в Восточной Пруссии и в Польше Гитлер решает нанести новый удар в сторону Будапешта и спасти свои окруженные войска. Резервов в Германии больше не было. Все было брошено на фронт. А в Будапеште в кольце советских войск сидели 180 тысяч человек. На последнем этапе войны эти силы имели бы немалое значение.
Для нового удара на Будапешт Гитлер решает использовать те самые танковые дивизии, которые участвовали в первых двух ударах. Однако этих дивизий, как боевых единиц, уже не было. Оставались только штабы и тылы. Гитлеровское командование под метелку очищает все учебные пункты, запасные части и собирает пополнение для танковых дивизий под Будапештом. В эшелоны грузятся сотни танков и пушек с экипажами и расчетами. Без остановок эшелоны мчатся через Вену в западную Венгрию.
Местом начала нового удара на Будапешт были избраны берега озера Балатон. Отсюда вновь сформированные танковые дивизии «SS» должны были ударить на восток, прорвать советскую оборону юго-западнее и южнее города Секешфехервар, выйти на открытую равнину между озером Веленце и рекой Дунай и таранным ударом пробиться в Будапешт.
Для скрытого сосредоточения новой ударной группировки гитлеровское командование придумало хитроумный маневр. Оно снимало танковые дивизии с фронта в Венгрии, грузило их в эшелоны и направляло в Чехословакию, затем в Германию, из Германии в Австрию и из Австрии обратно в Венгрию.
Если для сосредоточения ударной группировки в новом районе по прямой нужно было пройти всего 60–80 километров, то по этому плану войска более 1500 километров ехали по железной дороге и уже затем сосредоточивались для наступления.
Перед началом наступления Гитлер снова отдал приказ своим войскам в Венгрии: любой ценой прорваться в Будапешт и выручить окруженные войска.
В текст этого приказа Гитлер добавил специальный пункт: «…всех русских солдат и офицеров, которые попадут в плен, немедленно уничтожать, уничтожать всех до одного».
После 10 января по всей территории, занимаемой немецкими войсками, шла сложная перегруппировка. Одни эшелоны шли на запад, другие на восток, третьи на юг.
Англо-американское командование ожидало новый удар в Арденнах. Немецкая группировка была почти готова к наступлению. Те, кто передал немцам о сроках наступления Советской Армии, с нетерпением ждали, когда Гитлер свои войска из Арденн потянет на восток.
Но Гитлер не торопился перебрасывать арденнскую группировку.
Советское Верховное Главнокомандование все учло и перенесло сроки наступления со второй половины января на 12 января.
Зная прежние сроки наступления советских войск, гитлеровское командование не успело полностью подготовиться к отражению их могучих ударов.
Ранним утром 12 января от Балтийского моря и до Карпат, на фронте более 1200 километров, началось грандиозное наступление белорусских и украинских фронтов Советской Армии.
В первый же день оборона гитлеровцев была прорвана на многих направлениях. В прорыв пошли крупные танковые, механизированные и кавалерийские соединения. Весь Восточный фронт немцев трещал и разваливался на куски.
В тот же день, 12 января, гитлеровское командование приняло решение о немедленной переброске войск из района Арденн на восток.
Те дивизии, которые были нацелены для наступления против англо-американцев, в эшелонах и своим ходом замаршировали на восток.
13 января все немецкие танковые дивизии 5-й и 6-й танковых армий были сняты с англо-американского фронта.
А 14 января американцы начали «решительное» наступление с севера и с юга на Арденнский выступ, 16 января Эйзенхауэр торжественно докладывал правительствам, что арденнский мешок «ликвидирован».
В то время, когда шло наступление советских центральных фронтов, а немецкие дивизии с англо-американского фронта маршировали на восток, на берегах озера Балатон сосредоточивалась новая группировка гитлеровских войск для наступления на Будапешт.
Под Будапештом снова сгущались грозовые тучи.
II
Генерал Дубравенко в четвертый раз перечитывал оперативную информацию штаба фронта. Скупые фразы раскрывали грандиозную картину наступления Советской Армии. Белорусские и украинские фронты 12 января 1945 года перешли в общее наступление и крушили фашистскую оборону от балтийских берегов до сизых, в снеговых уборах, карпатских вершин. Советские полки, бригады, дивизии, корпуса, армии штурмовали Варшаву, один за другим освобождали польские города, шаг за шагом пробивались к Кенигсбергу, к Бреслау, к границам фашистской Германии – на Одер, на Шпрее, к Берлину. На тысячекилометровом пространстве танковыми таранами кромсалась гитлеровская многополосная оборона, таяли, как весенний снег, фашистские полки, дивизии и корпуса. В «котлах» и «кольцах» доколачивались остатки вражеских группировок. Фронт с каждым часом катился все дальше и дальше на запад, к городам и селам Германии.
Дубравенко на карте Европы отмечал продвижение советских войск, думая о перспективах последующих событий. В Восточной Пруссии, в Польше и на границах Чехословакии гитлеровские войска неудержимо катились назад, а в Венгрии, перед фронтом гвардейской армии, только вчера прекратили наступление.
Там, где две недели ни ночью, ни днем не умолкали ожесточенные бои, наступило затишье. Прошли сутки, кончались вторые, а противник даже огня не вел.
Разведка непрерывно доносила, что перед правым флангом гвардейской армии, там, где наступали наиболее боеспособные танковые дивизии «SS», на переднем крае и в тылу противника начались какие-то передвижения войск. Танки, мотопехота и артиллерия снимались с фронта и отходили в тыл, сосредоточиваясь в лесах и населенных пунктах.
Чем вызвано прекращение наступления противника под Будапештом? Этот вопрос вторые сутки не мог решить Дубравенко. А его нужно было решить и как можно скорее. Ударная группировка противника понесла тяжелые потери. Это безусловно. Пленные в один голос показывали, что в полках и батальонах осталось меньше одной четверти боевого состава, а многие подразделения перестали существовать. Но тогда зачем гитлеровское командование так поспешно снимает войска с фронта и отводит их в тыл? Едва ли для доукомплектования нужна такая поспешность. Гитлеровцы обычно доукомплектовывали свои дивизии, не снимая их с фронта и не отводя в тыл.
И второй факт волновал Дубравенко. Перегруппировка перед правым флангом началась 12 января. А как раз в этот день советские северные и центральные фронты перешли в наступление. Это не могло быть случайностью. Несомненно, эти два события имели взаимную связь. А если это так, то прекращение наступления и перегруппировка немецких войск под Будапештом предпринимались с целью усиления участков фронта перед советскими наступающими фронтами.
Дубравенко вновь всмотрелся в карту. В самом деле, удары белорусских и двух украинских фронтов были нацелены на жизненные центры Германии. Главный удар, несомненно, наносился в сторону Берлина. Самое опасное сейчас для Германии – наступление советских фронтов. Они могут за несколько дней очистить Польшу и ворваться на территорию самой Германии.
«Значит, главное решается в центре, – подытоживая свои размышления, решил Дубравенко, – и Гитлер все свои силы, видимо, стягивает туда. Но как же будапештская группировка? Неужели гитлеровское командование отказалось от спасения своей 180-тысячной группировки, окруженной в Будапеште? Эта группировка яростно сопротивляется, упорно обороняя каждый дом. Ее командование не приняло предложения командующих Вторым и Третьим украинскими фронтами о прекращении бессмысленного кровопролития и подло убило советских парламентеров».
В последние дни все было ясно. Разведка своевременно снабжала командование данными о противнике. Особенно ценные сведения доставляла группа капитана Бахарева. Раз в сутки Бахарев по радио передавал коротенькие донесения. И каждое новое донесение все ярче раскрывало состояние противника. За трое суток работы группы Бахарева в тылу были уточнены места расположения тактических резервов противника, районы огневых позиций артиллерии и дислокация тылов перед центром гвардейской армии.
«Группу Бахарева нужно направить на правый фланг и установить, куда противник перебрасывает свои войска», – решил Дубравенко и вызвал начальника разведки армии.
На вопрос Дубравенко, когда будет очередной разговор с Бахаревым, Фролов ответил, что с капитаном потеряна связь. За тридцать часов от него не получено ни одного донесения. Четыре радиостанции круглосуточно дежурят на его волне, и ни одна не поймала от него сигналов!
Дубравенко понимал, как трудно группе Бахарева. Кругом войска противника, чужая, незнакомая местность. Малейшая оплошность – и группа могла целиком погибнуть. Только на свои силы мог рассчитывать Бахарев. Помочь ему никто не мог.
– Возможно, с радиостанцией что-нибудь? – проговорил Дубравенко.
– Трудно сказать, – ответил Фролов, – все время работала хорошо.
Дубравенко отошел от стола и выглянул в окно. Опять начался густой снегопад. Соседний дом запеленала белесая мгла. В такую погоду и на авиационную разведку надежды плохи. Даже на самой малой высоте летчики не смогут увидеть, что делается на земле. Опять, как и в первые дни января, погода работала на противника. Такой снегопад маскирует лучше, чем ночная темнота.
– Да, – со вздохом проговорил Дубравенко, – надежда только на наземную разведку и радиоподслушивание.
– Все рации танковых дивизий противника прекратили работу.
– Тимофей Фомич, как вы думаете, – после раздумья спросил Дубравенко, – может противник отказаться от спасения своей окруженной группировки?
– Безусловно может, – не задумываясь, начал Фролов. – В определенных условиях обстановки это может быть даже выгодным. Окруженная группировка привлекает на себя немало наших войск. Она сковывает маневр и вынуждает постоянно беспокоиться за свой тыл. Возьмите Курляндию. Там двадцать дивизий прижаты к морю и Гитлер не выводит их. Это явно рассчитано на то, чтобы держать наш тыл под непрерывной угрозой удара этой группировки.
Доводы начальника разведки казались Дубравенко вескими и вполне обоснованными. В самом деле, что такое окруженная в Будапеште группировка по сравнению с той угрозой, которая нависла сейчас над фашистской Германией? Небольшой ручеек – и горный водопад. Ручеек можно перепрудить, отвести в сторону, а водопад ничем не остановишь.
– Так вы считаете, что перегруппировка перед нашей армией проводится с целью усиления фронта в Польше? – в упор спросил Дубравенко.
– Я такого вывода пока еще не сделал, – потупив взгляд, ответил Фролов, – но логика вещей говорит за это.
– Значит, гитлеровцы не будут больше наступать на Будапешт? – еще настойчивее спрашивал Дубравенко.
– Вполне возможно. Два их удара ни к чему не привели. Едва ли они рискнут нанести третий.
Разговор перебил резкий телефонный звонок. Дубравенко потянулся к трубке, прижал ее к уху. По обрывкам разговора Фролов понял, что речь идет о каких-то новых данных о противнике.
– Начальник штаба корпуса полковник Джелаухов докладывает, что его разведчики захватили пленных. Принадлежат мотополку «Мертвая голова». Показывают, что их дивизия перебрасывается в Комарно и грузится в эшелоны. Три эшелона уже ушли в сторону Праги. Там же грузится и «Викинг».
– Грузятся в Комарно и едут на северо-запад, – повторял Фролов, – на северо-запад. Значит, они отказались от спасения будапештской группировки.
– Не торопитесь делать окончательные выводы, – остановил его Дубравенко. – Эти показания могут быть ложными, провокационными.
Беседу вновь перебил телефонный звонок.
Окончив разговор, Дубравенко придвинул карту и, не поднимая головы, сказал:
– Начальник штаба фронта звонил. Фронтовая разведка подтверждает факт погрузки танковых дивизий в Комарно и отправки их в сторону Праги. Одновременно штаб фронта получил данные, что немецкие войска выводятся из Арденнского выступа на Западном фронте и перебрасываются на восток.
– Теперь картина совершенно ясна, – выслушав начальника штаба, заговорил Фролов, – все бросает против наших наступающих фронтов, все – и с Западного фронта и с нашего участка.
С этим выводом Дубравенко был согласен.
Действительно, все эти факты говорили за то, что гитлеровское командование решило отказаться от спасения своей окруженной в Будапеште группировки и все свои силы концентрировало против наступающих советских фронтов.
Это в корне меняло положение гвардейской армии. Теперь нечего было опасаться новых ударов противника. Наоборот, нужно было самим как можно скорее нанести удары и сковать гитлеровские войска под Будапештом, не дать им снять ни одного солдата и перебросить в Польшу.
Придя к такому решению, Дубравенко невольно подумал о войсках противника, окруженных в Будапеште.
Гитлер оставлял их на произвол судьбы. Сами окруженные едва ли верят в то, что им удастся собственными силами вырваться из окружения. Им остается только одно: или сдаться в плен, или погибнуть.
Твердая убежденность в правильности оценки обстановки придала Дубравенко новые силы. Он встал из-за стола и подошел к окну. Снегопад не прекращался. Пушистые хлопья падали на крыши, на окна и тут же таяли. Скоро начнется весна. В этих краях она наступает рано. Иногда в такое время года уже цветет сирень.
Через несколько дней гвардейская армия может возобновить наступление. Впереди западная часть Венгрии, Австрия, Вена, Альпы. Дубравенко по картам и описаниям хорошо знал Альпы. А теперь придется побывать в них, походить по горам, может быть взобраться на самые высокие вершины. И где-то в Альпах закончится война.
Однако, как ни твердо был уверен Дубравенко в правильности оценки намерений противника, его не покидала тревога за дальнейшие события. Нужно было достоверно знать, что конкретно будет предпринимать противник перед фронтом гвардейской армии.
– Тимофей Фомич, – заговорил он, подойдя вплотную к Фролову, – теперь особенно необходимо усилить разведку. Противник может внезапно начать отход. В центре и на правом фланге он занимает невыгодные позиции, на них трудно обороняться, и к тому же фронт изломан, растянут. Он попытается сократить его. Главное для нас – не дать противнику отойти безнаказанно.
– Да, – согласился Фролов, – этим мы поможем нашим наступающим фронтам. Чем больше мы скуем сил противника, тем легче нашим наступать.
– Безусловно, – подтвердил Дубравенко, – и, кроме того, нужно готовиться самим к наступлению. И наступать, видимо, придется только наличными силами. Резервы Верховного Главнокомандования наверняка будут брошены на центральные фронты. Главная задача решается там, а наш фронт имеет второстепенное значение.
Начальник штаба и начальник разведки долго еще сидели, обсуждая, как лучше организовать разведку и не дать противнику отвести свои войска.
III
На обрывистом берегу канала Алтаев остановил машину. По колени утопая в снегу, он сошел с дороги, достал из планшета карту и осмотрелся. Это был тот самый канал Шарвиз, что голубой лентой окаймлял тылы левофланговых соединений армии. Начинался он из прямоугольного, вытянутого в длину искусственного озера и ровной линией спускался к Дунаю. Километрах в двадцати на запад начинались берега озера Балатон. Там проходил передний край обороны.
Опушенные снегом ракиты тяжело склоняли тонкие ветви. Новый недавно достроенный саперами мост желтел свежими досками. У маленькой будки на краю моста неторопливо похаживал часовой. Он видел и машину и Алтаева, но ходил спокойно, будто вблизи никого не было.
По извилистой тропинке Алтаев спустился к воде. То, что сверху казалось льдом, на самом деле была тонкая пленка. Она раскололась от удара комком снега, и по свинцово-синей воде побежала рябь.
– Не пройдут, если морозы не усилятся, не пройдут, – сам себе сказал Алтаев, думая о вражеских танках, – а мост-то придется рвать.
Он вздохнул, вспомнив, с каким трудом удалось построить несколько мостов на канале. Инженерных войск было мало, и мосты строились поочередно. Мостовики работали по восемнадцать часов в сутки.
– Ничего еще не известно, а я думаю о взрывах, – упрекнул он самого себя и пошел к машине.
То, что канал оказался не проходимым для танков, было несомненным преимуществом гвардейской армии. Если противник нанесет удар по левому флангу, то на его пути встанет естественная преграда. Только нужно заранее подготовить оборону на берегу. Но кому это поручить? Свободных войск не было. Нужно или выводить части из первого эшелона, или перебрасывать свои и так малочисленные резервы. Ни того, ни другого делать сейчас нельзя. Хоть и прекратил противник наступление, но еще неизвестны его замыслы. Он снова может нанести удар и опять рвануться к Будапешту.
Перейдет противник в новое наступление или не перейдет? Этот вопрос волновал в последние дни всех, и Алтаев еще не принял окончательного решения. Войска стояли в том же положении, в каком вели оборонительные бои в центре и на правом фланге армии.
Проезжая мост, Алтаев посмотрел на часового. Пожилой усатый солдат, вытянувшись во весь рост, держал автомат перед грудью, отдавая честь. Алтаеву хотелось узнать сейчас, о чем думает этот солдат и ждет ли он нового удара врага. Он хотел было остановиться, но машина стремительно проскочила мост.
У въезда в большое, разбросанное по холмам село Алтаева встретил командир оборонявшегося здесь полка. Невысокий подполковник в длинной шинели и серой каракулевой ушанке заметно волновался. Нежное, почти девичье лицо его раскраснелось, большие серые глаза то смотрели на Алтаева, то скрывались за опущенными веками, то посматривали куда-то в сторону. Но голос его был удивительно спокоен. Он подробно доложил, где обороняется полк, каково состояние подразделений и чем сейчас занимаются его люди.
– А как противник, товарищ Мартынов? – выслушав подполковника, спросил Алтаев.
– Венгры не хотят воевать. Каждую ночь человек по сто – сто пятьдесят переходило. Вот только в прошлую ночь не было ни одного перебежчика.
– Да? Ни одного?
– Ни одного.
– А вы разведку вели?
– Так точно. Действовали две поисковые группы, но… – подполковник замялся и опустил глаза, – но ни одна задачу не выполнила. Сильный огонь, ракеты. Так и не подошли к переднему краю.
– Почему?
– Плохо разведчики подготовились, – после минутного молчания сказал Мартынов и выжидающе смотрел на Алтаева.
– А раньше эти разведчики брали пленных?
– Да еще сколько! Даже офицеров из штаба немецкой дивизии, – возбужденно ответил Мартынов, недоумевая, почему вместо серьезного «нагоняя» генерал армии так спокойно расспрашивает о действиях разведчиков. За то, что обе группы действовали неудачно, Мартынов имел неприятные разговоры с командиром дивизии и с командиром корпуса. Этого же он ожидал и от командующего армией.
– Значит, раньше брали, а сейчас не смогли?.. – задумчиво проговорил Алтаев.
– И готовились долго, – перебил его Мартынов, – я сам проверял, начальник штаба два дня занимался с ними. Ну, а начальник разведки, тот и день и ночь…
– А может, зазнались разведчики ваши? У каждого, небось, по нескольку орденов.
– Все «Славу» имеют, а сержант Кустанаев – Герой.
– Герой, герой, а пленного не взял.
Мысли Алтаева сосредоточились на этих двух фактах: не было перебежчиков и неудачно действовали разведчики. Конечно, и то и другое могло быть случайностью. Но две группы и у обеих неудача? Раньше мадьяры по сотне перебегали, а сейчас – ни одного. Не значит ли это, что в оборону поставлены немецкие войска?
– А в положении и в поведении противника изменилось что-нибудь?
Мартынов ответил, что внешне у противника осталось все так же, как и было. Только непрерывные туманы и снегопад до предела ограничивают наблюдение. Наблюдательные пункты пришлось перенести в первую траншею. Но и оттуда дальше переднего края ничего не видно.
Продолжая разговаривать, они по глубокой лощине незаметно подошли к обороне полка Мартынова. Здесь было совсем не то, что на правом фланге армии. Там, куда ни посмотришь, везде стоят замаскированные пушки, минометы, танки, пулеметы, то и дело перебегают люди, со всех сторон раздается стрельба. А здесь было пустынно. Пока шли к переднему краю обороны, Алтаев увидел только батарею гаубиц, замаскированную в ложбине, несколько минометных стволов в овраге и одно-единственное самоходное орудие, вкопанное в землю.
Это безлюдье неприятно подействовало на Алтаева. Сразу стало холодно, и густой туман казался тяжелым, затрудняющим дыхание и давящим на человека.
То, что здесь было так мало войск, Алтаев знал и раньше. Это его не беспокоило. По его приказам целые полки и дивизии были сняты отсюда и переброшены на правый фланг, где решался исход сраженья. На левом фланге и в центре осталось только минимальное количество войск.
Мартынов, не понимая, что так взволновало командарма, придирчиво осматривался вокруг и пытался найти то, чем вызвано недовольство генерала.
Алтаев думал, что может произойти, если на этом участке гитлеровцы перейдут в наступление и бросят в бой танковые дивизии. Все будет решено за несколько часов. Не успеешь и резервы перебросить.
Впереди открывалось ровное поле, и на нем не было ни одного окопа. Только снежная гладь растворялась в тумане. А всего в полукилометре отсюда находились позиции противника.
– Фронт у меня очень широкий, людей мало, – говорил Мартынов, – вытянул все в одну ниточку, все роты сидят в одной траншее. Только мой резерв стоит вон там, за лесом.
Слово «резерв» Мартынов произнес так внушительно, что Алтаев невольно улыбнулся. Этот резерв состоял всего лишь из нескольких десятков пехотинцев и одной батареи. Видимо, Мартынов привык к обороне на широком фронте и даже такой резерв считал серьезной силой.
Невдалеке от Алтаева из тумана выросла фигура коренастого человека. Шел он неторопливо, как хозяин, осматривавший свое поле перед выездом на весенние работы.
– Кто это? – спросил Алтаев.
– Подполковник Крылов из вашего политотдела, – ответил Мартынов.
– Борис Иванович! – негромко прокричал Алтаев.
Крылов обернулся, увидел Алтаева и заспешил к нему.
– Здравствуйте, Борис Иванович, вы давно здесь?
– Третий день, по приказанию члена Военного совета.