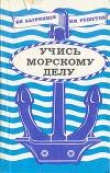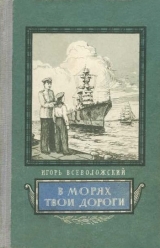
Текст книги "В морях твои дороги"
Автор книги: Игорь Всеволожский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 33 страниц)
– Ну, ладно, – сказал Фрол, взглянув на всхлипывающего Авдеенко. – Проревется и перестанет. Диктуй!
Он протянул мне книжку, раскрыл тетрадь и обмакнул в чернила перо.
– Ну, что же ты?
– Что тебе диктовать?
– Что хочешь.
– Пиши, – сказал я, раскрывая книгу: – «Жара тропического дня начинала спадать. Солнце медленно катилось к горизонту…»
– Постой, ты не самым полным.
Я стал читать медленнее. Но Фрол все же не поспевал, буквы разбегались по бумаге, как мыши, а кляксы догоняли их, словно большие черные кошки.
– «Подгоняемый нежным пассатом, клипер нес свою парусину и бесшумно скользил по Атлантическому океану…»
– А ты не можешь каждое слово отдельно, да пояснее, по буквам?
Я стал читать так медленно и так громко, что даже глухой разобрал бы каждую букву и написал бы без всяких ошибок:
– «Пусто кругом: ни паруса, ни дыма на горизонте…»
– «Гаризонте» или «горизонте»? – переспросил Фрол.
– Го-ри-зон-те.
– А я думал – «гаризонт». Давай дальше!
– «Куда ни взглянешь – все та же безбрежная водяная равнина, слегка волнующаяся и рокочущая каким-то таинственным гулом, окаймленная со всех сторон прозрачной синевой безоблачного купола…»
Я увлекся и, позабыв о том, что Фрол просил выделять каждое слово, продолжал читать залпом:
– «Воздух мягок и прозрачен; от океана несет здоровым морским запахом. Пусто кругом. Изредка разве блеснет под лучами солнца яркой чешуйкой, словно золотом, перепрыгивающая летучая рыбка, высоко в воздухе прореет белый альбатрос, торопливо пронесется над водой маленькая петрель, спешащая к далекому африканскому берегу, раздастся шум водяной струи, выпускаемой китом, и опять ни одного живого существа вокруг…»
– Вот здорово! – прервал меня Фрол. Он больше уже не писал. Да и мог ли он поспеть за мной, несшимся по строчкам «Морских рассказов» Станюковича со скоростью торпедного катера! – Как это там? «Несет здоровым морским запахом… Воздух мягок и прозрачен». А ведь я это чувствую, Кит. Бывало выйдем на катере ранним утром. «Фрол, – скажет усыновитель, – ты чувствуешь, какая красота?» – «А как же ее не чувствовать, товарищ старший лейтенант?» И тяну носом воздух. А ветер вокруг нас так и рвет, так и рвет! Винты гудят, пена позади так и клубится… Эх, Кит, до чего это здорово! А ты знаешь, мои-то, наверное, не сидят на месте, все, поди, в море да в море… к крымским берегам… Кит! (Тут я заметил, что Авдеенко, сидящий на задней парте, больше не всхлипывает, а, навострив уши и широко раскрыв глаза, слушает Фрола.)
– А?
– Если писать с ошибками, выгонят из училища?
– Выгонят.
– Правду говоришь? А ну-ка погляди, что у меня получилось.
– У тебя, Фрол, ничего разобрать невозможно.
– Да ты слепой, что ли?
– «Воздук мягок и прозрачен»… Зачем ты пишешь «воздух» через «к»?
– Разве? Ну-ка дай мне сюда, переправлю.
Он переправил «к» на «х», посадил огромную кляксу, рассердился и, вырвав из тетради листок, смял его и бросил под парту.
– Диктуй все сначала. Только помедленнее. Понимаешь? Я не хочу, чтобы меня выгоняли! – стукнул он кулаком по парте. – Пусть Авдеенко выгоняют!
Авдеенко, словно угорь, выскользнул из класса.
В опаловом колпаке вспыхнул свет, старшина Протасов не раз заглядывал в класс, а я все диктовал «Человека за бортом». Фрол, пыхтя, злясь и ломая перья, по нескольку раз переспрашивал каждое слово и сам не раз повторял его, прежде чем написать на бумаге. Хотя он и наделал ошибок, но меньше, чем в первый раз.
– Поставь мне отметку, – предложил Фрол, когда я подчеркнул все ошибки.
– Что ты, Фрол! Как я могу тебе ставить отметки?
– А ты поставь, тебе говорят!
Я поставил ему три с плюсом вместо трех с минусом, которые ему причитались. Фрол был счастлив и не скрывал своего счастья: подышал на листок с диктантом, чтобы он поскорее просох, аккуратно сложил его и спрятал в карман.
Прозвучал отбой, и мы отправились в кубрик, где я, торопливо раздевшись и сложив по всем правилам одежду, ткнулся носом в подушку и заснул, как убитый, без всяких снов.
* * *
Сурков и Кудряшов не раз нам рассказывали, что матросы на их кораблях в перерывах между боями сидели над книжкой: одни готовились, как только кончится война, пойти в высшее морское училище, чтобы стать офицерами, другие – в какой-нибудь другой вуз. Мы внимательно слушали воспитателей, и нам становилось стыдно. Люди воюют и успевают учиться, а мы только учимся – и сплошь да рядом плохо готовим уроки Мы горячо осуждали лодырей. И как весело и радостно было отчетливо ответить выученный урок по истории, решить на доске трудную задачу, найти на карте города, острова и реки, прочесть наизусть большое стихотворение!
В такие дни, когда все шло гладко, мы были довольны преподавателями, а преподаватели – нами.
С каждым днем в училище прибавлялось что-либо новое. Однажды на площадке парадного трапа появился написанный масляными красками портрет адмирала Нахимова во весь рост. В другой раз нас позвали выгружать множество ящиков. Мы снесли их в комнату; на двери появилась надпись «Библиотека», и на следующий день пришли столяры, чтобы сделать книжные полки. Через несколько дней библиотека была открыта. Все стали читать запоем.
Как-то Горич пришел с заговорщическим видом, приказал нам построиться и повел всех в дальний конец коридора, к наглухо запертой двери. Он достал из кармана ключ и велел дежурному открыть дверь.
Мы очутились в военно-морском кабинете. Там стояли модели кораблей, катеров и подводных лодок, развешаны были по стенам морские карты. Мы рассыпались между столами.
Военно-морской кабинет был делом рук Горича, и он им очень гордился.
Он часто стал запираться в кабинете после занятий с Фролом, с Забегаловым или с Девяткиным, и появлялась парусная яхта или гребная шлюпка с тщательно выточенными миниатюрными веслами.
Адмирал приказал назначить заместителей старшин из воспитанников. Заместителем Протасова был назначен Девяткин. Это не понравилось Фролу: он должен был подчиняться Юре. Но Юра не возгордился, и Фрол поостыл.
Начальник и офицеры изо всех сил старались сделать училище похожим на корабль. Оно всегда отличалось корабельной чистотой. Я никогда не подумал бы дома вымыть полы, а тут, вооруженный шваброй, надраивал палубу.
По субботам, во время большой приборки, новый заместитель старшины не командовал и не распоряжался, а сам, засучив рукава и брюки, первый вооружался шваброй и ведром с водой и показывал всем пример, как надо драить палубу так, чтобы она блестела. И класс, и кубрик, и наш участок коридора, и парадный трап, которым мы, как старшие, владели, сверкали такой чистотой, какой славятся корабли на флоте. И если Авдеенко возмущенно заявлял, что дома его никто никогда не заставлял мыть полы, это всегда делали другие, – Юра спокойно отвечал, что он тоже дома даже не прибирал за собой тарелок. И Авдеенко, морщась и боясь запачкаться, лениво тер шваброй пол. Все остальные охотно участвовали в авралах. Наблюдавший за нами Кудряшов подбадривал нас, говоря, что мы бы с нашим усердием не посрамили даже его «морского охотника». Но тут же добавлял, что нерадивых (он намекал на Олега) матросы не потерпели бы.
– Ленивый и нерадивый человек подводит товарищей, – говорил воспитатель.
Не знаю, доходило ли все это до Авдеенко.
По утрам Юра приносил свежую газету и до начала уроков прочитывал нам сводку Совинформбюро, а потом показывал на карте, как фронт продвигается к западу. Нас волновало то, что происходило за дальним хребтом, который был виден со двора в хорошую погоду. Наш класс первым захватывал в библиотеке «Красного черноморца», и мы читали вслух о боях, происходивших на подступах к Крыму. Здесь Фрол знал все: что такое «сейнеры», «мотоботы», как высаживается десант. Он радовался, когда в газете сообщалось о нашем соединении, об офицерах и матросах, с которыми он вместе ходил на катерах. Юра с чувством читал стихи:
Ночь… И море вздыблено норд-остом.
Вражий берег. Минные поля…
Знаем мы: не очень это просто
Город свой от немцев вызволять! Смелый штурм!
Вперед, на дело чести,
С палубы шагнул ты корабля.
Подлый враг не скроется от мести!
Под ногами – милая земля…
Фрол притопывал, будто под его ногами была земля, отвоеванная у фашистов.
– Эх, – говорил он, – наши катера там!
– Мой «Серьезный» – тоже, наверное, – подхватывал Забегалов.
– И мой батальон, – добавлял Девяткин.
Кудряшов, оказывавшийся тут же, подтверждал:
– Да, они выполняют боевые задания на пятерки. И, по-моему, нам будет стыдно, если мы будем отставать от своих старших товарищей – моряков и плестись на тройках, в хвосте. Следует и нам подтянуться. Ведь придет день – и мы отрапортуем флоту: «Смена растет и придет на флот знающими и образованными моряками». Не так ли?
Слова Кудряшова заставили многих из нас призадуматься.
Мы несли вахты, как на корабле. Нас назначали помощниками дежурного офицера, который встречает всех приходящих в училище – военных и «вольных» – и следит за порядком. Я чувствовал себя в такие дни совсем взрослым, вахтенным офицером, который отвечает за благополучие и порядок на доверенном ему корабле. У меня даже походка переменилась – стала более уверенной, четкой.
Однажды на вахте у знамени училища я стал мечтать, чтобы именно в эту минуту зашел в училище фотограф, заснял меня, а потом поместили бы снимок в газете. Или чтобы на меня напали какие-нибудь ворвавшиеся в училище диверсанты (я весьма смутно представлял себе, что за бандиты могут ворваться в училище). Я был убежден, что буду защищаться до последней капли крови и крикну им в лицо: «Умираю, но не сдаюсь!» Или чтобы в училище возник пожар и все про меня забыли, но я стоял бы среди дыма и огня. А когда станет рушиться потолок, я спрячу знамя на груди и выпрыгну в окно. И адмирал скажет: «Вы – настоящий нахимовец, Рындин. Я горжусь вами».
* * *
В воскресенье утром Протасов обрадовал нас:
– Сегодня идем в театр.
Фрол, густо намылив голову и подставив ее под холодную струю лившейся из крана воды, отфыркивался и сообщал Бунчикову, что уж если в театре устраивают пожар на сцене, так он настоящий, и чтобы тушить его, вызывают пожарную команду. Я не посовестился соврать, что однажды видел в театре корабль, плывший по настоящей воде. А Авдеенко хвастался, что он в театре бывал чуть не каждый день и видел и оперу, и драму, и балет, и даже оперетту. Что такое оперетта, он так и не сумел объяснить, как мы ни допытывались.
Когда мы, позавтракав, построились, перед тем как выйти на улицу, и Кудряшов, одетый по-праздничному, в черной тужурке и с черным галстуком на накрахмаленной сорочке, оглядел нас, он остался нами доволен.
Приехав в театр, мы с любопытством рассматривали большой зеленый зал с креслами, крытыми зеленым бархатом.
После третьего звонка заняли места в ложах. Рядом со мной сидели Фрол, Девяткин, Поприкашвили, а позади нас – Протасов и Кудряшов. Свет погас, дирижер взмахнул палочкой. Возле ложи в партере сидел молодой лейтенант. Он громко разговаривал с девушкой даже тогда, когда на него сзади зашикали.
– Этот офицер плохо воспитан, – оказал шепотом Кудряшов.
В антракте он повторил это и горячо стал доказывать, что разговаривать в театре, когда играет музыка или на сцене уже поднят занавес, – это значит быть плохо воспитанным человеком, и только невоспитанный человек будет стучать каблуками или передвигать стулья, усаживаясь, когда опоздает: ведь он мешает другим слушать, а музыкантам и актерам – играть.
Но никто из нас и не подумал бы нарушить тишину. Самые отчаянные, облокотившись на плюшевый барьер и опершись на руки подбородком, казалось, оцепенели, жадно ловя глазами происходящее на сцене, настороженными ушами – чудесные звуки. Я поглядел на Фрола. Передо мной сидел новый Фрол, совсем незнакомый, с задумчивым, мечтательным лицом. Вот что делает с человеком музыка!
Юра подался вперед, покачивая головой, и беспрерывно шевелились его пальцы, лежавшие на бархате барьера. А Авдеенко, наверное, представлял, что он поет там в черном фраке: «В вашем доме я встретил впервые…»
В антрактах мы разглядывали в фойе фотографии артистов. На нас все тоже поглядывали. Старик в золотых очках задал Бунчикову вопрос, сколько лет надо учиться, чтобы стать моряком. Вова заморгал, покраснел и смутился. Кудряшов тут же рассказал старику о нахимовцах, а когда мы вернулись в ложу, сказал:
– Нахимовец – будущий морской офицер, а морской офицер должен быть вежливым, общительным и воспитанным человеком. Вы пойдете в дальние плавания и будете встречаться с людьми, которые знают нашу страну только по газетам. Вы должны будете показать им, что такое советский человек.
Мы вернулись в училище, и разговоров хватило на целый день.
Фрол изображал дуэль Онегина с Ленским, нацеливаясь на Бунчикова подушкой, и требовал, чтобы Вова немедленно спел: «Куда, куда вы удалились…» Поприкашвили, довольно правильно уловив мотив, напевал: «Любви все возрасты покорны…» Все выдумывали небылицы, вроде того, что Олега Авдеенко разыскал директор театра и предлагал ему завтра же выступить на сцене, петь Ленского, что генерал Гремин похож на нашего Горяча и что старик, пристававший с вопросами к Бунчикову, обратился к Кудряшову с просьбой зачислить его в воспитанники училища. И мы хохотали до слез. Я и Поприкашвили завернулись в простыни, как в плащи, и разыграли сцену дуэли. Фрол несколько раз провозгласил хриплым басом: «Убит», тыча меня, лежавшего на полу, босой пяткой, а Авдеенко вспоминал: он в Большом театре в Москве слушал Козловского, и Козловский выходил раскланиваться с публикой после того, как его наповал убили.
– И мама сказала, что если я хочу быть скрипачом – я ведь на скрипке учился, – она пригласит самого лучшего музыканта, чтобы со мной заниматься. А отец…
– Послушай! – вспылил Юра. – Зачем ты тычешь всем в нос маму и папу? Вот я, например, – продолжал он горячо, – ни за что не хотел бы, чтобы меня только за отца уважали. Я бы добился… и я добьюсь, – оказал он с уверенностью, – чтобы мой отец мог мною гордиться. Я не знаю – может быть, музыку сочинять буду.
Кто-то хихикнул.
– Ну, чему смеетесь? – спросил Юра. – О Римском-Корсакове вы слышали?
– Слышали.
– Он был моряком. Другой композитор – Бородин, который написал «Князя Игоря», был химиком. А Цезарь Кюи – этот был инженер-генералом. Значит, можно быть моряком и в то же время музыкантом.
– Мой усыновитель Маяковского читал, – подхватил Фрол, – про советский паспорт. Боцман на аккордеоне играл, химист – на балалайке, а лейтенант пел: «О дайте, дайте мне свободу…» Ну и голосище же у него был! В бараке переборки шатались… Вот и мы можем устроить вечер.
– И показать, что и моряк может быть артистом, – добавил Юра.
– Отличная мысль! – сказал слушавший наш разговор Кудряшов. – Я поговорю насчет вечера с адмиралом.
– Разрешите воспитанникам получить письма, – обратился к нему появившийся в дверях Протасов.
Все кинулись в канцелярию – даже те, которые наверняка знали, что никаких писем не получат.
* * *
– Авдеенко! Рындин! Живцов! Поприкашвили! – выкликал писарь.
Мы хватали с жадностью письма, и каждый старался забраться в укромный уголок, чтобы прочесть письмо без свидетелей. Я ушел в кубрик, на свою койку. Один конверт был надписан знакомым почерком матери; другой, серый, из плотной бумаги, был со штампом полевой почты, и почерк был мне незнаком. Когда я вскрывал письмо, руки дрожали.
«Никита! – прочел я. – Мой старый друг, начальник училища, сообщил мне, что ты учишься хорошо, а Живцов старается наверстать упущенное. Я очень рад за вас. Ведь оба вы представители нашего соединения, и я убежден, что вы не запятнаете его недостойными поступками, тем более что, по приказу товарища Сталина, мы отныне – гвардейцы. Мы уже находимся далеко от той тихой речки, где ты был у нас в гостях. Я не могу сообщить тебе, где мы, но мы с каждым днем продвигаемся на запад и надеемся, что и ты и Живцов приедете к нам в Севастополь. Севастополь в непродолжительном времени будет нашим, поверь слову гвардейца! От имени всего личного состава я шлю вам самый горячий привет и пожелание дальнейших успехов. Выше головы, ребята, смело шагайте к морю!»
Капитан первого ранга не забыл нас!
Я вскрыл другой конверт.
«Никиток, мой любимый! – писала мама. – Есть надежда, что я скоро увижу тебя; я должна ехать в Тбилиси за литературой. Очень может быть, что я скоро уеду отсюда, куда – расскажу при встрече. Так радостно чувствовать, что наша армия все время идет вперед, что мы со всех сторон окружили Крым и, наверное, близок тот день, когда будет освобожден Севастополь. Ты помнишь, папа рассказывал, какой это красивый город? Фашисты его разрушили, там теперь одни развалины, но его снова построят, еще красивее и лучше, чем раньше. Я очень скучаю без тебя, мой любимый, и меня радует, что ты учишься хорошо. Какой у тебя, наверное, бравый вид! Как я хочу увидеть тебя в морской форме!
Я послала тебе немного денег, может быть, ты захочешь себе что-нибудь купить или угостить друзей. Крепко целую тебя. Твоя мама».
Я разыскал Фрола и прочел ему письмо капитана первого ранга. Фрол в свою очередь показал мне письмо Русьева.
«Фролушка, – писал Русьев, – ты ни разу не сообщил мне, как ты живешь в училище. Я знаю, ты рассердился на меня за то, что я тебя не взял больше в море. А ведь я оказался прав. Вскоре после того, как ты уехал, мы попали в такую переделку, что я лежу в госпитале. Фокий Павлович лежит на соседней койке. Гуськову придется перенести тяжелую операцию, его увезли от нас. Что бы было, если бы я тебя не списал в училище? Я бы никогда себе не простил этого. Ведь воина – не игра, а тяжелое и трудное дело. Я скоро выпишусь, и у меня будет новый катер. Надеюсь, успею повоевать и очистить от фашистской погани наше Черное море. Учись, Фрол, учись так, чтобы не осрамить нас. Будь в училище славным гвардейцем! Вперед, на полный!»
– Вот видишь, что получилось! А меня с ними не было.
– Но тебя бы и в живых не было, – возразил я.
– Я бы уцелел! – сказал самонадеянно Фрол.
Тут вбежал Бунчиков:
– Фрол! Кит! Где же вы запропали? Идите в кубрик. Поприкашвили из Зестафони посылку получил, угощает! – Вова с наслаждением жевал.
В кубрике, над горою орехов, вяленой хурмы, коричневых яблок, каких-то длинных синих колбасок, стоял Поприкашвили и радушно приглашал:
– Ешьте, хватайте! Ничего не жалко, на всех хватит.
Он тут же наделял всех и пояснял, что синие колбаски называются чурчхелой и делаются из сгущенного виноградного сока и орехов, а лучше хурмы нет плода на свете.
Все принялись жевать и похваливать угощение, а Поприкашвили следил, чтобы все ели досыта, и говорил, что у его бабушки в Зестафони сад – всем садам сад.
Угостив всех, Илико принялся искать Авдеенко. Он нашел Олега в умывалке, на подоконнике.
– Зачем плачешь? – сказал Поприкашвили. – Возьми чурчхелы, набей рот и расхочется плакать.
Продолжая рыдать, Авдеенко принялся жевать чурчхелу, а Поприкашвили допытывался:
– Плохие новости? Кто-нибудь заболел? Ой, как нехорошо!
Подошел и Юра.
– Олег, в чем дело? – спросил он. – Скажи, может быть, мы поможем?
– Мне никто не поможет! – захлебываясь слезами, бормотал Авдеенко.
– Все равно расскажи. У тебя несчастье?
И столько искреннего участия было в Юрином голосе, что Авдеенко молча протянул ему скомканное и залитое слезами письмо. Я заглянул через Юрино плечо и прочел:
«Пишу тебе в последний раз. Мама и бабушка тебя избаловали, забили тебе голову театром. Я в твоем возрасте пас гусей в деревне и рад был, если имел горбушку хлеба и миску щей на обед. Я не имел возможности учиться. Тебе дана эта возможность, так учись и не задирай нос выше, чем тебе положено. Писем не жди, пока не узнаю, что ты стал человеком. Если тебя исключат из училища, я тебе больше не отец».
– Олег, – сказал Юра, – мы поможем тебе, если хочешь.
– Отлично! – одобрил подошедший Николай Николаевич Сурков. – Товарищи обещают помочь вам. Надеюсь, вы не откажетесь от их помощи?.. Пойдемте-ка, Олег, потолкуем…
И, обняв Авдеенко за плечи, Николай Николаевич отвел его в сторонку, сел рядом с ним на диван совсем по отечески, будто беседуя с сыном. Его сыновей фашисты убили в Дорогобуже – бросили их в глубокий колодец и закидали гранатами…
Глава десятаяМУШТАИД И МТАЦМИНДА
И вот мы дождались, наконец, увольнения!
Я получил немного денег от матери и поделился с Фролом. Он снисходительно принял эти несколько рублей.
В воскресенье старшина был весьма озабочен: ведь за всеми не уследишь! Протасов в последний раз оглядел и даже ощупал каждого. Все было в порядке: ногти и уши, перчатки, пуговицы и носовые платки. Недаром мы по нескольку раз бегали в умывальник, подставляли головы под ледяную струю воды и терли руки мылом и щеткой, а пуговицы – суконкой.
– Хочешь, пойдем со мной? – спросил я Фрола.
– Куда?
– К Стэлле.
– К какой еще Стэлле?
– Мы с мамой жили у них, когда приехали из Сибири. А потом пойдем к Антонине, дочке капитан-лейтенанта Гурамишвили. Знаешь?
– Кругом девчонки! – процедил Фрол презрительно, но я понял, что у него нет знакомых и он пойдет со мной.
Я хотел позвать Юру, но он оставался дежурить в училище. Мы пошли вдвоем.
Пришла весна, все сады на склонах гор розовели, цвели персики и миндаль.
Мы шли по суетливой улице в ногу, размеренным «нахимовским» шагом, с достоинством приветствуя офицеров, неторопливо, но четко прикладывая руки в белых перчатках к вискам. Прохожие оглядывались. Малыши показывали на нас пальцами. Девушки – продавщицы цветов – смотрели на нас через толстые стекла похожего на сад магазина.
– Давай разговаривать, – предложил Фрол.
– Давай, – согласился я.
Но все, о чем я мог поговорить с Фролом, вылетело из головы.
– Ну, что же ты? – спросил Фрол через два квартала. – Язык проглотил?
– Начинай лучше ты.
Но Фрол тоже не мог выдавить из себя ни слова. Наконец, мы свернули в узкую улочку и облегченно вздохнули. Я увидел знакомые ворота.
– Здесь живет Стэлла. Войдем?
– Войдем.
Мы вошли во двор, окруженный галерейками и балконами. Посреди двора был водоем. Я постучался в стеклянную дверь. Толстый Мираб в недоумении уставился на нас:
– Моряки? Чем могу служить?
– Дядя Мираб, вы меня забыли? – спросил я.
– Никито, шен генацвале! – обрадовался толстяк. – А я тебя и не узнал в этой шикарной форме. Где твоя мама? Нашли отца?
Я сказал, что не застал отца на месте.
– Такую дорогу ехали – и не застали. И не повидали? Ай-ай!.. – Мираб покачал головой. – Заходите, моряки, заходите!
Мы вошли в знакомую комнату и поздоровались с тетей Маро.
– А Стэллы нет дома, – сообщила она. – Она часто тебя вспоминала! Всю зиму деньги копила, чтобы пойти с тобой на фуникулер, в цирк и еще куда-то… Прошу за стол.
Мы затоптались на месте, поглядывая на накрытый стол.
– Садитесь, садитесь! – пригласил радушно Мираб. – Как можно прийти в гости и не сесть за стол? Или вы пришли не к грузину?
На белой скатерти появилась курица в ореховом соусе.
– Стэлла нынче дежурит на станции, – рассказывала тетя Маро. – Вы пойдите туда, она будет рада.
– Она будет очень рада, – как эхо, повторил Мираб.
– Она сегодня утром опять вспоминала…
– Да, опять утром тебя вспоминала, – вторил жене Мираб. – И говорила, что если бы знала твой адрес, написала бы письмо.
– Она у нас любит писать письма: бабушке в Зестафони, другой бабушке – в Хашури, тете – в Кутаиси…
– Да, любит письма. И пишет, представьте, по-русски и по-грузински совсем без ошибок, – подхватил Мираб. – Кто читал, все говорят: нет ни одной ошибки, все запятые на месте, и все буквы – ровные, как напечатанные в газете… А Гоги уже на Украине… И он стал гвардейцем и прислал фотокарточку.
Мираб достал фотографию и протер ее носовым платком. Сержант с черными усиками, увешанный медалями, стоял, держась рукой за картонную колонну.
– Гоги поклялся, что дойдет до Берлина, – гордо сказала тетя Маро.
– А уж если поклялся – дойдет, – подтвердил Мираб. – Гоги дойдет!
Когда мы расправились с курицей, Мираб поставил на стол вазу с яблоками.
– Угощайтесь, прошу вас. Горийские яблоки, лучшие в Грузии… А твой отец тоже моряк? – спросил он Фрола.
– У меня нет отца, – мрачно ответил Фрол.
– А мать? – спросил дядя Мираб.
– И матери нету.
– Ай-ай, как нехорошо! Один? – Мираб взял из вазы несколько яблок: – Возьми, возьми, после скушаешь… Вас часто пускают в отпуск?
– Сегодня в первый раз, – сказал я.
– Приходите к нам… Если хотите, я сам зайду за вами и попрошу, чтобы вас отпустили.
– Конечно, приходите, – приглашала тетя Маро. – И мы с Мирабом и Стэлла – все будем очень рады…
Когда мы собрались уходить, сапожник и его жена набили яблоками наши карманы. Мираб показал нам дорогу.
Как и говорила когда-то Стэлла, Муштаид оказался большим парком на берегу Куры. Здесь пахло свежими листьями, дождем и фиалками. Галки перелетали с дерева на дерево. Ребята бегали по дорожкам с мячами, обгоняли друг друга в деревянных автомобилях. Вдали пронзительно завизжал паровоз.
– Пойдем на станцию, – предложил я.
Мы поднялись на высокую деревянную платформу.
Девочка в форменной куртке, в красной фуражке, с жезлом в руке увидела нас и направилась нам навстречу.
– Товарищи нахимовцы! – начала она торжественно. – От имени пионеров нашей дороги… Никите! – воскликнула Стэлла, узнав меня. – Никито, генацвале! – повторяла она, забыв про свое торжественное приветствие. – Не-ет, до чего же ты вырос и до чего тебе идет форма! Настоящий моряк!
– Мы были у тебя дома, – сказал я, стащив с руки перчатку и пожимая ей руку. – Отец сказал – ты дежуришь.
– Да, но я скоро освобожусь. Отправлю поезд и сменюсь.
Она вопросительно уставилась на Фрола.
– Это Фрол Живцов, мой товарищ. Он воевал два года.
– Не-ет! – удивилась Стэлла. – В первый раз вижу мальчика, который воевал два года.
– Не веришь? – насторожился Фрол.
– Верю, – ответила Стэлла. – Ты стрелял из пушки?
– Я был рулевым на торпедном катере. Ты, наверное, не знаешь, что это за штука?
– Нет, – простодушно призналась Стэлла. – А что это?
– За ним не угонится и курьерский поезд. За кормой вот такой веер пены! И водой с головой заливает.
– Наверное, весело служить на катере?
– Будь спок, веселого мало. Только и гляди, чтобы не попасть в вилку!
– А что такое «вилка»? – спросила заинтересованно Стэлла.
– Это когда снаряды падают и с бортов, и с кормы, и с носа. Понятно?
Стэлле, наверное, было непонятно, но она не переспросила.
– Когда командира ранило, Фрол сам привел катер в базу, – похвастался я другом.
– Не-ет! Сам? Вдали послышался гул.
– Я должна поезд отправить, – спохватилась девочка. – Прокатиться хотите?
Я призадумался: подобает ли нам, нахимовцам, кататься в детском поезде? Но мне до смерти захотелось.
Фрол мигом разрешил все сомнения.
– Желаем, – ответил он без раздумья. – А можно?
– Конечно, можно!
Сверкающий медью паровоз, пыхтя, остановился у платформы. Машинисту в форменной фуражке было лет двенадцать, не больше.
– Садитесь!
Нас не пришлось просить во второй раз. Мы мигом уселись в открытый вагончик.
– Я буду вас ждать! – закричала Стэлла и взмахнула флажком.
Паровоз свистнул, и поезд тронулся в путь.
– Смешная… – сказал Фрол. – Смотри ты, девчонка, а туда же… начальник станции!
Мелькали деревья, пруды, в которых плескались утки. Поезд проскочил коридор из зеленых веток, вылетел на поляну, по которой бродил олень, потом очутился в тоннеле, и нас обдало в темноте теплым дымом. Вдруг в глаза нам ударил свет, и мы увидели, что мчимся по берегу бурливой Куры, которую медленно переплывает паром. Паровоз свистел, вагончики трясло и качало. Поезд снова нырнул в зеленую чашу, прогрохотал через мостик, повисший над ручьем, мимо скал, покрытых пестрым мхом, и резко затормозил, остановившись у той самой станции, с которой отправился.
Стэлла ждала нас на платформе. Теперь она была без красной фуражки и ее черные косы висели до пояса.
– Куда мы пойдем? – спросила она. – В цирк? В зоопарк? На фуникулер?
– На фуникулер, но сначала зайдем за Антониной, – предложил я.
– Это дочка художника?
– Нет, его внучка.
Мы пошли по аллее. За нами шли любопытные. Стэлла болтала без умолку. Возле киоска с пирожками она спросила:
– Вы есть хотите?
– Не хотим, мы уже рубали, – ответил Фрол.
– Не-ет, почему ты так странно говоришь? – удивилась Стэлла. – Раньше сказал «будь спок», а теперь – «рубали». Я тоже один раз пришла в школу и сказала учительнице: «Вот я и притопала». Она рассердилась и спросила, знаю ли я, что такое настоящий русский язык, и читала ли я Пушкина. И правда, ведь Пушкин никогда бы не написал таких слов. У него все слова как музыка, правда?
Против этого нечего было возразить, и у Фрола даже губа затряслась, а веснушки побагровели. Раньше не раз ему говорили Кудряшов и Протасов, что если он думает, что «будь спок», «рубали» и другие словечки – «флотский язык», то он глубоко ошибается, таким языком не разговаривают на флоте, но Фрол пропускал замечания мимо ушей. И вдруг девочка, встретившаяся ему в первый раз, со всей откровенностью сказала ему то же самое.
Троллейбус был переполнен, и кондукторша не хотела открывать дверь, но нам она все же открыла. Когда мы вошли, какой-то сердитый старик спорил с женщиной в шляпке с перьями. Заметив нас, они перестали ссориться и заулыбались. Взглянув в окно, я увидел, что троллейбус поднимается вверх по крутому подъему. Мы вышли на остановке у Дома офицера и пошли в гору, все в гору, мимо домиков с галерейками, пока не увидели знакомый белый дом в глубине двора. Тут было очень тихо. Я позвонил.
Тамара, отворив дверь, сначала, так же как и Мираб, не узнала меня, но потом всплеснула руками, заахала и сказала, чтобы я заходил.
– А это твои друзья?
– Это Фрол и Стэлла. Им тоже можно?
– Конечно, можно. Вот Антонина обрадуется!
Мы поднялись по лестнице, прошли по стеклянной галерее и оказались в знакомой комнате. Окна были раскрыты настежь. Старого художника не было. Кресло стояло пустое.
– Антонина! – позвала Тамара. – Иди скорей, посмотри, кто пришел. – Тяжелая занавесь зашевелилась.
– Никита! – радостно воскликнула Антонина, выбежав из своей комнаты. Она была одета в розовое, воздушное платьице, и ее русые волосы выгорели от солнца. Веснушки появились на переносице. – Да ты моряк! Ты давно приехал?
– Зимой.
– И не приходил!
– Нас не отпускали. Но сегодня мы пришли за тобой. Эго Фрол, это Стэлла. Идем на фуникулер.
Стэлла крепко пожала руку Антонине, а Фрол никак не мог сдернуть перчатку и так и поздоровался – рукой, наполовину застрявшей в перчатке.
– Я сейчас спрошу дедушку, – сказала Антонина. – Он, наверное, захочет с тобой поздороваться. Он часто тебя вспоминает. Дедушка очень болен, – прошептала она, оглянувшись на занавес, – и почти не встает с постели.