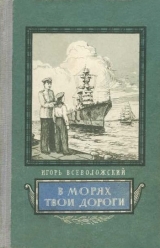
Текст книги "В морях твои дороги"
Автор книги: Игорь Всеволожский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)
НОВЫЙ ГОД
Встречать Новый год без Фрола? Но он не замечал меня, словно я был неодушевленным предметом. Я послал телеграммы отцу, Антонине и Стэлле, позвонил Олегу и Юре, пригласил их на Кировский. Они с радостью согласились. Позвал Илюшу и Гришу. Мы сблизились с ним после разговора на набережной.
Уже стемнело, когда меня вызвали в пропускную. Кто-то пришел ко мне. «Кто бы это мог быть?» – соображал я, спускаясь по лестнице. В полутемном проходе я увидел девушку в меховой шубке, в меховой, запорошенной снегом шапочке, из-под которой выбивались огненные кудри. Это была Хэльми, порозовевшая от мороза. Я немного смутился, вспомнив наше прощание на лестнице, но она воскликнула как ни в чем не бывало:
– А, спаситель! – и, вытянув руку из пестрой вязаной рукавицы, крепко пожала мою.
– Вот видишь, я выполнила свое обещание. Приехала прямо из Тарту с университетской экскурсией. Ты помнишь Лайне? Она тоже здесь и хочет посмотреть твои акварели. Ты знаешь, она ходила к большому художнику в Таллине, и он сказал, что она – талант, что она будет настоящей художницей. Ну что ж? Чехов ведь тоже врач, стал писателем! Можешь поздравить, – продолжала она, – я учусь на отлично. Как мама? Здорова? А Антонина, Стэлла? Они тебе пишут? Ты знаешь, Никита, мы хотим идти встречать Новый год в Дом культуры. Я сказала Лайне, что зайду за тобой и хочу, чтобы ты позвал и Олега. Вот билеты на всех!
Но я ответил, что хочу встречать Новый год с мамой, на Кировском, – к нам придут и Олег, и Илюша, и Юра. Пусть она отдаст билеты кому-нибудь и проведет вечер с нами…
– А что ж, это прекрасно придумано! А можно Лайне позвать?
– Конечно. Нам будет с кем танцевать.
– У вас тут есть телефон-автомат? Говори скорее свой адрес.
Она вошла в будку и позвонила в гостиницу.
– Лайне придет, – сообщила она. – Она очень рада. А билеты – бог с ними! Ну скажи, Никита, как мне повезло!
– Подожди меня, Хэльми, я пойду оденусь и позову товарищей.
– А Фрол? – спросила она, когда мы спустились с Илюшей и Гришей. – Где же Фрол? Разве он не будет встречать с нами Новый год?
Я сказал, что Фрол дежурит.
– В новогоднюю ночь? Вот бедняжка-то!
– Мой отец тоже писал, что, может быть, будет в дозоре в новогоднюю ночь. Такова наша служба.
Через несколько минут, на заснеженной улице, Илико изображал в лицах, как его сватали. На Большом проспекте было шумно, светло, все спешили встречать Новый год, и не верилось, что не так давно, в такой же вот вечер тревожно выли сирены, дома рушились, а люди прятались в подвалах от бомб…
Стоял легкий морозец и сыпал частый, сухой снежок, оседавший на густые ресницы Хэльми и ее меховую шапочку.
– Ну, ты совсем снегурка! Не хватает Деда-Мороза! И как по заказу из ближайших ворот вышел Дед-Мороз, в поддевке, осыпанной бертолетовой солью, с длинной седой бородой. Мы так расхохотались, что прохожие стали на нас оборачиваться. А Дед-Мороз, перейдя улицу, вошел в ярко освещенную школу. Мы заглянули в окно и увидели елку. В зале было полно нарядных ребят.
Подошли к нашему дому. Я пригласил гостей подняться по лестнице. Мама, в светлом платье, с чайной розой у пояса, отворила нам дверь; расцеловала Хэльми и огорчилась, что Фрол не придет.
– А тебе авио от Антонины, телеграмма от Стэллы и дяди Мираба!
Антонина писала:
«Чего пожелать тебе? Самого лучшего! Успехов и радостей! Не забывай Антонину. Как я хотела бы быть с тобой в новогоднюю ночь!»
– Вот уж никак Антонина не думает, что я встречаю Новый год с вами! – воскликнула Хэльми. – А какая чудная елка!
Разукрашенная елка касалась золотой звездой потолка.
Пришли Олег и Юра. Они оставили в передней на столике палаши, разделись и шумно вошли в столовую.
– Смотри-ка, Юра, ведь это Хэльми! – воскликнул Олег.
– По-моему, да, она самая!
– Ой, как вы выросли оба! – в свою очередь воскликнула Хэльми.
Она забыла, что сама через три года будет врачом.
– Олег, ты принес свою скрипку?
– Принес!
Кукушка прокуковала половину двенадцатого.
– Где же Лайне? Наверное, заблудилась? – забеспокоилась Хэльми. Но раздался звонок. Сегодня Лайне еще больше походила на Снежную королеву, в белом вязаном платье с цветной каймой, в белой вязаной шапочке – она сняла ее, и по плечам рассыпались русые кудри. Олег и Юра уставились на нее с восхищением – для них появление Лайне было новогодним сюрпризом.
Она попросила меня показать мои акварели. Я вынул папку. Лайне разложила рисунки на столе.
– «Адмиралтейство в солнечный день», чудо, как хорошо… «Исаакий с Невы», «Сфинксы», «Памятник «Стерегущему», «Медный всадник»… У вас, Никита, большой талант… Мне стыдно дарить вам свою мазню…
Но ее «мазня» оказалась прекрасной акварелью: рыбачьи суда в маленькой бухте, сети на берегу и разноцветные домики. Я подарил ей взамен своего «Медного всадника».
– За стол, за стол! – позвала нас мама.
Чего только не было на столе! Мама хотела отпраздновать Новый год на славу. Лайне сидела между мною и Гришей, Хэльми – между Олегом и Юрой. Она по-прежнему была болтушкой, всех засыпала вопросами, и мы едва успевали ей отвечать. Кем будет Юра? Кораблестроителем? А Олег будет инженером? Морским? Замечательно! И он ходит в консерваторию? И все успевает?
– Ну, и молодец ты, Олег! Кажется ты, Никита, рассказывал, что композитор Цезарь Кюи был инженер-генералом? Ну, а Олег будет инженер-скрипачом! Не обижайся, Олег, я пошутила! Ты приедешь к нам в Таллин и дашь концерт в театре «Эстония».
– Нет, о концертах не может быть речи! Я буду моряком, не артистом. Но когда я приду на своем корабле к тебе в Таллин, я захвачу с собой скрипку и, если ты, Хэльми, захочешь, сыграю тебе и твоему отцу…
– Смотри, не забудь! Завяжи узелок!
Тут мама напомнила:
– Никита, без пяти двенадцать.
Я включил приемник.
– Эх, жалко, нет с нами Фрола! – огорченно вздохнул Юра.
– Да, очень жаль! – согласилась с ним Хэльми.
Стали бить куранты Кремля. Уверенный, мерный звон! Он слышен повсюду, и все мысли людей в этот час обращены к Москве.
– За тех, кто в море! – провозгласил Илюша.
– За тех, кто в море! – подхватил тост Олег. – За Юрия Никитича Рындина! За Виталия Дмитриевича Русьева!
Пили за будущих врачей, чокались с Хэльми и Лайне. Пили за будущих моряков. За моряков – ветеранов войны. Все потянулись с бокалами к Грише. Юра предложил выпить за наше Нахимовское.
– И за нашего дорогого начальника! – подхватил Илико и, обращаясь к концу стола, произнес речь перед воображаемым адмиралом: – Спасибо за то, что учили, за то, что любили нас. Вы думаете, мы вашей любви не ценили? Ценили! Бывало, собираемся натворить что-нибудь, вдруг командуем себе: «Стоп»! Натворишь, подведешь начальника! Скажут: «У него невоспитанные нахимовцы». И за то, что папиросы у нас отбирали, спасибо, – поднял Илюша пачку «Казбека». – Выросли из нас благодаря вам моряки, а не дохленькие человечки!
– Да, уж ты, Илюша, никак не похож на «дохленького человечка»!
Было что вспомнить, и мы наперебой вспоминали и нашего славного Николая Николаевича, и Протасова, и Горяча с Кудряшовым, и Забегалова с Бунчиковым, и наших тбилисских друзей…
– Олег, сыграй нам, пожалуйста, – попросила Хэльми, – так хочется музыки! Сыграй Чайковского или Грига!
Олег принес скрипку, Юра сел за пианино. Мама, закрыв глаза, слушала. Хэльми восторженно восклицала:
– Как играет! Даже не верится, что это Олег!
– А ты забыла, как он играл нам у Стэллы?
– Тогда и теперь – небо и земля!
Но вот импровизированный концерт был окончен; снова включили радио и принялись танцевать. Я танцевал с Хэльми, с Лайне, с мамой. Мама была легка, словно перышко. Ей было весело. Она повторяла:
– Какой замечательный Новый год!
Он был бы совсем замечательным, если бы со мной была Антонина! И танцуя с Лайне и с Хэльми, я представлял себе, что танцую с ней, с Антониной, и на сердце становилось так радостно! Взявшись за руки, мы водили хоровод вокруг елки, играли в разные игры, и мама во всем принимала участие, словно она была нашей сверстницей.
– Какая у вас чудесная мама, Никита! – оказала Лайне.
– А ваша? – спросил я.
– Моя давно умерла…
Перед тем как разойтись – кукушка напомнила, что уже четыре часа, – Илико предложил никогда не забывать «нахимовского товарищества»:
– Даже если нам придется служить на разных морях, мы найдем время встретиться, а если встретиться не удастся, будем писать друг другу, делиться радостями о выполненных заданиях! Обещаем, друзья?
– Обещаем!
– Отныне и Гриша – наш, правда?
– Ну, – засмеялся Пылаев, – я-то уж слишком стар для нахимовца. Но раз вы хотите – вхожу и я в ваше товарищество!
– Ура!
– А нас вы забыли? – воскликнула Хэльми. – Вы эгоисты!
– Нет, – отвечал ей Юра. – Мы никогда не забудем ни Хэльми, ни Лайне, ни этого чудесного вечера, который запомнится на всю жизнь!
– Давно бы так!
Вышли на Кировский. Морозило здорово. Окна, разрисованные узорами, в лунном свете блестели.
Олег и Юра пошли провожать Хэльми и Лайне в «Асторию», где поселились студенты из Тарту. Гриша пошел в училище. Илюша решил ночевать у нас. Поскрипывал снег под ногами.
– Ох, я устала! – призналась мама. – Если бы вы только знали, как весь вечер жали мне новые туфли!
Но тем не менее она легко взбежала на четвертый этаж.
Мы с Илико стали дурачиться: пожелали кукушке, куковавшей пять часов, счастья. Она – мне ровесница, куплена в тот самый год, когда я родился.
– Спокойной ночи! – наконец, угомонила нас мама.
– Спокойного утра! – поправил Илюша. Он с размаху кинулся на диван.
– Илюша! – окликнул я друга.
– А?
– Спишь?
– Сплю, генацвале!
– А как ты думаешь, что ждет нас в Новом году?
– Большое плавание, Кит! Гаси свет!
* * *
В училище обменивались впечатлениями. Ростислав и Игнат Новый год встречали в Нахимовском (им это было легко – их родное Нахимовское было под боком, в Ленинграде). Борис подвизался на елке в школе, и ребята ему поднесли пионерский галстук.
– А пионервожатая?
– Что пионервожатая?
– Выпросил у нее фотографию?
– Довольно вам, черти! – озлился Борис. Но я был убежден, что фотографией он обзавелся.
А вот с Фролом не хорошо получилось: решив остаться в училище, он разорвал увольнительную; но тут Платон передал ему приглашение Вадима Платоновича. Тогда Фрол воспользовался увольнительной Серегина – и попался. Большого преступления в этом не было: ему разрешили уволиться, но старшина должен быть примером для остальных. И Фрол получил крепкий нагоняй от начальника курса, да вдобавок его вызвал к себе Глухов. А Мыльников прочел ему нотацию, грубо и в таком унизительном тоне, что Фрол стал мрачен, как туча. Я хотел было друга ободрить, но он даже глаз не поднял от книги.
А на класс посыпались, как из рога изобилия, всякие беды. Платон с Бубенцовым схватили двойки. Платона не оказалось на вечерней поверке. Бубенцов откликнулся за него, но его тут же разоблачили. Мыльников резко отчитал его перед строем. Досталось и Фролу. Мыльников опять был с ним груб и несдержан… После поверки Бубенцов исчез и был застигнут дежурным по курсу в кабинете Вершинина, где он спешно звонил по телефону Лузгину.
Это было неслыханное событие! У нас давно уже не случалось самовольных отлучек. А укрывательство самоотлучника считалось столь позорящим честь курсанта проступком, что, казалось, о дальнейшем пребывании в комсомоле Бубенцова и Лузгина не могло быть и речи. Газета училища назвала наш класс «отстающим».
На ротном бюро Фрол услышал много суровых и справедливых слов. Костромской сказал, что старшина, борясь за первенство класса, действовал грубейшими административными методами.
– На военной службе воспитывать надо примером, – сказал Зубов, – а является ли примером Живцов? Нет, это показал его проступок в новогоднюю ночь. Живцов игнорирует комсомольскую организацию, вот результат – история с Бубенцовым и Лузгиным. Конечно, в этом виновата и комсомольская организация класса… но старшина должен понять свою неправоту…
– А он понять и не собирался! – бросил Мыльников. В свойственном ему пренебрежительном тоне, тоне полного превосходства, он заявил, что старшина не оправдал доверия партии, комсомола, командования. – Я доверял ему, а он распустил людей, – сказал Мыльников так, будто он один олицетворял и партию, и комсомол, и командование, – развалил дисциплину… Он сам распущенный, недисциплинированный, испорченный человек, которому в комсомоле не место.
«Перехватил, – подумал я. – Разве можно говорить о Фроле такими словами? Распущенный! Испорченный! Это неверно! Что же никто не возразит Мыльникову?»
А тот продолжал, с такой злобой глядя на Фрола, будто перед ним сидел враг:
– Да, я считаю, что Живцову в комсомоле не место! Он должен лишиться комсомольского билета. Что же касается Бубенцова и Лузгина, то самый лучший выход из положения, – Мыльников состроил пренебрежительную гримасу, – избавиться от них навсегда…
Как это просто! Фрола выгнать из комсомола, от Бубенцова и Лузгина избавиться навсегда! Тут уж меня взорвало. Я попросил слова и, позабыв о том, что Мыльников – начальник, старшина роты, заговорил:
– И это говорит человек, который через полгода будет офицером! Вы и на флоте будете избавляться от беспокойных подчиненных, списывать их с корабля, а не воспитывать? Пусть, мол, воспитанием их займутся другие. Чтобы начальник пользовался любовью у своих подчиненных, он должен уметь помочь им исправить свои ошибки и быть им не только начальником, но и товарищем…
– Полегче, Рындин, – угрожающе процедил Мыльников.
Но во мне все кипело. Меня понесло. Я говорил о том, что Живцов не сумел найти пути к сердцу товарища, узнать, что ему мешает учиться, и за это Мыльников предлагает исключить его из комсомола. А сам Мыльников умеет найти пути к сердцу своих подчиненных?
– Начальник не должен с пренебрежением относиться к ним, он должен быть скромнее, и тогда его больше полюбят. А вас мало любят, товарищ Мыльников, вы это хорошо знаете и знаете, чем эту нелюбовь заслужили…
Глухов охладил бушевавшие страсти: авторитет начальника подрывать нельзя, каким бы ни был этот начальник, в нем разберутся партийная организация и командование и сделают свои выводы так же, как сделают выводы и о старшине класса.
– Конечно, об исключении Живцова из комсомола, – взглянул Глухов на Мыльникова, – не может быть и речи. Что же касается Бубенцова и Лузгана, попробуем последнюю меру: попросим командование вызвать Бубенцова и Лузгина на учебно-воспитательный совет…
На учебно-воспитательном совете судьбу курсанта решают люди вдвое, а то и втрое старше его. Бубенцову и Лузгину предстояло суровое испытание.
Костромской сказал:
– И я предлагаю вызвать на заседание отца Лузгина.
Предложение было принято.
На другой день старшиной класса вместо Фрола был назначен Гриша Пылаев.
Фрол страшно переживал, я переживал не меньше его. Я подошел к нему, но он отвернулся. Мы стали чужими. Утешительно было то, что Мыльникова заменили курсантом четвертого курса Смолиным, человеком тихим, немного даже застенчивым и совсем не похожим на прежнего старшину.
Вечером я хотел поделиться радостью с Фролом, но он не откликнулся.
– Фрол! – повторил я.
Молчание.
– Товарищ Живцов!
– Я вас слушаю… Вы что хотели?
– Нет, ничего…
О прежней дружбе не могло быть и речи.
* * *
Я помог Грише подготовиться к экзаменам – они были нелегкие. Когда сдавали службу наблюдения и связи, вошел начальник училища. Приказав продолжать, он сел в сторонке, большой, плечистый и очень суровый на вид.
Я как-то встретился с ним в коридоре, и адмирал, спросив фамилию, поинтересовался:
– Юрия Никитича сын?
– Так точно.
– Поблажек давать не стану, спрашивать буду вдвойне: сын должен быть достоин отца, – предупредил адмирал.
– И вздраит, будь покоен, и не поморщится, – подтвердил Гриша, когда я ему рассказал о встрече. – Только держись!
Курсанты старших курсов рассказывали, что начальник мог остановить в коридоре курсанта, потребовать показать носовой платок – чист ли, или снять ботинок – не порван ли носок. Осмотрев руки, давал пять минут на чистку ногтей. «Во время войны, в море, в бою, мы находили время, чтобы быть чисто выбритыми, одетыми по форме, в чистом белье, – говорил он неряхе. – Стыдно, курсант!» Если он обнаруживал вину интендантов – попадало и интендантам.
На экзаменах – горе ловкачу, запасшемуся шпаргалками! Зато тех, кто отвечал без запинки и разбирался в предмете, а не зазубривал, как попугай, по учебнику, адмирал отличал и, раз отличив, не упускал из виду. Это не значило, что у него были любимчики. Любимчиков он не имел и крепко взыскивал с офицеров, которые обзаводились ими. Еще рассказывали, что адмирал воспитывает двух сыновей своих погибших товарищей.
Я получил пятерку, и начальник училища одобрительно кивнул. По черчению мне достались трудные чертежи. Я их выполнил. Даже Борис подтянулся, не получил ни одной тройки.
В воскресенье, забежав на Кировский рассказать об экзаменах, я заметил, как вдруг осунулась мама. Я встревожился:
– Что с тобой, мамочка?
– Мучают боли, – сказала она, сморщив лоб, – предлагают оперироваться немедленно.
– А профессор?
– Он все еще в Москве. А мне завтра утром надо ложиться в больницу, а то, говорят, будет поздно. Ты ничего не пиши, Никиток, отцу до тех пор, пока все не кончится.
Пока все не кончится…
Она отвернулась к окну, за которым шел снег, густой, мокрый, лохматый. Ее плечи чуть вздрогнули. Потом она обернула ко мне бледное, искаженное мукой и тревогой лицо:
– Ты знаешь? Я ужасно боюсь операции!
И прижалась ко мне, спрятав голову у меня на груди, как бы ища у меня защиты. Милая мама! Если бы понадобилось отдать мою жизнь, чтобы ты снова была здорова и весела, я бы, не задумываясь, отдал ее!
С тяжелым сердцем я возвращался в училище в этот вечер. Я шел пешком, забыв об автобусах и трамваях, и липкий снег залепил всю шинель, лицо, бескозырку…
Глава четвертаяГОРЕ
«Все кончится благополучно», – утешал я себя. Я видел ее лицо, – с синими ясными глазами везде – в тетради, в учебнике, на классной доске и ночью – в полутьме кубрика. Я думал о ней, мысли путались в голове. Я несколько раз бегал к телефону и никак не мог ничего добиться. Наконец, сердитый хриплый голос ответил: «Рындина, говорите? Операция прошла благополучно».
Вершинин спросил:
– Вы, кажется, узнавали о здоровье матери, Рындин?
– Да, товарищ капитан второго ранга. Операция прошла благополучно.
– Ну вот и отлично, – сказал Вершинин с искренним участием.
В эту ночь мне снилось, что меня вызывают в приемную. Мама, здоровая и веселая, идет ко мне навстречу: «Что же ты не пришел навестить меня, Никиток? Хотя теперь все равно, я здорова, спешу домой, я тебя не хочу отрывать от занятий. Ты беспокоился, милый?» – «Ужасно». – «Ты знаешь, что? Ничего не пиши отцу. Не будем его волновать. Все кончилось, приедет – расскажем».
– Никита, ты бормочешь во сне!
Гриша тряс меня за плечо.
– Тебе нездоровится? Принести воды?
– Нет, я пить не хочу.
– Спи, Никита, до побудки еще два часа.
Он подоткнул со всех сторон одеяло.
На другой день я решил позвонить в больницу после обеда. Но между первой и второй лекциями меня вызвали к телефону.
– Вас просят приехать в больницу имени Пирогова, – сказал женский голос.
– Что-нибудь случилось?
– Не знаю, я не в курсе дела, меня просил позвонить главный врач.
По училищу дежурил Глухов. Я передал ему трубку.
– Поезжайте немедленно, – сказал он и тут же выписал мне увольнительную.
Через сорок минут я входил в больницу. Пахло госпиталем, а я терпеть не могу запаха лекарств, эфира и особенно йода – я помнил, как пропах йодом отец в севастопольском госпитале, где лежал раненый во время войны.
Главный врач был занят, меня просили подождать. По коридору провезли кого-то, покрытого простыней, на длинной тележке.
– Пройдите, товарищ.
Седой человек в халате, с очень морщинистым, чисто выбритым лицом и красными руками, кончики пальцев которых были вымазаны йодом, спросил:
– Товарищ Рындин?
– Так точно.
– Присядьте, пожалуйста.
За окнами на деревьях лежал талый снег, и целая стая ворон копошилась в снегу возле окон.
Как сквозь слой ваты, я слышал ровный голос: «Последствия блокады и дистрофии, нарушен обмен веществ, ослаблена сердечная деятельность». Врач говорил долго и обстоятельно, будто читал лекцию в аудитории медицинского института; раньше, чем он закончил и сказал короткое, как удар, слово, я понял, что случилось непоправимое, самое страшное из всего, что могло в моей жизни случиться…
И если в те дни, когда я думал, что отца больше нет, где-то в далеком уголке сердца теплился луч надежды, то теперь надежды никакой не осталось…
– Вы хотите пройти к ней? Проводите товарища, – сказал кому-то главный врач.
В маленькой комнате с белыми стенами и замазанными сероватой краской окнами лежала мама на мраморном холодном столе. Можно было подумать, что она спит и что-то видит во сне; легкая гримаска искривила ее почему-то ставшие очень белыми губы. Так бывало всегда, когда ее что-нибудь огорчало.
* * *
Сжавшись в комок, я сидел в уголке столовой, на низеньком жестком диванчике. Вчера здесь было полно людей, знакомых и малознакомых; какие-то женщины завешивали простыней зеркало, закрывали наглухо окна, переговаривались шепотом, спрашивали, где мамино лучшее платье. Сегодня мы с ней остались вдвоем. И мне все казалось, что это ошибка, недоразумение, что кто-то придет и скажет… что скажет? Что?!
Мама, мамочка, как я мечтал: мой корабль возвращается с моря, ты стоишь на берегу, ждешь меня… Никогда ты меня не встретишь! Ни-ко-гда!.. Какое страшное слово!
А сколько сил и здоровья ты затратила на меня! Вот здесь, в этой комнате, во время блокады ты топила ножками стульев печурку, резала на тонкие лепестки сто двадцать пять граммов бурого блокадного хлеба и поджаривала – тебе казалось, что так будет сытнее. А как ты везла меня через Ладогу, под бомбежкой, в Сибирь, а потом на Кавказ, к отцу, говоря: «Тебя я должна спасти». Я любил тебя; но достаточно ли я тебя уважал, всегда ли я выполнял твои просьбы? Не обидел ли я тебя резким ответом, невниманием к тебе? Теперь уже больше не повинишься, как прежде, не подойдешь к тебе, не обнимешь, не попросишь прощения…
Дверь скрипнула. Очевидно, я не запер парадную. Кто-то шел осторожно, на носках, словно боясь разбудить спящую. Вошел Фрол, в шинели, держа подмышкой ушанку. Не заметив меня, он на цыпочках подошел к гробу. В руке у него был букетик – несколько ранних фиалок, – где он их раздобыл? Он знал, как мама любила фиалки.
Подойдя совсем близко, Фрол замер, смотрел ей в лицо. Прошла минута, другая: он не шевелился. Вдруг он всхлипнул. Он положил букетик маме на грудь и сдавленно зарыдал.
В соседней комнате прокуковали часы – их вынесли туда вчера вечером, как будто они могли нарушить сон мамы.
Фрол, прижав ушанку к груди, на цыпочках пошел к двери. Он увидел меня, подошел и сел рядом.
– Фрол…
Больше я ничего не мог выговорить.
– Мужайся, Кит, – сказал Фрол вполголоса. – Крепче держись, моряк!
– Фролушка!
Он обнял меня. Я порывался вскочить, но руки друга крепко охватили меня, а подбородок нажал на мое плечо.
– Спокойно… спокойно, держись, моряк, – повторял он шепотом. – Держись, дружище… крепись…
* * *
Почему я не написал отцу, что мама ложится на операцию? Он стоял и смотрел ей в лицо, постаревший сразу на десять лет.
– Не может быть, – бормотал он, – не может быть, нет, нет, не может быть, Нина, нет…
Неожиданное горе сломило его, большого и сильного…
Он прилетел из Сухуми, куда по радио из Севастополя передали ему телеграмму и разрешение командования вылететь в Ленинград. Он взял с собой Антонину (она очень просила об этом), и она привезла букет белых камелий от Шалвы Христофоровича и дяди Мираба.
Она хотела поддержать меня в моем горе; старалась не плакать, хотя очень любила маму. Антонина не выпускала моей руки из своей, и крепкое пожатие ее теплой руки для меня было самой лучшей поддержкой.
Рядом со мной стоял Фрол, с окаменевшим, как в почетном карауле, лицом. Гриша, Игнат, Ростислав, Илюша и Юра были тут же. Мне было легче с ними. Один – я не знаю – как бы я пережил…
Вечером мы с Антониной остались вдвоем. Отец куда-то ушел. На столе горела одинокая лампа под зеленым шелковым абажуром. В квартире было так тихо, что мы всякий раз вздрагивали, лишь кукушка принималась в соседней комнате куковать или потрескивал паркет в коридоре.
– Как это гнусно, что умирают такие молодые, – вздохнула Антонина, глядя на портрет матери, ее последний портрет.
Мы снова долго молчали.
– Ты знаешь, – сказала она, нарушив, наконец, тишину, – я сердцем чувствовала, что должна быть с тобой… И твой отец понял все и сказал: «Ты полетишь со мной, Антонина».
* * *
Проводили маму на кладбище; пришли ее сослуживцы – сотрудники Русского музея, товарищи отца – моряки, мои товарищи. День был сырой, серый, пасмурный, талый снег хлюпал и чавкал под ногами, совсем как весной! Едва стоило появиться грачам, мама раскрывала все окна, и во всех комнатах в вазах зацветали подснежники и фиалки. Теперь на сыром черном холмике лежала сирень из оранжереи и букет съежившихся, поблекших камелий.
Женщины плакали…
Мне думалось, – вдруг я проснусь и исчезнет тяжелый, чудовищный сон. Но нет, сна не было, все оставалось явью… Я понял это, когда первые комья земли упали на крышку гроба, и мне показалось, что мягкие, липкие комья бьют ее по лицу, – и я зарыдал отчаянно, а Фрол нежно, но очень решительно взял меня под руку и повел в сторону, по талому снегу, а Антонина, сама заплаканная, повторяла: «Плачь, плачь, родной, будет легче…» Милая! Мамы нет – теперь ты одна у меня!
Через два дня, на рассвете, Антонина и отец вылетали на юг. В странно тихой, пустой квартире горел свет. Вот так же, рано утром, мы до войны уезжали в Кронштадт. Мама нас провожала. Теперь ее – нет. И кукушка больше не куковала – забыли ее завести.
По русскому обычаю, перед отъездом присели. Первым поднялся отец.
– Не забывай маму, Кит, – сказал он. – Никогда не забуду…
Антонина взяла мою руку и прижалась к ней мокрой щекой.
Отец крепко обнял меня, и они уехали.








