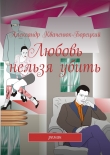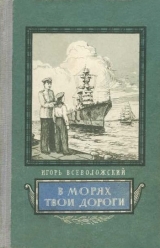
Текст книги "В морях твои дороги"
Автор книги: Игорь Всеволожский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 33 страниц)
СЧАСТЛИВО ПЛАВАТЬ!
Лед на Неве потемнел и потрескался. Дожди смыли снег с крыш и с набережной. Нева вскрылась. Прошел ладожский лед, и свежий, весенний ветер начисто подмел улицы.
Мне очень хочется написать, что класс вышел на первое место и получил, наконец, заветную дощечку. Однако похвастаться этим я не могу. Класс подтянулся, но лучшим классом курса не стал.
– Во всяком случае в вашем классе комсомол сумел сколотить дружный коллектив, – утешал меня Глухов.
Да, коллектив стал дружным, и мы сумели сохранить самых, казалось бы, отпетых товарищей: ни один не был списан из училища.
Глухов вовремя исправлял наши ошибки. Он воспротивился исключению Платона и Бубенцова из комсомола, убедил, что их можно перевоспитать, хотя это труднее, чем исключить. И старшие товарищи оказались правы.
Костромской занимался с Платоном, хвалил его, а от матери Бубенцова мы получили письмо:
«Дорогие мои, не знаю, как и благодарить вас. Вы вернули мне сына».
В субботу (это был день «получки») Бубенцов забежал на почту – нетрудно было догадаться, зачем: посылал деньги в Сумы.
Я старался как можно реже бывать на Кировском. Мне тяжело было оставаться одному в пустой квартире, где больше не было слышно звонкого голоса мамы.
Мы отправлялись с Фролом и Гришей в музей. Купили путеводитель по Эрмитажу, разбили Эрмитаж на квадраты – словно море на морских картах, и осваивали его по частям, шаг за шагом. В Военно-морском музее подолгу простаивали перед моделями кораблей и полуистлевшими историческими документами. Потом шли к Вадиму Платоновичу. Платон по воскресеньям теперь сидел дома; приходил Бубенцов и закрывался в кабинете с таинственным видом. А когда выходил к обеду, довольный, веселый, казалось, что он долго нес на спине непосильный груз и, наконец, сбросил его, вздохнул облегченно, расправил плечи.
Прошла спартакиада флотских училищ, на которой мы заняли первое место, и олимпиада художественней самодеятельности, где Олег отстаивал честь своего училища. Мы тоже не оплошали и получили благодарность командования.
Мы привыкли к своему положению младших. Нас радовали не только успехи своего класса. Наш маленький коллектив – класс – стал жить одной жизнью с большим коллективом – училищем. В этом большом коллективе десятки людей воспитывали несколько сот юношей, которые должны стать флотскими офицерами. В аудиториях и кабинетах были сотни дорогостоящих корабельных приборов, редчайших моделей, тысячи книг и карт; все это собиралось годами и давало полное представление о мореплавании, об истории русского флота, о великих русских открытиях и изобретениях.
Мы не могли быть равнодушными и к городу, в котором мы жили. Нас окружал город Ленина, переживший невиданную в мире осаду, город с непревзойденным Эрмитажем, Военно-морским музеем, замечательными театрами. Мы ездили в Петродворец, в Пушкин; провели несколько читательских конференций – обсуждали новые книги. Встречались с молодыми учителями – нашими сверстниками, с художниками, писателями, актерами. Устраивали «вечера дружбы» со студентами, и большой зал переполняли друзья из университета.
К концу учебного года все засели за подготовку к экзаменам.
Я не мог без улыбки смотреть, как Фрол с грубоватой нежностью опекал Лузгина – детину на голову выше его.
Платоша же не отходил от «опекуна» ни на шаг, прислушивался к каждому его слову, считал Фрола непререкаемым авторитетом.
«Живцов сказал, что так надо…» «Живцов говорит, что моряк так и должен был поступить…» «Фрол так бы не поступил…» – только и слышали теперь от Платона. Бубенцов тоже прилепился к Фролу, и их стали называть «неразлучной троицей». Фрол только посмеивался.
Перед самыми экзаменами Платон и Бубенцов приуныли.
– Ничего, ничего, братцы, носы не вешать, – успокаивал Фрол. – Главное – берите себя крепче в руки, отвечайте четко, по-флотски, о шпаргалках забудьте, и все будет отлично. Не подкачаете?
– Ты знаешь, Никита, – признался мне Бубенцов, с которым мы вместе готовились к экзаменам, – ведь я тебя вначале возненавидел. Думал, что и матери моей написали и на совет меня вызывали лишь для того, чтобы исключить из комсомола и списать из училища. А потом, когда ты о родителях говорил, о том, что при жизни мы их ценить не умеем… этого я никогда не забуду! Много я тогда пережил… Да и Платон – немало. Он мне говорил…
Прошел первомайский парад, начались экзамены.
Я не заметил ни одной попытки подсмотреть у товарища, шпаргалки не шуршали в карманах, и никто никому не подсказывал. Кое-кто получил и тройки, но, по-моему, лучше честная тройка, чем пятерка, заработанная нечестным путем.
Перед экзаменом по навигации все были взволнованы. С вечера в большой зал носили столы. Утром вооружились циркулями, линейками, транспортирами, запаслись карандашами, резинками, лезвиями безопасных бритв. Костромской выстроил роту. В зале на столах уже были разложены карты. «Навигатор» нам роздал задачи, предупредив:
– Работайте самостоятельно, внимательно, не торопитесь.
Взглянув на большие круглые часы, висевшие на стене, сказал:
– Прошу приступить.
Фрол вздыхал от волнения и напряжения. Товарищи, склонясь над столами, работали стоя. Тишина, мерное тиканье часов – все это было очень торжественно. Мне казалось, что время летит с необычайной быстротой. И как сердце заколотилось, когда Быков подошел с калькой, на которой было заранее нанесено правильное решение задачи! – Он положил кальку на мою карту. Сойдется или не сойдется? Я с облегчением вздохнул, когда увидел: сошлось, точка в точку!
«Навигатор», повторявший свою традиционную шутку: «Тоните, идите ко дну, я вас спасать не буду», поставил Фролу и мне по пятерке и особо отметил Игната, сказав, что его прокладка может для всех служить образцом.
Булатов, Крамской, Пылаев, Серегин по всем предметам получили пятерки.
По высшей математике мне достался первый билет, Фролу тридцатый, последний. Эту трудную науку мы к концу года осилили и тоже получили пятерки.
В дни экзаменов я переживал и за себя и за класс и облегченно вздохнул, когда все было, наконец, кончено. Удивительное дело: Бубенцов, весь год сидевший на двойках и тройках, на экзаменах получил четверки. Платон тоже не получил ни одной двойки. Илюша заслужил от преподавателей навигации и истории похвальные отзывы и сиял. Очевидно, он успел послать телеграмму домой: из Зестафони пришли две огромные посылки с сушеными фруктами, уничтожать которые помогал Илюше весь класс. Фрол не расставался со свежим номером училищной газеты. Там подробно описывалось, каким нелегким путем наш класс завоевал свой первый успех. «Теперь мы ждем, – заканчивалась статья, – что класс закрепит свой успех в плавании…»
Вскоре после экзаменов нас навестил Юра. Он сдал все на «отлично», цитировал воспоминания кораблестроителя Крылова и, как видно, стал его горячим поклонником.
Забегалов прислал нам восторженное письмо: «Ура, ура, экзамены сданы, поздравьте нас с Бунчиковым! Мы не посрамили Нахимовского. Уходим на Каспий, на практику. Не улыбайтесь презрительно, черти! Каспий хотя море и внутреннее, но штормы там бывают покрепче, чем на Черном и Балтике, Вовка стремится попасть на корабль, которым командует Хохряков; это лейтенант Хохряков и его товарищ Голиков встретили Бунчикова в Баилове, во время войны, оборванного, голодного мальчугана, привели к себе на корабль, накормили, одели и устроили в наше Нахимовское. И вот Вовка хочет показать Хохрякову, что годы учения не пропали даром, и не зря на него государство тратило деньги…»
Когда я прочел письмо Игнату и Ростиславу, они вспомнили: во время войны к ним в Нахимовское заехал американский корреспондент. Узнав, что многие нахимовцы – сироты, он поинтересовался:
– Кто же платит за их обучение?
– Государство, – ответил ему начальник училища.
– Но ведь это государству невыгодно! – воскликнул корреспондент.
Разве американец поймет? Невыгодно! А что бы Бунчиков делал в Америке? Кто бы о нем позаботился? У нас же он станет морским офицером…
«…Мы побывали в Тбилиси, – продолжал Забегалов. – Все вспоминают вас – Горич и Кудряшов, и Протасов; старшина воспитывает теперь младший класс. Жаль, нам не удалось посетить Черное море и «Адмирал Нахимов», повидать Николая Николаевича. Не был я и на «Серьезном». Мой бывший командир, Ковалев, получил повышение и командует дивизионом эсминцев. Мы переписываемся и вспоминаем бой у Констанцы, где были ранены оба. Осенью съезжу в Решму. Один братишка переходит в восьмой класс, другой – в седьмой. Итак, Юра теперь на кораблестроительном?
Я уверен, мы с вами будем плавать на построенных им кораблях, каких-нибудь очень прекрасных! Олег стал чертовски хорошо играть – мы с Вовкой слышали, как он выступал по радио на вечере флотских талантов, и даже прихвастнули – вот, мол, какой у нас товарищ, спал с нами в одном кубрике, за одной партой сидел, а теперь вся страна его слушает… Желаем вам счастливого плавания, понабраться на практике флотского духа, стать заправскими моряками…»
В день рождения Вадима Платоновича мы отправились поздравить чудесного старика. Было много гостей, молодежи – студенты, студентки, моряки – и тот капитан третьего ранга, бывший командир катера, которому Вадим Платонович спас жизнь. Люда принесла корзиночку ранних, нежных, душистых гиацинтов. На письменном столе стояла готовая к отправке в музей модель, расцвеченная миниатюрными флагами. На верстаке горбилась парусина, там была скрыта от любопытных глаз модель, которая управляется по радио.
Модель показали гостям, и Вадим Платонович объявил, что создателями его являются Лузгин-старший, Лузгин-младший, Живцов и Бубенцов.
После обеда Вадим Платонович стал расспрашивать меня о Платоне. Я сказал, что Платоша экзамены выдержал, теперь зашагает дальше.
– А уж в плавании, Вадим Платоныч, я о нем позабочусь, – добавил Фрол. – Даю честное флотское, добьюсь – получится из него моряк!
Мне было хорошо в этот день, как в родной семье. Не хватало лишь Антонины. Я с завистью поглядывал на увлекшихся разговором Игната и Люду. Они сдружились со дня первой нечаянной встречи, нашли общие интересы, и я сильно подозревал, что Игнат бывает в театре на всех тех спектаклях, когда Люда играет, а играет она в пьесах Чехова, Лавренева, Островского, Ибсена, – и ему это близко и дорого, ей тоже приятно. Их хорошей и нежной дружбе мог позавидовать каждый…
И с какой неохотой Игнат отвлекся от интересного разговора, когда мы сказали, что уже уходим, и стали прощаться с хозяевами…
В училище меня ждало письмо из далекого Севастополя:
«Поздравляю, сынок! Еще один шаг к флоту сделан. Теперь на кораблях, на практике ты познаешь тяжелый матросский труд. Нахимов говорил, что матрос на корабле – главный двигатель. Возьми на столетие поправку – советский матрос, воспитанный партией, комсомолом, управляющий сложными механизмами, – это уж, поистине на корабле главный двигатель. Их у меня в соединении немало – люди образованные, любознательные, с широким кругозором. У наших матросов ты сможешь многому научиться, а когда с нашей ступени шагнешь на высшую, пойдешь на старших курсах на командирскую практику, не пренебрегай советами старшин и матросов!
Перед тобой широкая дорога в море, сынок. Но, чтобы пройти ее без сучка и задоринки, надо учиться и учиться – всю жизнь!
Счастливо плавать, Никита!»
– Счастливо плавать, отец! – ответил я от всего сердца.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
В МОРЯХ ТВОИ ДОРОГИ
Глава перваяПОД ПАРУСАМИ
Ранним июньским утром ленинградцы увидели на Неве парусный флот. Народ толпился на набережной. Говорили, что идет киносъемка. Киносъемки не было. Парусники пришли за нами. Все училища уходили в плавание.
Кто из нас, будущих моряков, не путешествовал в мечтах на фрегате «Паллада», два года носившемся по океанам под парусами? Кто из нас не побывал в Атлантическом океане, не совершал прогулок по острову Мадейра, не бродил по Ботаническому саду на мысе Доброй Надежды?
Кто из нас вместе с Лисянским и Крузенштерном не обошел вокруг света, не побывал в Японии и в «русской Америке», не испытал ураган у берегов Сахалина?
Кто из нас – в мечтах – не видел ледяных торосов, слепящих глаза, не открывал островов, не нанесенных на карту?
Фрол в своей заветной тетради записал слова адмирала Макарова о том, что на утлых кораблях наши ученые моряки совершали свои смелые путешествия, пересекая океаны по различным направлениям, открывали и изучали новые, еще неизвестные страны. До сих пор их замечания, их счисления цитируются лоциями всех наций.
…Не раз я плавал под парусами во сне, – и вот теперь я вступил на борт парусного корабля наяву!
«Север» был небольшой бриг, стройный, изящный, с тремя высокими, чуть наклоненными к корме мачтами. Трудно было подумать, что на таких кораблях воевали: теперь первый снаряд, скажем с «Адмирала Нахимова», разнес бы «Север» вдребезги. Но такие, как «Север», корабли ходили и в Средиземное море, и под Синоп, и экипажи их брали на абордаж неприятельские суда, сжигали их и топили. На таких кораблях, как «Север», русские моряки ходили в Северный Ледовитый океан, в Антарктику, совершали кругосветные плавания.
Командир «Севера» капитан второго ранга Еремеев и его заместитель по политчасти капитан третьего ранга Вьюрков поздравили нас с прибытием на практику и познакомили с боцманом Слоновым. Речь Еремеева была коротка:
– Парусный флот давно отжил свой век. В современных морских сражениях парусные корабли не участвуют. Но плавание под парусами принесет пользу – вы все закалитесь, станете ловкими и выносливыми. Будущий артиллерист, штурман или минер должен быть прежде всего моряком. А чтобы быть моряком, надо вдоволь полазать по вантам. Лазанием по вантам заменяю физическую зарядку!
Все подбородки поднялись кверху, и не одна пара глаз с опаской измерила высоту мачт.
Вьюрков добавил, что именно здесь, на корабле, рождается тесная товарищеская спайка, здесь крепко любят труд…
Неуклюжий буксир с полосатой трубой, пыхтя, медленно вытягивал из Невы «Север», гудками расчищая дорогу. Город отодвигался назад со своими мостами, дворцами, «Исаакием», судостроительными заводами, торговыми судами у стенки. Все расплывалось в дыму, как в тумане, – мачты, трубы, крыши высоких домов – и вскоре превратилось в сплошное серое во весь горизонт пятно.
* * *
На кораблях, на которых мне приходилось плавать, все было стальным и железным – трапы, переборки, даже шкафы в каютах и в кубриках были только раскрашены под дуб масляной краской. На «Севере» все было деревянным, и повсюду пахло краской и чисто вымытым деревом.
Палуба была желтая, гладкая и словно расчерченная по линейке тушью. Как видно, сегодня матросы долго скребли ее, терли песком, мыли щетками и скачивали из шлангов. Она блестела не хуже паркета. На медную окантовку люков, на поручни было больно смотреть. Вдоль бортов стояли в гнездах связанные белые койки.
Фрол тщательно вытер подошвы о плетеный мат и пригласил меня и Платона осмотреть корабль. У нас дома в столовой стояла модель фрегата. В морском музее и у Вадима Платоновича мы видели копии бригантин, бригов, шхун. Но копия – лишь игрушка, на которую приятно смотреть.
Конечно, после тяжелых броневых башен «Нахимова» с грозно выдвинутыми длинными стволами мощных орудий пушечки «Севера» вызывали улыбку. После стальных сооружений крейсера, уходивших ввысь, стройные мачты брига казались хрупкими. После вместительных кубриков, просторных офицерских кают, огромной кают-компании, клуба, занимавшего целое палубное помещение, роскошной радиорубки, притягивавшей нас, как магнитом, здесь было тесно. По бесчисленным трапам «Адмирала Нахимова» можно было путешествовать целый день. На «Севере» было всего лишь несколько крохотных офицерских кают. Стоило подняться на ют – и в стеклянный люк была видна, как на ладони, кают-компания, отделанная полированным деревом, с небольшим овальным столом и с круглыми морскими часами над желтым буфетом. В кубриках, в корме и в носу – койки в три яруса; две койки выбрал Фрол для себя и Платона; третью, над ними, отвел мне. Не плававшим раньше товарищам он предложил спать на подвесных койках, предупредив, что их придется приносить сверху, подвешивать, как подвешивают гамак, и стараться не вывалиться.
Камбуз на паруснике был крохотный, и нас удивило, что кок, весивший не меньше ста килограммов, не только умешался в своей тесной клетке, но и передвигался, оперировал тяжелыми медными кастрюлями, месил тесто для пирожков, готовил фарш, чистил рыбу. Рядом с камбузом висели бараньи туши. Фрол пустился с коком в длительный разговор по поводу приготовления какого-то сложного блюда. Польщенный кок тут же стал записывать сообщенный Фролом рецепт и забыл о супе, который, вскипев, сбросил крышку. Мы поспешно ретировались, но кок, угомонив разбушевавшийся суп, кричал вслед, чтобы мы заходили, он всегда будет рад нас видеть. Тут же сидел, облизываясь и вдыхая соблазнительных аромат, корабельный пес Ветер. Он был похож на волка – с черной мордой, умными карими глазами и рыжими подпалинами на мощной груди. Мы пытались с ним познакомиться, но он взглянул на нас с таким видом, будто хотел сказать: «Ну, что вы ко мне привязались? Мне совсем не до вас». Кок рассказал, что Ветра подобрали в одном из портов забитым, запаршивевшим, несчастным щенком. Командир разрешил оставить его на «Севере», и Ветер стал грозой корабельных крыс и фаворитом толстого кока. Пес снисходительно разрешил потрепать его острые уши.
На корабле паруса уживались рядом с телефоном, огромное старинное рулевое колесо – с радиопеленгатором. В кубрике, заменявшем клуб, мы нашли радиолу. Повсюду, куда не проникал дневной свет, ярко горело электричество. В далеком прошлом на таких кораблях все палубы, каюты и кубрики освещались тусклыми фонарями.
Вскоре все было осмотрено. Мы появились на палубе как раз вовремя, потому что боцман закричал таким голосом, что и мертвый вскочил бы:
«По местам стоять, на якорь становиться!»
* * *
На другое утро одни – неуклюже, другие – с относительной легкостью перебирались с одного борта на другой по вантам бизани. Я старался не смотреть вниз и облегченно вздохнул, очутившись в конце концов на палубе. Боцман громовым голосом хвалил храбрецов, подбадривал трусивших. Фрол как бы случайно очутился рядом с Платоном, готовый ему протянуть руку помощи, а потом умудрился залезть выше всех; боцман приказал ему немедленно слезть и в другой раз «наперед батьки в пекло не лезть».
– Страшно? – спросил я Бубенцова, когда мы закончили эту своеобразную физзарядку.
– А ты как думаешь?
– Ничего, ничего, привыкнете, – подбодрил Пылаев. – Поглядите-ка на Платона – орел!
И Платон расцвел от неожиданной похвалы.
Пронзительный свист боцманской дудки звал на приборку. Удивлению Бубенцова и Серегина не было границ. Мыть и скоблить сверкающую палубу? Зачем?
– А затем, чтоб она была еще чище, – пояснил Гриша, вооружаясь скребком и шваброй и засучивая рабочие брюки.
Многие не знали, с чего начать. Тогда острые усы боцмана встали торчком.
– На колени становись, на колени! Работать ручками, ручками, а не ножками!
Но вот палуба была окачена, грязная вода стекла за борт. Слонов заставил нас драить медяшку; проверяя блеск, дышал на поручни трапов, в которые можно было смотреться, как в зеркало, протирал тряпкой и удовлетворенно говорил: «Хорошо».
– А боцман придерживается нахимовских правил, – сказал Фрол, когда Слонов вручил ему ведерко с краской и приказал закрасить ссадину на фальшборте, – помнишь, Нахимов говорил: «Праздность недопустима»?
Увидев подходившего Слонова, он принялся усердно втирать краску в борт. Боцман внимательно осмотрел работу Фрола, потом повернулся ко мне. Я получил приказание:
– Пойдите в кубрик, выкрасьте подволок.
Чтобы достать до подволока, пришлось стать акробатом, и я весь забрызгался масляной краской, вспотел и упарился, но подволок был все же выкрашен. Боцман, задрав голову, минут пять исследовал его. Наконец, он одобрил работу и приказал идти мыться. Баня на «Севере» была тесная, но душ хорош. Едва я успел одеться, горн весело позвал на обед. Я застал товарищей в кубрике за подвесным, чуть раскачивающимся столом.
Как выяснилось, никто не сидел без дела. Всем боцман нашел работу.
– Не то еще будет, – постращал Фрол.
– А что еще будет?
– Слонов, вроде моего Фокия Павловича, сам марсо-флот и нерасторопных не терпит… Держи, держи! – вдруг закричал Фрол.
Платон, неся медный бачок, споткнулся на комингсе; Ростислав и Пылаев, сидевшие ближе всех к двери, сорвались с лавки и успели подхватить незадачливого бачкового.
– Эх, растяпа! Чуть не погубил и себя и борщ, – в сердцах ругал Фрол Платона.
Вошел командир роты, присел с краю и попросил ложку.
– Отменный борщ, – похвалил он, попробовав.
Первое съели дочиста. Платон, забрав опустевший бачок, отправился за вторым.
– Ну что, нажимает боцман? – спросил участливо Костромской. – Ничего, это вам только на пользу. Познаете труд матроса, научитесь уважать тех людей, за которых будете нести ответственность, когда станете офицерами. Вот Пылаев расскажет про матросскую жизнь. Вместе на «Ловком» плавали…
Появился Платон, запыхавшийся, взмокший, принесший второе.
– Ну, отдыхайте, – поднялся Костромской, когда Платон отправился за компотом. – Отдохнете – пойдем на маяк. На маяках не бывали?
* * *
Возле белой маячной башни нас встретил старый смотритель в выцветшем матросском бушлате и повел на полутемную винтовую лестницу. В редкие пробитые в стене окна был виден залив и наш «Север». Фрол принялся вслух считать ступени. Сверху послышался хриплый голос смотрителя:
– Можете не считать. Их ровно двести семьдесят пять.
С площадки у фонаря, огороженной леером, был виден рейд, корабли, буксир, тащивший баржу по фарватеру. На фоне зеленого леса белели здания Петродворца.
– Кит, чувствуешь? – с опаской спросил Митя. – Башня качается.
Башня, действительно, слегка раскачивалась.
– Не опрокинется?
– Сто лет стоит, не опрокидывалась, только тебя и ждала, чтобы опрокинуться, – насмешливо кинул Фрол. – Лучше слушай смотрителя.
А старик рассказывал, что в старину маяками называли костер, разложенный рыбаками, указывавший путь кораблям; «огненными маяками» называли огни, зажигавшиеся на берегу, а «дневными маяками» – столбы и груды камней; что Петр Первый приказал зажигать маячные огни на Петропавловской крепости, построил маяки на Азовском и Белом морях, заботился о безопасности кораблей в Финском заливе.
Смотритель показал нам моторчик, вращающий диск рефлектора, большие линзы цилиндрической формы, окружающие огонь; включил аварийную ацетиленовую горелку.
– Во время войны, – говорил он, – маяки сослужили большую службу. Когда Севастополь находился в осаде, маяк светил нашим кораблям, подвозившим продовольствие и боеприпасы защитникам города. Немцы бомбили маяк беспрерывно. Но каждую ночь над маяком загорался яркий огонь. Немцам удалось, наконец, разрушить маячную башню и перебить людей… Сын мой там тоже погиб, – сказал он, вздохнув, – но на смену пришли новые люди и снова зажгли огонь на развалинах… А на Ладожском озере, в трех километрах от линии фронта, тоже светил маяк. Враги разрушали его день за днем, но погасить так и не смогли.
– На этом маяке, – сказал Костромской, – служил Родион Тимофеевич (так звали смотрителя).
С рейда донесся призыв горна. На палубе «Севера» начиналась вечерняя поверка. Нам пора было возвращаться. На обратном пути Фрол размышлял вслух:
– Смотри, пожалуйста, невидный какой старикашка, формы не носит, а у него, пожалуй, и орден есть.
– Орден Ленина.
– Откуда, Кит, знаешь?
– Заметил ленточку под бушлатом.
– Ну, что ж, за такое дело он заслужил! А ну, Платон, – спросил Фрол шагавшего перед нами Платона, – что ты видел сегодня?
– Маячную башню.
– Сам ты – маячная башня! Ты настоящего человека видел! Такого, как батя твой, настоящего человека! Хотел бы я, когда доживу до их лет, не одряхлеть, не согнуться, в их годы быть таким же, как они…
И Фрол обернулся, чтобы еще раз взглянуть на смотрителя, стоявшего на пороге.
Пока мы добрались до парусника, стемнело, и «Север» осветился огнями. Поужинав, я вышел на палубу. На баке товарищи, сидя кружком, слушали чьи-то рассказы.
– Кит, – позвал Фрол, – иди послушай, какие истории водолаз рассказывает. И не «травит», представь, все похоже на правду.
– Послали меня на Ладожское озеро в невыносимый мороз, – рассказывал широкоскулый матрос с лицом, обтянутым глянцевой коричневой кожей. – Танкетка одна провалилась в промоину. Водитель едва успел выскочить. Луна в эту ночь ярко светила, нашу машину хорошо было видно на льду, и фашисты ее обстреляли. Попасть – не попали, мы добрались до места; командир меня спрашивает:
– А не трудно тебе будет, Тарасов, работать? Мороз-то ведь сорок градусов!
– Что мороз, – говорю, – когда надо танкетку выручать!
А водитель вокруг меня крутится и все просит: «Выручи, дружок, выручи».
Никогда я до тех пор, по совести, под лед не лазил и с утопшими танкетками дел не имел.
Спустился на грунт. Осмотрелся, нет ли где мин. Вижу – танкетка стоит; попросил сверху стропы. Подали. Вдруг почудилось мне, наверху что-то неладно. Нет, воздух качают, значит – порядок. Застропил я носовую часть, потом кормовую, а на сердце все как-то не по себе…
Вылезаю на лед, мой дружок, Андреев, снимает с меня костюм, а руки дрожат.
– Ты чего? – спрашиваю.
– Да нет, ничего.
Только когда до казармы добрались, прорвало его:
– Ну, Тарасов, не думал я, что с тобой свижусь.
– А что?
– Как только ты спустился под лед, какой-то сукин сын из леса ракету пустил. Тут как начнут по нас палить, дьяволы! Все на снег полегли, только я да водитель, что за свою танкетку болел, продолжали тебе воздух качать. Качаю я, а сам думаю: а что если где снаряд под лед ахнет, да в воде разорвется? Ведь тут тебе и капут, приглушат тебя, ровно рыбу…
…Да, вот какие дела. Ну, а больше мне под лед лазать не пришлось. Закурить есть, ребята?
Со всех сторон к нему потянулись папиросы и сигареты.
– Слыхал? – спросил Фрол, спускаясь в кубрик.
– Слыхал.
– Выводы сделал?
– Сделал.
– Какие?
– Что не ты один, Фролушка, попадал в «вилку».
– Ты что, мысли научился читать? – изумился Фрол.
– Почему читать мысли?
– Да ведь я то же самое подумал. Куда ни взгляни, повсюду настоящего человека встретишь. Давеча – этот старче на маяке, нынче – водолаз. Сидит человек, ты его в первый раз в жизни видишь, и такое рассказывает, что у тебя дух замирает, а по его словам – как будто ничего он особенного не сделал. Ты знаешь, Кит? Всю жизнь мне казалось, что раз я катер в базу привел, так такое сотворил – во! (он широко развел руками), а выходит на деле всего-навсего – во! (он прижал большим пальцем кончик мизинца).
* * *
На другой день «Север», покинув рейд, вышел в море. Скучать было некогда. Командир и боцман не оставляли нас без дела. Учебные тревоги следовали одна за другой, и мы то дружно тушили «пожар», что было захватывающей игрой, то заделывали обнаруженную «пробоину». Горнист играл боевую тревогу, звенели колокола громкого боя, на нок-рее взвивался флаг, и мы, захватив противогазы, разбегались по боевым постам. Всех забавлял Ветер, который, по тревоге, навострив уши, во всю прыть отправлялся на камбуз.
Часто проводились парусные учения. По свисту боцманской дудки мы за матросами «Севера» бросались на свои места, по зычной команде Слонова поднимались по вантам и разбегались по реям, забыв об опасности. Не все у нас получалось, опыта еще не было, бывало и снасть заедало, и тогда на помощь приходили матросы, но в конце концов «Север» все же покрывался парусами, как крыльями, и несся вперед…
Мы обучали товарищей гребле. Гребцы спускали на воду шлюпки, и Фрол, подражая боцману, зычно покрикивал: «По банкам не ходить», и командовал: «Протянуться! Уключины вставить!» Потом слышалось за бортом: «Весла-а! На воду!.. Раз, два-аа… Бубенцов, как сидишь?.. Правая на воду, левая табань… Суши весла!»
Но иногда из-за борта доносились выражения, не предусмотренные уставом, и тогда боцман басил: «Живцов!» – «Есть Живцов!» – отзывался Фрол из-за борта. «Поаккуратнее!» – «Есть поаккуратнее!.. Разговорчики! Серегин, руки на борт не выставлять!..»
Пылаев учил новичков разбираться в сигналах:
– Глядите, на нок-рее «Дружного» – ноль-ноль. Это значит кораблям идти осторожнее, «Дружный» ведет водолазные работы.
Молодой штурман лейтенант Полухин проводил с нами занятия. На палубу выносили столики, раскладывали карты. Я с интересом наблюдал за Полухиным; он был недавно выпущен из училища, но держался уверенно, как подобает столь важному на корабле лицу. Ведь это штурман прокладывает путь корабля на карте, зарисовывает берега, производит астрономические наблюдения для определения места корабля, следит за верностью компасов, за хронометрами. Штурман должен знать, как свои пять пальцев, рельеф берегов днем, звездное небо и маячные огни ночью, должен быть лучшим на корабле рулевым.
Полухин обучал нас, как обращаться со штурманскими приборами – компасом, лагом, секстаном, эхолотом, радиопеленгатором; он говорил:
– Запоминайте характерные черты берегов. Представьте, вы ведете корабль. Берег открылся на короткое время; коли знаете его хорошо – используете для ориентировки… Взгляните – перед вами два соседних участка. На обоих одинаковый лес, но в одном лесу – просека, а в другом – нет. Заметили? Запоминайте. Во время войны один командир катера, высаживая разведчиков, не потрудился запомнить такие же признаки, спутал два разных участка берега и чуть было не сорвал операцию.
Вечером мы под руководством Полухина практиковались в прокладке.
Вершинин, всегда присутствовавший на занятиях, говорил:
– Когда я стоял на штурманской вахте, я особенно остро чувствовал свою ответственность. Одно дело – вести прокладку в училище, в классе или даже на корабле, на учебном столике, другое – в походе, на мостике, где ошибка в расчетах грозит не двойкой в журнале, а аварией… Я всегда себя спрашивал: правильно ли я проложил курс, точны ли и безошибочны ли мои расчеты? Ведь я отвечаю за всех этих безмятежно спящих людей…
– Помнишь, – сказал Фрол, когда мы остались вдвоем, – старик Бату говорил в Тбилиси, что мы будем наперечет знать все звезды? Мы теперь с ними на «ты». – И Фрол, задрав голову, стал перечислять сверкавшие над головой созвездия «Большой и Малой Медведицы, Персея, Лебедя. – А все же нам еще до Полухина ох, как далеко! – кивнул Фрол на мостик, где в тусклом свете освещенных приборов командир совещался со своим юным, но уверенным в себе и в своих расчетах штурманом и, надо полагать, вполне ему доверял.