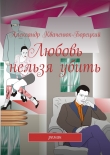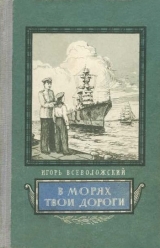
Текст книги "В морях твои дороги"
Автор книги: Игорь Всеволожский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 33 страниц)
ДОМА
Койку покачивало, и мне казалось, что «Адмирал Нахимов» в походе и за иллюминатором плещет волна. Я был рад, что еще нет подъема и не торопит вставать беспокойный горн. Но тут я понял, что я не на корабле, а в поезде. Сосед по купе, пожилой, с усами «папаша», ехавший в Курск, говорил Фролу:
– Мой-то отличился на днях: «Не отпустишь, говорит, батя, в училище, сам сбегу». Погоди, говорю, я тебе сбегу! А он опять: мне, говорит, морская служба весьма по душе. Это дядька – моряк в Николаеве сбил его с толку.
– Но почему же сбил с толку? – возразил Фрол. – Я лично флотскую службу ни на какую другую не променяю. Вы подумайте только! Уже в училищах мы ходим в плавания. Ну, а выйдем на флот офицерами – повидаем столько, сколько другой за всю жизнь не увидит. Чем плоха флотская жизнь?
– Ну, положим, вы еще человек молодой, лишь начинаете службу…
– Шестой год ношу форму, – с гордостью сказал Фрол.
– Шестой год? – удивился «папаша».
– Я вот тут воевал, – показал Фрол в окно.
– А сколько вам тогда было лет?
– Двенадцать, тринадцатый.
– Ого! Значит вы, можно сказать, моряк обстрелянный и бывалый! На большом корабле служили?
– На торпедном катере. Нос в небеса, корма в воду, в ушах шумит, волной заливает! На траверзе вон того мыса мой катер попал в «вилку»… (мне Фрол рассказывал, что попал в «вилку» под Ялтой).
– А что это за «вилка»? – заинтересовался «папаша».
– Пренеприятная штука. Снаряды падают и с левого и с правого борта. Вот и выкручивайся.
– Теперь понятно.
– Кит, вставай, море проспишь! – позвал меня Фрол. Я свесил голову с койки.
За окном искрилось безбрежное, покрытое золотой чешуей море. На него было больно смотреть. Поезд скользил по узкой береговой полосе…
– Беги скорей умываться!
Я достал из-под подушки портрет Антонины и сказал ему: «доброе утро». Она смотрела на меня и улыбалась. Сейчас, наверное, дед диктует ей свою книгу. Я спрятал фотографию в бумажник и побежал умываться.
Когда я вернулся, на столике стояли стаканы с чаем в мельхиоровых подстаканниках. Фрол повествовал нашему спутнику об адмирале Спиридове, победителе в Чесменской битве:
– Уничтожив флот турок, в шесть раз превосходивший нашу эскадру, адмирал донес: «неприятельский флот атаковали, разбили, разгромили, сожгли, на небо пустили, в пепел обратили». Коротко и ясно, не правда ли, чисто по-черноморски?
Чай остыл, потому что о морских боях Фрол мог рассказывать целый день.
«Папаша», оказавшийся начальником крупной стройки, внимательно слушал. Фрол рассказывал о войне, о боях, о высадках черноморских десантов. Наконец, мы позавтракали, уничтожив сыр, курицу и чурек, которыми нас снабдил Гоги.
Поезд замедлил ход и остановился, ожидая встречного на разъезде. Мы вышли из вагона. Море сливалось на горизонте с голубым небом; по небу медленно плыли легкие облачка. Вдали шли миноносцы.
– Пройдет четыре, пять лет, – сказал Фрол, – и я попаду вон туда, на ходовой мостик, – он показал на растянувшиеся цепочкой эсминцы. – Красота!
– Экзамены держать будете? – спросил «папаша».
– Никак нет. Окончившие Нахимовское училище принимаются без экзаменов.
– Значит, получите кортик?
– Ну, нет, – чуть-чуть улыбнулся Фрол морской необразованности «папаши». – Право ношения кортика присвоено лишь офицерам; в училище выдадут палаши.
– А что, палаш – тоже великолепная вещь! – в свою очередь улыбнулся «папаша» с явным превосходством своих сорока пяти или пятидесяти лет над нашими восемнадцатью.
– Дело не в палаше, – сказал Фрол, хотя я великолепно знал, как он мечтает получить долгожданный палаш…
Паровоз коротким гудком позвал нас в вагон. «Папаша» до позднего вечера слушал рассказы Фрола, а на другой день заявил, что, приехав домой, разрешит сыну поступить в морское училище.
– А экзамены вы, не слышали, – трудные? – спросил он озабоченно.
– Говорят, что нелегкие, – сказал Фрол.
– Ну, мой выдержит! Митяй у меня подкован.
Начальник строительства сошел в Курске, сказав на прощание Фролу:
– А вы хороший агитатор за флот!
* * *
Я люблю Ленинград; закрыв глаза, могу описать каждый дом на Кировском и на Невском. Приехав, я сразу заметил, что со стен исчезли невеселые надписи: «Бомбоубежище» или «Эта сторона улицы во время артобстрела наиболее опасна». Школу мою отстроили заново. Но дом с балконами, что стоял перед нашими окнами, бесследно исчез; мне показалось, что я потерял любимого друга. Я, бывало, здоровался с ним, уходя в школу, а по вечерам в его окнах светились приветливые огни. Теперь на месте дома был разбит сквер.
– А вот здесь, Фрол, мы живем! – подтолкнул я его к парадной.
Мы поднялись на четвертый этаж. В старом доме все было по-прежнему, сохранились даже ребячьи рисунки на стенах, на лестнице. Мама радостно вскрикнула: «Наконец-то!» Милая мама! Кто скажет, что тебе целых тридцать семь лет? Веселая, быстрая, легкая… Я схватил ее, поднял на руки, закружил по столовой, целуя в лицо, в глаза, в губы. А когда-то ведь ты носила меня на руках! «Уронишь! – испуганно крикнула мама. – Ты сумасшедший!» Я поставил ее рядом с собой – и удивился, – теперь она мне была по плечо. «Нет, ты посмотри, Фрол, – воскликнула мама, – Никита перерос меня на целую голову. Да и ты богатырь!»
Кукушка высунула свой клюв из окошечка черного домика и прокуковала восемь утра, приведя в восторг Фрола. Мама спохватилась:
– Давайте скорей кофе пить, мне пора на работу…
– Ты, Фрол, конечно, у нас будешь жить. Твой Виталий Дмитриевич живет в общежитии. Нет, вы подумайте только: отцы-то ваши воевали, воевали, а теперь все вечера занимаются, учатся, боятся плохо ответить профессору. Ученики, как и вы! Отец возвращается поздно. Так что вы погуляйте как следует. Ты, Фрол, будешь спать тут, на диване. Под фрегатом! Совсем постель флотоводца! Фрегат у нас уцелел, и кукушка, и книги. А мебель вся новая. Мы ведь старую всю в блокаду сожгли, – пояснила мама. – Придете раньше меня, захотите есть – все найдете в буфете, – сказала она, схватив со стола шляпу (кукушка доложила, что уже половина девятого). – А на днях приходите ко мне в Русский музей, посмотрите русских художников. Ну, сынок, дай, я тебя поцелую!
Она оставила нам запасные ключи, и я проводил ее. Когда я вернулся, Фрол мрачно смотрел в окно на мокрые крыши.
– Ты что? – спросил я его.
– Ничего, Кит.
Я понял: у него ведь нет матери!
Он обернулся и показал на книжные полки:
– Сколько книг у вас!
– Да, и, к счастью, они сохранились.
– Тут, я вижу, и беллетристики много.
– А ты знаешь, кто отца научил любить беллетристику?
– Кто?
– Сергей Миронович Киров.
– Киров? А разве Юрий Никитич был с ним знаком?
– Когда отец учился, Киров часто беседовал с курсантами по душам. Поинтересовался, что курсанты читают. Отец и сказал: «Мы так много занимаемся, Сергей Миронович, что нам едва хватает времени пробежать газеты». И тут-то Сергей Миронович стал доказывать, что кто бы ты ни был – моряк, инженер или партийный работник – без художественной литературы твой мир ограничен и узок. Отец с тех пор начал много читать. И у него есть любимые и нелюбимые книги. Нелюбимые – это которые прочтешь и забудешь. Вот смотри, они стоят во втором ряду. А любимые, – отец говорит, – это – книги-друзья, которые знаешь почти наизусть и все же часто их перечитываешь. Они занимают почетное место, видишь?
Фрол подошел к полкам и нашел своего любимого Станюковича: он стоял, конечно, в первом ряду.
– Пойдем-ка, Кит, в город, не будем терять дорогого времени, – предложил Фрол.
Мы шли мимо дворца балерины Кшесинской, с балкона которого выступал Ленин. Я показал Фролу Петропавловскую крепость и Зимний дворец на том берегу и, как сумел, рассказал ему их историю. Мы перешли через Кировский мост, прошли Марсово поле, постояли у могил бойцов революции. Потом попали в Музей обороны и застряли в нем на целый день. В зале погибших героев я показал Фролу портрет матери Антонины. Эсэсовцы повесили ее в парке Петродворца, у фонтанов.
Фрол, глядя на трамвайный вагон, разбитый снарядом, на весы, к медной чашке которых прилип «блокадный паек» – ломтик клейкого суррогата, на дневник ленинградской девочки, записывавшей каракулями: «Сегодня папа умер», «Умерла сестренка», «Сегодня умерла мама», мрачнел все больше и больше и только спрашивал:
– Ты тоже, Кит, такой паек получал?
Или:
– Ты то же самое пережил?
Оживился Фрол только тогда, когда увидел в большом, под стеклянным куполом, зале настоящий торпедный катер.
Это был зал с экспонатами Краснознаменной Балтики, и мы там надолго застряли, пока звонок не напомнил нам, что музей закрывается.
На Кировский возвращались пешком. За Невой посидели у памятника «Стерегущему»; бронзовые матросы открывали кингстоны. Моряки «Стерегущего» сражались с японской эскадрой; бой был неравный; в последнюю минуту они потопили корабль, но не отдали его врагу.
– Вот сижу я, смотрю на них и не знаю, – сказал Фрол, – хватило бы нас с тобой на такое?
«Тебя бы хватило, – подумал я. – Когда на катере всех перебило и ранило командира, ты все же привел катер в базу»…
* * *
– Ну, здорово, Никита! – оказал отец, крепко, по-мужски меня обнимая.
– Здорово, сынок! – приветствовал Фрола Русьев. – Ну ты и здоровяк! Медведь! Ты смотри, какой медведь вырос!
Фрол перерос приемного отца. Правда, перерасти Русьева было не трудно…
– Первые выпускники первого Нахимовского, – сказал Серго. – Интересно. Нет, ты подумай, Юрий! Твой – без пяти минут курсант, моя – десятилетку окончила. Мы становимся стариками.
– Ну, в старики меня ты не записывай, – засмеялся отец. – Как раз наоборот: учеником себя чувствую! Да, да, сынок, ты не смейся, – обнял он меня. – Всю жизнь мне кажется: а чего-то мне не хватает! Походил на катерах в финскую кампанию – стал поумнее. На Черном море повоевал – все равно что университет прошел. А теперь вот в академии учусь. И все же боюсь, что еще мало знаю! Наука-то ведь вперед шагает… Вот и приходится учиться всю жизнь, чтобы она не опередила! Боевой славой не проживешь, будь ты трижды героем. Вот и вы, ребята, будете плавать на новых кораблях. Чтобы управлять ими, придется много чему поучиться. В училище не зевайте, упустите – беда!
– На собственном опыте убедились, – подтвердил Русьев, многозначительно улыбаясь. – Так ты уж, Фрол нас не срами, гвардейцев…
– Я постараюсь, – сказал Фрол серьезно.
– Кит, а ты помнишь, что адмирал сказал тогда, в Севастополе? – спросил отец.
– Бесстрашие, мужество, дерзость плюс мастерство, трезвый и смелый расчет – в этом залог победы.
– Вот то-то и есть! Здесь, – ударил отец ладонью по толстой тетради в зеленой обложке, – весь путь, который я прошел. Тут не только лекции, – улыбнулся он. – Тут все: сомнения, размышления, мечты… Недавно мои записки читал… Да, вы ведь его знаете! Ваш бывший начальник Нахимовского…
– Наш адмирал?
– Он вышел в отставку, пишет научные труды. Недавно приходил к нам в академию.
– Что, если мы его навестим?
– Старик будет рад.
– А он помнит нас? – усомнился я.
– Помнит, – убежденно заявил Фрол. – Не такой он человек, чтобы забыть.
– Ну, а пока, давайте, составим план действия на завтра, – предложил отец. – Завтра ведь воскресенье.
– Я завтра, к сожалению, занят, – отозвался Серго.
– Ты занят? Что ж? Очень жаль. А ты как, Виталий?
– Свободен.
– Прекрасно. Ну, что предлагаете?
– Я бы сходил в оперу, – сказал Русьев. – Кстати, днем в Кировском «Пиковая». Нет возражений?
– Мы – с удовольствием, – сказал Фрол.
– Отлично, – одобрил отец. – Так и запишем. Еще?
Я сказал:
– Фрол не бывал в Эрмитаже.
– Успеем и в Эрмитаж. Возражений нет? Давай, Нинок, ужинать.
Ужинали шумно и весело, пили «флотский» чай, черный, как деготь. Отец говорил, что он мечтает, окончив академию, вернуться в свое соединение – ведь он в нем провел всю войну!
Серго, прочитав письмо Антонины, задумался, замолчал. Вид у него был совершенно отсутствующий. Может быть, Антонина его чем-нибудь огорчила? Я так и не понял, что с ним…
Когда гости ушли, мама постелила Фролу на диване. В моей маленькой комнатке стоял такой же, как прежде, стол, на нем – лампа под зеленым фарфоровым абажуром, на стенах висели фотографии отца, матери. Только вместо детской кровати стояла другая – большая. Когда я улегся, неслышно вошла мама, села у моих ног.
– Ну вот ты и снова со мной, сынок, – сказала она. – И мы снова все вместе – ты, я, отец – на целых два месяца! Я сегодня такая счастливая! – воскликнула она радостно. – Я так ждала этого дня! И ты у меня стал совсем взрослым! Антонина тоже, наверное, взрослая? У тебя есть ее фотография?
Я чуть было не сказал, что нет. Но матери я не лгал никогда. Я протянул ей портрет Антонины.
– Можно? – спросила мама и, когда я кивнул головой, прочла надпись.
– А ведь я так и знала, – сказала она. – Дай бог, чтобы это было у вас настоящее, чтобы ни она, ни ты – не ошиблись…
Милая мама! Я прижался к ее плечу головой, схватил ее руки. Она не только мама – и друг!
– Только знает ли Антонина, как трудно быть женой моряка, – произнесла задумчиво мама. – Всегда провожать его в море, всегда его ждать…
– Она, мама, очень хорошая…
– Этого – мало.
– Она сказала, что хочет полюбить все, что мне дорого…
На другое утро я проснулся, услышав кукушку. Она прокуковала двенадцать. Опоздали в театр! Я вскочил. Кукушка продолжала: тринадцать, четырнадцать… двадцать… Что за чушь?
В столовой под часами на стуле стоял Фрол в трусах и переводил стрелки. Кукушка высовывала из домика клюв, и он заставлял ее куковать без конца, а сам, склонив голову на бок, с удовольствием слушал.
– Занятно, Кит, – сказал он, не смутившись.
– Который час?
– Девять, – показал он на свои часы, когда-то подаренные ему Русьевым. – А я тут ночью интересную книжку читал, – показал он на «50 лет в строю», лежавшую на подушке. – Ну и ловкачи были в корпусах царских, не то, что в нашем Нахимовском! Послушай-ка, как сдавали экзамены. Вот ловкачи!
Он схватил книгу:
«…Каждый вызванный, подойдя к учительскому столу, долго рылся в билетах, прежде чем назвать вытянутый номер. Весь класс настороженно следил за его руками, так как быстрым движением пальцев он указывал номер того билета, который он успевал подсмотреть и отложить в условленное место, среди других билетов. «Смотри, пожалуйста!» После этого в классе начиналась невидимая для постороннего глаза работа. Экзаменующийся время от времени оборачивался к нам, и в проходе между партами для него выставлялись последовательно, одна за другой, грифельные доски с частью решения его теоремы или задачи. Если это казалось недостаточным, то по полу катилась к доске записка-шпаргалка, которую вызванный, уронив невзначай мел, подбирал и развертывал с необыкновенной ловкостью и быстротой». Ай, да арапы! Нет, у нас такого не было. Правда, вначале и мы чуть-чуть жулили, помнишь? Но после – отвыкли. А вот посмотри-ка, какое неправильное было понятие о товариществе! Постой, постой, где это? Вот: «Для меня, новичка, вся эта налаженная годами система подсказывания представлялась опасной игрой, но я быстро усвоил, что это входило в обязанности хорошего товарища, и меньше чем через год я уже видел спортивный интерес в том, чтобы на письменных работах, на глазах сновавшего между партами Ивана Ивановича, решать не только свою задачу, но и две-три чужие…» А те, значит, лодыри, на чужой счет проезжались! Ну и хороши же офицеры из них получались!
Тут вошел отец и сказал, чтобы мы поскорее одевались.
* * *
Во время блокады Кировский театр был разрушен. Теперь трудно поверить, что он стоял с выбитыми окнами и провалившейся крышей. Он стал такой же, как прежде – красивый снаружи, уютный внутри, голубой с золотом, праздничный.
И публика, заполнившая театр, была тоже веселая, нарядная, праздничная…
К отцу и маме подходили знакомые. Одни удивлялись, когда узнавали, что я ее сын, другие говорили, что я очень вырос и меня не узнать. Они видели меня до войны. Отец любил оперу, особенно «Пиковую даму», и слушал ее с упоением. А Фрол все подталкивал меня локтем и убеждал, что сегодня Герман вытащит не даму, туза. И выиграет большущий куш (Я вспомнил, как Фрол еще в Нахимовском мне рассказывал, что до войны в Севастополе видел в кино «Чапаева», где не Чапаев, а Петька погиб, а Чапаев выплыл). Но Герману пропели: «Ваша дама бита…» – «Какая дама?» – «Та, что у вас в руках, дама пик». Герман сошел с ума, зарезался и потом долго раскланивался перед отчаянно визжавшими, готовыми перескочить через оркестр на сцену девчонками.
Мы пошли в Эрмитаж. Конечно, весь Эрмитаж осмотреть в один день невозможно:
– Сюда придешь двадцать раз, и то всего не осмотришь, – вздохнул Фрол.
Отец и Русьев повели нас в залы Рубенса и Ван-Дейка. Мама рассказывала, что Рубенс был не только художником; он с увлечением занимался филологией и археологией, изучал античную литературу, был дипломатом.
– А ведь Николай Николаевич был прав насчет расширения горизонта, – оказал мне на ухо Фрол.
– Не горизонта, а кругозора.
– Ну, это все одно. Ты знал, в каком веке жил Рубенс?
От «Охоты на львов», «Пира у Симона фарисея», «Сусанны и старцев» мы перешли в зал Рембрандта, где глаза стариков и старух смотрели с темных портретов совсем как живые.
– А как же все это сохранилось во время блокады, Юрий Никитич? – спросил Фрол, когда мы спускались по лестнице.
– Все сокровища были вывезены.
– Вот «у нас в Севастополе черноморцы под бомбежкой грузили на корабли панораму. Забыл, кто ее писал…
– Рубо, – подсказал Русьев приемному сыну.
– Вот, вот, Рубо! И увезли на Кавказ. Теперь, говорят, ее восстанавливают.
– Да. Строят новое здание, и художники реставрируют полотно.
* * *
На другой день возле решетки Летнего сада я встретил Бобку Алехина. Мы сидели с ним в школе на одной парте. Теперь это был круглолицый нахимовец с темным пушком над губой.
– Никита! Ты тоже нахимовец? – удивился Борис.
– Да, я окончил Тбилисское.
– А я – Ленинградское. Видишь, за рекой голубое здание с башнями? И рядом «Аврора». Навек на приколе! Идем-ка ко мне! Я – один, батя нынче в Либаве. Пойдем, пойдем! Я тут рядом живу.
Квартира у Бориса была просторная, в окна был виден золотой шпиль Петропавловской крепости. Борис достал из буфета холодную рыбу, мясо, картофель, початую бутылку вина.
– Садись, Кит.
– Я завтракал.
– Садись, говорю.
Он пододвинул хлеб, налил вина.
– Значит, опять с тобой вместе? Помни, Кит, держись друг за друга. С «гражданскими» смешиваться не будем.
– С кем, с кем?
– С гражданскими, не понимаешь ты, что ли? Я слышал – для нас, нахимовцев, создадут особые условия… Красота! Да оно и заслужено. Окончить Нахимовское, да еще в первом выпуске – это тебе не десятилетку окончить! Ты с медалью?
– С медалью.
– А я нет, – вздохнул Борис, разведя руками. – Пороху не хватило. Я ведь, сам знаешь, человек неусидчивый. С налету беру, а зубрить не умею.
Над диваном веером висели портреты киноактрис. Борис с самодовольной улыбкой достал из ящика письменного стола пачку фотографий.
– Держи, любуйся.
Со всех фотографий улыбались девушки – напряженными и обольстительными улыбками.
– Читай, я не возражаю, – разрешил Борис.
«Дорогому Бобу от Клавы», – было написано на одной фотографии размашистым почерком. На другой – старательно выведено «Не вспоминай, как взглянешь, а взгляни, когда вспомнишь». На третьей была трогательная мольба: «Борис, я так люблю тебя! Не забывай свою Свету».
– Звонят, – сказал, прислушиваясь, Борис. – Сиди, сиди. Я сейчас.
Широко шагая, он ушел в переднюю и возвратился вместе с худощавым, стройным нахимовцем. Нахимовец, сняв бескозырку, поздоровался. Глаза у него были серьезные, внимательные, нос с горбинкой.
– Человек сильной воли, – представил Борис приятеля. – Мы – однокашники. Вот он с медалью окончил, Кит. Да еще с какой – с золотой!
– Игнат Булатов, – раздельно и отчетливо назвал нахимовец свою фамилию. – Ты из Тбилисского? – спросил он, энергично пожимая мне руку.
– Да, из Тбилисского.
– В какое училище поступаешь?
– Конечно, в наше! – воскликнул Борис.
– Кит – Никита?
– Никита.
– А ты все еще не выбросил эту труху в мусорный ящик? – обратился Булатов к Борису, показав на фотографии киноактрис. – Ах, и коллекцию уже успел показать? – заметил он лежавшие на столе фотографии. – Едва успеет познакомиться с девицей, выклянчивает у нее фотокарточку, да еще с надписью. И потом хвастает своими победами.
– А ты знаешь, Кит, почему Игнат – человек сильной воли? – перебил Борис неприятный для него разговор. – Игнат заикался, не мог толком выговорить ни слова; когда он решил поступить в Нахимовское, врачи сказали, что вылечат его только в том случае, если он сам того сильно захочет. И ты знаешь, в Нахимовском никто не заметил, что он был недавно заикой. А когда начальник узнал, то сказал: «Для моряка великолепное качество – быть человеком сильной воли». Так и прозвали его: «человек сильной воли».
– Чего нельзя сказать о тебе, – невозмутимо оборвал Бориса Булатов, доставая из кармана трубку и набивая ее табаком. – Легкомыслен и болтлив – два качества, неприемлемых для моряка. Встретит девушку, в первый же вечер превозносит ее до небес. Она и красивее всех, и умнее всех, и душевнее. А он – потомок чуть ли не всех русских флотоводцев.
– Ну, вот и неправда, – слегка смутился Борис.
– Сам слышал, дорогой мой, сам слышал, – разжигая в трубке табак, продолжал Игнат. – Ты, по-видимому, твердо вбил себе в голову, что с девушками можно говорить лишь о пустяках, можно врать им с три короба и они созданы только для того, чтобы развлекать таких вот, как ты, красавцев. Глубоко ошибаешься, – продолжал он, выпуская к потолку колечки синего дыма, – есть много девушек в твоем возрасте куда умнее тебя – им ты своей пустой болтовней покажешься недалеким и скучным.
– Ну вот, опять зафилософствовал, – пробурчал Борис, наливая в стакан остатки вина. – Выпей-ка лучше.
– Не хочу, – Булатов отодвинул стакан. – Очень легко показаться умным, – он поднял пучок фотографий, – перед такой вот глупенькой малограмотной Клавой, а ты бы попробовал рассыпать свой бисер перед образованной девушкой, – мигом сел бы в калошу. Библиотека какая у отца, – показал он на книжные полки, – а прочел ли ты хоть сотую долю этих книг?
Борис пробормотал что-то совсем нечленораздельное.
– Вот мы идем все в училище, – продолжал Булатов, – а знаешь ли ты, что это за училище, сколько лет оно существует, кто его основал, кто из воспитанников его прославил? Не поинтересовался? Борис лишь пожал плечами.
– Эх, будущий офицер! А ведь все – это у тебя под руками, – кивнул Игнат на книжные полки. – Разреши?
– П… пожалуйста, если хочешь.
Булатов подошел к полкам и достал несколько книг.
– Я неравнодушен к истории, а особенно к военно-морской, – пояснил он. – Твой отец тоже окончил наше училище? Я видел его портрет в «зале героев».
– Ты уже и в училище заходил? – спросил удивленно Борис.
– И не раз. И ты знаешь, – он обратился ко мне, – какое необыкновенное чувство охватывает тебя, когда ты входишь в подъезд! Я буду учиться в тех самых классах, где учились прославленные русские и наши советские адмиралы… Перелистывать страницы старинных лоций, которые перелистывали они. Я буду изучать модели фрегатов, корветов, которые изучали они. Буду учиться там, где учились герои: подводники, катерники, люди, которых знает весь народ. В этих книгах описана история нашего училища за двести лет.
– И ты ее всю одолел? – с деланным ужасом воскликнул Борис.
– И представь, что с большим удовольствием. Вот тебя, я уверен, на это бы не хватило. А историю своего училища нужно знать каждому. Ведь ты, наверное, и не подозреваешь, что из первых выпускников выросли такие мореплаватели, как Нагаев, Малыгин, Чириков…
– Имена известные, – подтвердил Борис.
– И Спиридов, герой Чесмы. Чичагов, который сжег шведский флот на Ревельском рейде! И Челюскин, и Харитон Лаптев! А Федор Федорович Ушаков, а Сенявин, а Ильин, лейтенант, который атаковал турецкие корабли на маленьком брандере! А первый кругосветный мореплаватель Крузенштерн! А Беллинсгаузен и Лазарев, открывшие Антарктиду! А Головнин, о приключениях которого можно написать десять толстых романов! А Невельской, который открыл, что Сахалин – остров и что Амур судоходен! Какие имена!
– А Алехин, Булатов, Рындин? – взыграл вдруг Борис. – Лет через двадцать пять мы прославимся, и такой же вот историк доморощенный, вроде тебя, будет где-нибудь восторгаться: «Какие люди в сороковых годах в жизнь вступали! Подумать только – Никита Рындин, Игнат Булатов, Борис Алехин, тот, что командует нынче таким-то флотом…»
Мы хохотали до слез. Наконец, Булатов взглянул на часы:
– Мне пора.
Он надел бескозырку.
– Ты куда?
– В Публичную библиотеку, а после – в Военно-морской музей, заниматься. До свидания, Никита.
Он спрятал трубку в карман.
– Я тоже пойду, – решил я. – Борис, ты мне дашь почитать эту книгу?
– Только верни, а то отец с меня шкуру сдерет. Книга редкая. Нет, что выдумали, – пробурчал Борис, – в музей! Лучше в кино пойти…
Когда мы вышли на набережную, Игнат спросил:
– Ты давно знаешь Бориса?
– На одной парте в школе сидели.
– Хороший парень, только в голове ветер, – балы, танцульки, девчонки. Ветрогон! Не понимаю, как можно жить этими интересами. А ведь парень хороший, рубаха-парень, как говорят. За это его и люблю и терплю.
Игнат говорил так четко, не запинаясь, что я решился проверить, не пошутил ли Борис.
– Скажи, Игнат… Борис говорил, что ты здорово заикался?
– Да, заикался я сильно.
– И потому ты и вылечился, что сам этого добивался?
– А что в этом удивительного? Николай Островский, слепой, пригвожденный к постели, написал «Как закалялась сталь», мою любимую книгу. Маресьев научился танцевать на протезах и водил самолет, актер Остужев – глухой, а играет Отелло. Певцов заикался больше меня, а был народным артистом. Захочешь сильно – всего добьешься…
– А у тебя это… от рождения? Он ответил не сразу.
– Нет. Отец приехал в блокаду с кронштадтских фортов, привез хлеба, а тут начался обстрел. И на моих глазах их убило: отца и маму…
Игнат молча зашагал через Марсово поле.
* * *
Придя домой, я показал Фролу взятую у Бориса Алехина книгу.
«Вставали мы в шесть часов, становились во фронт, – писал один из воспитанников бывшего царского корпуса. – Дежурный офицер осматривал каждого, для этого мы показывали руки и ладони; нечистые руки, длинные ногти, нет пуговицы на мундире – оставались без булки. Наказание было жестоко: горячие, пшеничные, в целый фунт весом эти булки были так вкусны…»
– Питались, как видно, неважно, – вставил Фрол. – Потому и бросались на булки.
«…Нравы были поистине варварские, – вспоминал другой воспитанник корпуса. – И чем старше рота, тем жесточе и грубее нравы и обычаи. Мы беспрестанно дрались. Вставали – дрались, за сбитнем – дрались, ложась спать – дрались; в умывалках происходили сильнейшие драки. Дрались до крови и синяков…»
Декабрист Штейнгель писал: «Помощником командира корпуса был капитан первого ранга Федоров, не имевший понятия ни о воспитании, ни о способах воспитания. Глядя на него, ротные командиры держались того же правила. Способ исправления состоял в подлинном тиранстве. Капитаны, казалось, хвастались друг перед другом, кто из них бесчеловечнее и безжалостнее сечет кадет. По субботам в дежурной комнате вопль не прекращался».
– Дикость какая, – осудил Фрол.
«Была еще одна особенность в корпусе – это господство старших над младшими. Я, будучи младшим воспитанником, – вспоминал Штейнгель, – подавал старшему умываться, снимал сапоги, чистил платье, перестилал постель и помыкался на посылках с записочками. Боже избави ослушаться! – прибьют до смерти».
– Да-а, порядочки, – усмехнулся Фрол.
«…По тогдашней форме воротники у курток должны были быть застегнуты на все четыре крючка. Унтер-офицер, стоявший перед фронтом, спросил меня грубым голосом: отчего у тебя воротник не застегнут? Заметив, что у него воротник также не застегнут, я ответил ему таким же вопросом; тогда унтер-офицер начал на меня кричать и ударил меня; я ответил тем же; за такую продерзость на меня накинулись другие унтер-офицеры и отколотили порядочно…»
Тут вошел отец, спросил, что мы читаем.
– А, знаю; это редкая книга, достать ее трудно. Прочли? Нравы дикие. Не удивительно, что в такой обстановке вырастали жестокосердые люди, тиранившие матросов. Кстати, вы знаете, что в морской корпус принимали только дворян? Гордость русского флота Степан Осипович Макаров в корпусе не учился – его отец был из простых боцманов… И удивительно, что при таких обычаях и нравах из корпуса все же вышли Нахимов, Корнилов, Даль, Станюкович, кораблестроитель Крылов… Зато через год после Октября в морском корпусе открылись курсы командного состава Красного флота. На эти курсы пришли кочегары, сигнальщики, рулевые с кораблей. Все они имели большой опыт морской службы. Не было стульев, столов, не хватало тетрадей, температура в классах была ниже нуля, а они занимались по четырнадцать часов в сутки и окончили курс за четыре месяца. Советую вам, орлы, помнить это, когда будете заниматься в теплых и светлых классах и в великолепнейших кабинетах…
* * *
Пойти к нашему бывшему начальнику – адмиралу мы с Фролом не сразу решились. Все гадали: как он нас встретит, узнает ли?
Между Средним и Малым проспектами мы разыскали старинный трехэтажный дом и поднялись на второй этаж по широкой лестнице.
У высокой дубовой двери замешкались – не сразу решились нажать на звонок. Вот так же, бывало, мы не решались постучать в дверь кабинета в Нахимовском, когда нас вызывали к адмиралу.
– Ну, что же ты, Фрол? Звони.
Фрол решился, наконец; дверь отворилась, и девушка с русой косой вокруг головы приветливо спросила:
– Вы к отцу?
– Мы хотели бы видеть товарища адмирала. Можно?
– Отчего же нельзя? – улыбнулась она. У нее были ослепительно белые зубы. – Отец дома. Входите, пожалуйста.
В передней висели шинели и плащи с адмиральскими золотыми погонами, пересеченными серебряным галуном – знаком отставки.
– Да вы не из Тбилиси ли? – догадалась девушка, взглянув на ленточки бескозырок.
– Да, мы учились в Тбилиси.
– В Нахимовском?! Я тоже жила там во время войны. Чудесный город. Но Ленинград свой я больше люблю. Вы не ленинградцы?
– Я – севастополец, – сказал Фрол.
– А я – ленинградец.
– Папа! – крикнула девушка. – К тебе нахимовцы из Тбилиси.
Знакомый голос ответил:
– Зови, зови сюда, Люда.
Мы вошли в кабинет и застыли в положении «смирно».
Адмирал, стоявший у полок с книгами, шел к нам навстречу.
– Здравствуйте! Очень рад вас видеть…
Он всмотрелся в меня.
– Постойте. Рындин, если не ошибаюсь? Узнал!..