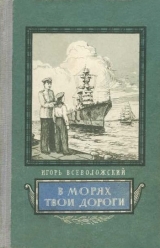
Текст книги "В морях твои дороги"
Автор книги: Игорь Всеволожский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 33 страниц)
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
– Победа!
– Победа, Кит!
Великое слово – победа! Его можно повторять тысячи раз. Оно звучало повсюду: в эфире, на улицах сразу ставшего праздничным города; его повторяли старики, ребятишки, солдаты, матросы; его выводил белым дымом по синему небу летавший над городом самолет. Победа! Мы всегда знали, что произнесем это слово. В тот день, когда на нас напал Гитлер, Вячеслав Михайлович Молотов сказал: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». И никто не сомневался в победе. Солдаты, уходя на фронт, клялись: «Мы вернемся с победой». Моряки уходили в десанты, высаживались на занятый врагом берег, говоря: «Мы жизни не пожалеем, но победим». Весть о том, что наши в Берлине и над рейхстагом развевается флаг победы, разнеслась быстрее ветра. Мы видели в широко раскрытые окна училища, как из всех домов люди выходят на улицу, целуются, обнимаются, поздравляют друг друга, качают солдат, офицеров.
– Протасова качают, глядите-ка!
Да, Протасов не избежал общей участи и то взлетал вверх, держа в руке бескозырку, то снова попадал в объятия сотен дружеских рук.
И на домах один за другим возникали трепещущие на ветерке флаги, с балконов свешивались мохнатые красные ковры, и на горе над городом вдруг возник такой большой портрет Сталина, что его было отовсюду видно.
В этот день, солнечный, яркий и теплый, все горы вокруг были желтыми, розовыми, сиреневыми и красными от бесчисленного множества цветущих кустов и фруктовых деревьев. Хотелось петь, танцевать, веселиться и без устали повторять: «Победа, победа, победа!»
И мама, которая как раз в этот день проездом в Ленинград попала в Тбилиси, пришла в училище такая счастливая, вся сияющая! Она закружила меня по приемной:
– Победа, сынок, победа! Война кончена! Наши – в Берлине!.. Я ведь еду домой, в Ленинград! – продолжала она. – Теперь скоро все вернутся домой! Папа едет учиться. За парту вы сядете оба – и ты и отец. Я посмотрю, кто кого перегонит и кто будет лучше готовить уроки! А-ка-де-ми-я! – протянула она. – Вы оба станете такими учеными!
Когда я получил разрешение уволиться, она заторопила меня:
– Я жду не дождусь, когда увижу славного Мираба Евстафьевича и Стэллу. Потом зайдем к Шалве Христофоровичу. А вечером будем слушать салют. Подумать только: никакого затемнения больше! Везде огни, всюду свет!
– Я позову с собой Фрола и Юру.
– Отлично, мой маленький.
– Мама, не называй меня маленьким.
– Ах да, я забыла! Ты взрослый… Никиток, да ты действительно стал совсем взрослым. – И она повернула меня лицом к зеркалу.
Передо мной стоял подтянутый, нарядный моряк в мундире, в белых перчатках, в сбитой на ухо бескозырке. Мне ведь пятнадцать лет, целых пятнадцать лет!
Мы вышли из училища. Что творилось на улицах в этот день! Мальчишки не продавали цветов – они их дарили солдатам бесплатно. Девушки были в праздничных платьях. Все окна были настежь раскрыты. По панели шел толстый грузин, прижимая к груди бурдюк с вином и держа в другой руке рог. Вот он остановился, что-то сказал офицеру, попавшемуся навстречу. Тот засмеялся и тоже остановился. Тогда толстяк наклонил бурдюк, осторожно, стараясь не расплескать, налил густого красного вина в рог и протянул офицеру.
– За победу! – сказал он.
– За победу! – повторил офицер и выпил вино.
– Мой сын, Гоги, в Берлине, – сообщил толстяк. – Он говорил сегодня по радио, понимаешь? Тбилиси – где, Берлин – где, а Гоги дошел! И он оказал, что сфотографировался со своим другом Иваном Сивцовым у рейхстага. У самого рейхстага, понимаешь? – продолжал он, подходя к высокому матросу с гвардейской ленточкой. – Очень прошу вас, выпейте за победу, – оказал гвардейцу толстяк, и матрос тоже выпил вино из рога.
– Мама, да ведь это дядя Мираб!
Я ринулся через улицу, расталкивая густую толпу. В этот день ни один человек не обиделся, все уступали дорогу, и я, запыхавшись, остановился перед Мирабом:
– А мы – к вам! Вы знаете, мама приехала!
– Где твоя мама? – спросил Мираб, отыскивая маму глазами. – Нина! – воскликнул он.
Он хотел обнять маму, но руки у него были заняты. Он, не растерявшись, сразу налил в рог вина.
– За победу, Нина! За твоего мужа-героя! За моего сына! Ты слышала, он сегодня по радио выступал из Берлина? Кто мог подумать! Ай-ай-ай, я сам не знал за ним такой прыти – до Берлина дошел! И сегодня весь Союз слушал, как простой грузин, Гоги Гурамишвили, говорил, что его минометная часть стоит у рейхстага. За победу!
– Ну, как же это – на улице пить? – засмеялась мама.
– Пей, Нина, пей, сегодня все можно! Кто сегодня дома сидит? Сегодня все на улице. Все веселятся. Все поют. Все танцуют. Все пьют. Пей, Нина!.. Идемте ко мне, – скомандовал Мираб. – Забирай всех товарищей!
Мы отправились в переулок, всегда тихий, но сегодня тоже заполненный народом, и Мираб до тех пор угощал встречных солдат и офицеров вином, пока бурдюк не опустел и не съежился, а потом Мираб целовался с знакомыми и все поздравляли его.
Тетя Маро принялась показывать новые фотографии Гоги, а Фрол, умудрившийся где-то по дороге достать букет цветов, потихоньку сунул его Стэлле, что было сразу замечено дядей Мирабом.
– Ого, моей дочери моряки уже дарят цветы! – воскликнул сапожник, пока Стэлла, пунцовая от волнения, доставала с комода вазу.
– Нет! Что… это… у тебя? – вдруг уставился Фрол на Стэллу.
– Как «что»? Медаль «За оборону Кавказа». Ты же знаешь, что наша школа над морским госпиталем шефствует. И сам видел – мы в палатах дежурим.
– По… поздравляю…
Фрол сел на тахту: у него подкосились ноги.
– Что, Фрол, не ожидал? – засмеялись мы.
Мираб заставил нас отведать бастурмы – жаркого из баранины, и вареной рыбы – цоцхали, хвалил Стэллу, гордился ее медалью и уверял нас, что мы так выросли, что, честное слово, он нас на улице принял за лейтенантов. Мы знали, что он льстит, но льстит от доброго сердца, этот добродушный толстяк с пестрыми усами. Потом мы отправились к Антонине, и Мираб с сожалением проводил нас до порога.
Стэлла шла между нами, с букетом цветов в руке и с медалью на зеленой с розовыми полосками ленточке, приколотой к платью. Она вся сияла от счастья и болтала без умолку, и прохожие оборачивались, чтобы полюбоваться ее длинными черными косами.
Тамара, увидев нас, закричала:
– Антонина, беги, погляди, кто пришел! Антонина!
– А я-то ждала тебя, Никита, ждала, каждый день ждала! – кричала Антонина, сбегая по лестнице.
Она расцеловала маму и Стэллу, схватила цветы и потащила нас наверх. Шалва Христофорович сидел у окна.
– Никита пришел? – спросил он. – Очень рад! Поздравляю с победой. Какое счастье, Никита! Дай, я тебя расцелую. С тобой Стэлла и твои друзья, да?
– И мама!
Художник встал:
– Где же Нина? Что же вы молчите? Подойдите ко мне, дайте обнять вас и поздравить с победой. Какое счастье, какое счастье! – повторял он, целуя маме руку. – Наконец, мы все можем вздохнуть свободно… Как Георгий? Как мой Серго?
– Они в Севастополе, – сказала мама. – Сегодня они так же счастливы, как все в нашей стране… И, конечно, вспоминают нас с вами.
– Я слышу, бурлит весь Тбилиси, – сказал художник. – Можно подумать – дома все пусты.
– Да, – подхватила мама, – чудеснее дня я еще не видела в жизни!
Мы пошли в комнату Антонины и увидели Хэльми.
– С победой, мальчики! – вскричала она, бросаясь навстречу. – Я так счастлива! Мы уезжаем домой.
И она принялась рассказывать о Таллине, который, как видно, очень любила. Сколько там древних башен и памятников! И одну башню зовут «Длинным Германом», а другую – «Толстою Маргаритой». И есть домик Петра в парке Кадриорг и памятник русскому броненосцу «Русалка», погибшему в море. Теперь она все это снова увидит!
– А я еду на свой крейсер, – сообщил Фрол.
– Не-ет, тебе дали крейсер? – удивилась Стэлла.
– Мне? Ты не так поняла. Командовать крейсером я, разумеется, буду, но только лет через двадцать. А пока буду матросом.
– Матро-осом? – протянула Стэлла.
– Какая ты непонятливая! Ты ведь пойдешь на практику на электровоз? А потом сама станешь строить электровозы. А я вначале стану на вахту в орудийную башню. Чтобы быть командиром, надо все знать, что делают механики, артиллеристы и штурманы. Чтобы я мог исправить любую ошибку.
– Ах, так? Ну, понятно. И когда вы вернетесь?
– Через три месяца.
– Так не скоро!.. – протянула Антонина.
– Зато мы вам столько расскажем!
Стэлла, зная, что Фрол всегда сердится, когда хвалят какую-либо другую профессию, кроме профессии моряка, заспорила с Фролом, кем лучше быть – моряком или минометчиком, как ее брат Гоги.
– Не-ет, – дразнила Стэлла Фрола, – ну как бы ты очутился на крейсере в Берлине, если там моря Нет? Другое дело, скажем, Японию брать – она ведь на островах, ее можно окружить флотом…
– Что ты понимаешь! – рассердился Фрол. – Под Берлином река, и по ней наши катера ходят!
– Ну, не сердись! – попросила Стэлла. – Разве можно в такой день сердиться? Пойдемте-ка на фуникулер. Скоро салют.
На улице уже темнело.
– Мама, ты пойдешь с нами? – спросил я.
– Нет, я посижу с Шалвой Христофоровичем… Мы отсюда… («увидим», хотела она сказать, но запнулась) услышим салют.
Дневная жара спала, и с гор тянуло приятной свежестью. В сгущавшихся сумерках выступали белые стены. Повсюду слышался смех. За стеной, в саду, мужские голоса пели веселую песню; в другом доме кто-то играл на рояле.
Нам долго пришлось стоять в очереди, прежде чем мы попали в вагончик: слишком много людей стремилось в этот день наверх, в парк культуры! Дворец наверху весь сверкал. Гирлянды разноцветных огней свешивались между колоннами. С хохотом мы втиснулись, когда подошла наша очередь, в переполненный до отказа вагончик. Фрол смешил нас, говоря, что Стэлла вылетит и покатится вниз по откосу, а ему придется ловить ее за косы.
Весь парк наверху был полон народу. Мы с трудом пробрались к ограде.
Кто-то сказал:
– Осталась одна минута.
Фрол вынул часы и, подтвердив, что осталась одна минута, захлопнул крышку. И сразу все стихло. Антонина схватила меня за рукав:
– Гляди, Никита!
– Куда?
– Да вниз же! Как там широко, глубоко… совсем море…
Вдруг все осветилось, словно при вспышке молнии, – и дальние горы, и река, и башни замка над нею. Антонина вздрогнула. Я взял ее за руку:
– Что ты? Это же весело, а не страшно!
И верно! Залп был праздничный и веселый.
Разноцветные ракеты, одна ярче другой, зеленые, синие, красные кометы стали вспыхивать то тут, то там – и на горах и в лощине, – световые контуры очертили все набережные, проспекты и вершины холмов, и над нашими головами, наверху, в парке, вспыхнули сотни ярких солнц.
Опять темнота – и снова все осветилось и загремело, и понеслись по небу хвостатые звезды, описывая дугу и затухая в Куре.
В эти мгновенья я думал: сейчас в Севастополе, на Приморском бульваре, стоят три друга – отец, Серго, Русьев – и тоже слушают залпы боевых кораблей. Ракеты вспыхивают ярко и весело, и лучи прожекторов бегают по небу, скользят по бортам и мачтам. И папа думает о нас с мамой, дядя Серго – об Антонине, а Русьев – о Фроле.
И в моем Ленинграде тоже гремят орудия, и народ на Неве любуется кораблями, Петропавловской крепостью и иллюминованными мостами и радуется, что никогда больше не бывать Ленинграду в блокаде.
И на родине Хэльми, в Таллине, салютуют корабли, возвещая: «Мы победили! Победа!», и летают ракеты над городом, похожим на сказку, говоря ему: «Ты свободен!»
А в Москве салют громче, чем везде, и прожекторов сотни, и ракет тысячи, и они самые красивые и самые яркие, потому что это – Москва.
Раздался последний залп – и угасли ракеты. Но лучи прожекторов принялись быстро бегать в темноте, словно играя в пятнашки.
А что творилось вокруг! Все кидали в воздух фуражки и шляпы, бросались на шею друг другу и целовались. Некоторые вытирали слезы. И Стэлла вдруг принялась целовать всех подряд – Антонину и Хэльми, меня и Юру. А когда дошла очередь до Фрола, он чуть не опрокинулся *за ограду. Но Стэлла все же расцеловала и его. Она готова была перецеловать всех, кто попадется ей на пути.
Заиграл оркестр, и все принялись танцевать.
Наконец, мы выбрались из толпы.
«Да, – думал я, – нам еще долго придется учиться, чтобы Антонина могла выращивать цитрусы, какие захочет, Стэлла – строить электровозы, которые поведут через горы поезда в двести вагонов, а мы с Фролом – командовать даже небольшими кораблями на флоте. Но «настоящий советский человек, если он чего-нибудь захочет, все сможет», говорит мой отец. И мы все добьемся, чего хотим – и Антонина, и Стэлла, и Юра, и я, и Фрол, – потому что растем в Советской стране, где для нас все дороги открыты. Мы придем с Фролом к морю, и оно станет для нас родным домом!»
* * *
В воскресенье мы пошли в республиканскую галерею. На белом здании висел большой транспарант: «Выставка картин народного художника Ш. Гурамишвили». Было очень много народу. Светлые залы со стеклянными потолками походили на зимний сад: повсюду раскинули листья пальмы, цвели камелии, олеандры. Сколько картин написал Шалва Христофорович! При виде суровых пейзажей Военно-Грузинской дороги вспоминался лермонтовский «Демон», а при виде горных дорог и сел, похожих на птичьи гнезда, – «Путешествие в Арзрум» Пушкина. На одних полотнах мы увидели старый, с узкими улицами, Тбилиси, на других – Тбилиси, каким он стал перед самой войной – красивый, разросшийся, с широкими набережными и белыми большими домами. На пейзажах Черноморского побережья с лазоревым морем, казалось, шевелились кружевные верхушки пальм и лакированные листья магнолий. Художник словно приглашал за собой и, показывая людей, города, горы, цветущие сады, море, говорил: «Смотри, как хороша твоя Родина, любуйся вместе со мной!»
Шалву Христофоровича мы нашли там, где было больше всего народу: он стоял, опираясь на плечо Антонины, на голову возвышаясь над всеми, весь в черном, красавец с гривой седых волос и с пушистыми седыми усами.
Мы увидели тут же Стэллу, Мираба и Хэльми. Они увлеченно рассматривали большую, во всю стену, картину: матросы, высоко подняв автоматы, выходили из морской пены – они казались живыми; в море покачивались катера.
– Гляди, Кит, гляди! – схватил меня за руку Фрол. – Совсем как на самом деле!.. Гляди, того, маленького, почти с головой накрыло: не помоги ему старшина, совсем захлестнуло бы! А мичмана ранило в руку, видишь, опустил автомат… Хорошо, что товарищ перехватил, поддержал… А всплески видишь за катерами? Это с берега по десанту бьют. Ну, ничего, их приглушат быстро… До чего все правильно схвачено!
Фрол с уважением посмотрел на Шалву Христофоровича.
– «Их не остановит ничто», – повторил он название картины. – А ведь в самую точку названо. Морскую пехоту черта с два остановишь! Поди попробуй!
Вокруг все зааплодировали.
– Это Фрол? – спросил Шалва Христофорович. – И Никита здесь? Ну как, понравилось?
– Нет, Шалва Христофорович! Не понравилось, а зацепило за самое сердце! – воскликнул Фрол с чувством.
– Значит, работа моя хороша, – удовлетворенно сказал художник. – А «Возвращение с победой» вы видели?
Последнюю картину Шалвы Христофоровича так обступил народ, что к ней почти невозможно было пробраться. Все говорили:
– Как хорошо!
– Замечательно!
– Сколько радости!
– Сама жизнь!
И самые хмурые, озабоченные лица озарялись улыбкой.
– А вы знаете, – шепотом сообщил человек, стоявший впереди нас, соседу, – что картина не вполне закончена?
– Не нахожу. По-моему, совершенно закончена.
– Художник ослеп, не завершив работы.
– И это лучшее, что он написал!
Наконец, нам удалось протиснуться поближе. Фрол воскликнул:
– Кит, гляди, капитан-лейтенант – как живой! Постой, постой, да ведь он… – Фрол осекся.
«Художник был уже слеп, когда Серго вернулся с победой, – хотел сказать Фрол. – Когда же Шалва Христофорович написал картину?»
Вот что было написано на холсте: знакомая комната под горой Давида залита солнечным светом. За высоким окном все цветет, и на ковер сыплются алые лепестки граната. Дверь широко распахнута. Серго Гурамишвили, раскрыв объятия, вбегает в комнату. Девочка со светлыми волосами, в светло-зеленом платье (в ней нетрудно узнать Антонину), бежит навстречу. Радость светится на их лицах. И так и кажется, что Антонина кричит отцу, как тогда, когда мы пришли с Серго: «Ты вернулся, вернулся! Я знала, что ты вернешься!»
Все с любопытством оборачивались на Антонину, заметив необычайное сходство с девочкой на картине.
– Дед, ты устал? – опросила Антонина смущенно. – Пойдем, сядем.
Они отошли в сторонку и сели на мягкий диванчик под пальмой. Их тотчас же окружили, люди жали Шалве Христофоровичу руку, благодарили его, восхищались его искусством.
А к картине подошла группа школьников. Молодая учительница сказала вполголоса:
– Когда мы говорим «мужество», мы говорим о мужестве, проявленном не только на фронте. Перед вами, – показала она на картину, – пример подлинного мужества. Запомните: художник творил, когда зрение ему отказывалось служить, когда его сын, которого вы видите на картине, пропадал без вести и враги находились у ворот Грузии. В эти дни над его родным городом кружились фашистские самолеты, но художник верил в победу и творил, прославляя ее…
Глава десятая«АДМИРАЛ НАХИМОВ»
Барказ отвалил от пристани. Упершись коленом в банку, я стоял среди товарищей. Урчал мотор. За кормой остались каменные белые львы, широкая лестница и колоннада под синим небом с куда-то спешащими облаками. Война была окончена, и город, который всего гон назад я видел разрушенным, возрождался, со своими бульварами, лестницами и домами, построенными из инкерманского камня. По правому борту, у пирсов, стояли эсминцы; по левому борту, посреди бухты, пришвартовавшись у бочек, вросли в светлую воду крейсера и линкор «Севастополь». Корабли поворачивались к нам: один – бортом, другой – кормой, третий – носом, как бы говоря: «Любуйтесь нами. Вот мы какие красавцы!»
Бесчисленные дымки вились в прозрачном воздухе над Северной стороной и над Корабельной, напоминая о том, что повсюду уже живут люди. Огромный теплоход разворачивался в глубине бухты, у угольной пристани. И повсюду сновали такие же барказы, как наш, катера, ялики и морские трамваи.
У меня в груди поднималось какое-то совсем особое чувство.
Когда я приезжал на «Ладогу» в Кронштадт, я был «Рындин-младший», малыш, которого можно было потрепать по щеке и подшутить над его курносым носом. На катерах я был сиротой, и меня все жалели. Прошлым летом, в Севастополе, я опять был лишь гостем отца, хотя и носил уже флотскую форму. На «Каме» я был «пассажиром» (ведь «пассажиром» на военном корабле считается не только «вольный», но и матрос, и нахимовец, и даже капитан второго и первого ранга, если он не служит на этом корабле; и когда все на корабле заняты, «пассажиру» нечего делать). И только теперь впервые я поднимусь на палубу своего корабля и отдам честь флагу, который должен беречь и любить. И только теперь я могу сказать, что и линкор, и крейсера, и эсминцы, и катера, и подводные лодки, и тральщики – это мой флот, на котором я буду служить всю жизнь.
И мне подумалось, что то же самое сейчас чувствуют и Фрол, и Иван Забегалов, и Юра, и Вова Бунчиков, и все мои товарищи, которые стоят на барказе как-то особенно подтянуто и торжественно.
Барказ огибал низкую корму линкора. Матросы на баке «Севастополя» пели. «Прощай, любимый город…» выводили они чистыми и звонкими голосами. Раньше эта песня была для меня просто песней: не я ведь уходил в море, уходили другие. Здесь, на «Нахимове», я буду петь о себе и своих товарищах: это мы пойдем завтра в море на своем корабле!
Мы обогнули линкор, и наш крейсер неожиданно вырос перед носом барказа.
«Адмирал Нахимов» ждал нас, со своими широкими палубами, Орудийными башнями, в которые мы войдем, как хозяева, чтобы стать опытнее, образованнее, чем мы были раньше.
Под защитой этих грозных орудий и голубой тяжелой брони шли на крейсере из Севастополя раненые матросы и женщины. Зенитки, всегда глядевшие в небо, били по фашистским торпедоносцам и сбивали их в море.
Вот этой широкой низкой кормой, на которой выведено золотой вязью «Адмирал Нахимов», мой корабль никогда не поворачивался к врагу.
Мотор на барказе вдруг застучал особенно часто и весело. Он как будто приветствовал стоящего на мостике широкоплечего, огромного командира крейсера, нашего дорогого Николая Николаевича Суркова.
Трап повис над водой своей последней ступенькой. На палубе залились дудки, приветливо запел горн, выстроилась команда. Наши старшие боевые товарищи готовились принять нас в свою семью.
Барказ развернулся к трапу и подтянулся к нему вплотную.
Первым ступил на трап Фрол, за ним – я. Мы поднимались все выше и выше, боясь оступиться и показаться смешными. Вот Фрол, облегченно вздохнув, ступил на верхнюю ступеньку, прикрытую веревочным матом, шагнул на палубу и, четко повернувшись к корме, отдал честь флагу своего корабля.
Я тоже замер в положении «смирно», повернув голову и приподняв подбородок, и приложил руку к ободку бескозырки.
Как раз в это время налетел ветерок. Белый с широкой голубой полосой флаг развернулся и открыл алую звезду и алые серп и молот. Под этим флагом я завтра пойду в море!
Фрол отнял руку от бескозырки и стал «смирно», глядя прямо перед собой.
К нам навстречу спешил вахтенный офицер «Адмирала Нахимова».








