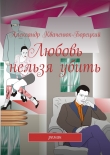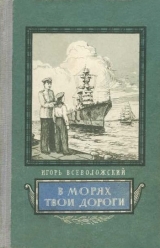
Текст книги "В морях твои дороги"
Автор книги: Игорь Всеволожский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 33 страниц)
Кутить, так кутить, у Бориса натура широкая!
Испортив себе аппетит, мы пошли на «Кронштадт».
Мы обошли портовый ковш, заполненный кранами, катерами, водолазными ботами. В доке стоял на ремонте большой серый транспорт. Заглянули вниз – голова закружилась. На бетонном дне дока копошились десятки крохотных человечков: тут и там вспыхивало белое пламя электросварки; все гудело, визжало, а на палубе корабля жизнь шла своим чередом. Команда обедала…
Наш «Кронштадт» стоял у причала в канале. Мачты его возвышались над соснами. Борис, умудрившийся принести в карманах пирожные, угощал товарищей, не попавших в город.
На другое утро «Кронштадт» покинул порт и взял курс на запад. Мы шли неподалеку от берега; за желтыми дюнами синели леса.
В свободное от вахты время собирались на баке и слушали Пылаева, Зубова, Ростислава – они и раньше бывали в этих местах. Во время войны все море было забито минами. Трудолюбивые тральщики бесстрашно расчищали фарватеры.
К полудню лес на берегу начал редеть, раздвинулся в стороны – и в бинокль можно было рассмотреть мачты, белые домики, маяк, фабричные трубы, мол. Из-за мола выбегали резвые катера. Скользили рыбачьи баркасы с треугольными парусами, Это был литовский порт Клайпеда.
* * *
К вечеру Клайпеда осталась далеко позади. Не хотелось уходить с палубы. Мы любовались закатом.
– Ну и здоров же ты стал, Кит! – похлопал меня по плечу Фрол.
– А ты погляди на себя.
– Что ж, я не жалуюсь. Мне корабельная жизнь – на пользу. Ем за двоих, сплю за троих, служу за четверых и чувствую себя бесподобно. Красота!
Да, и мне эта жизнь была по душе! Я старался побольше расспрашивать матросов. Они охотно делились своими познаниями.
Утомившись за день, я долго не мог, бывало, заснуть. Лежал и думал: вот окончу училище, поплаваю, стану командовать кораблем – небольшим пока, совсем небольшим кораблем… Вдруг командир «бе-че пять» заболеет, а тут как назло случится неполадка в машине, в котлах… сумею ли я обойтись без него? А если штурман выйдет из строя – смогу ли я сам провести корабль? Все это меня беспокоило, волновало. И даже во сне я то устранял аварию в машинах, то вел свой корабль среди рифов и минных полей…
На другой день мы прошли мимо голого, песчаного, далеко высунувшегося в море мыса.
– Вот здесь, – сказал Зубов, – сразу после войны горел транспорт «Рига». Тут было минное поле, и «Ригу» сюда занесло. Управление отказало. Постой, Ростислав, да ведь ты тогда тоже на «Риге» был! Помнишь, рассказывал?
– Да, я к отцу шел в Далекий.
– А на «Риге» были женщины, ребятишки! Из Далекого на помощь «Риге» вышли торпедные катера и тральщики. И от матросов не скрыли, что они идут на минное поле. Но они ответили: «Что мины, когда в беде наши близкие?»
– Ну, так бы каждый флотский ответил, – сказал Фрол.
А я, слушая рассказ Зубова, смотрел на зеленые, набегавшие на высокий берег волны, на тысячи белых барашков, бегущих до самого горизонта, – и мне казалось, что я вижу горящую «Ригу» и катера, спешащие ей на помощь…
В воскресенье пришли в порт Далекий. Командир порта – отец Ростислава, капитан первого ранга Крамской – моложавый, стройный, как его сын, щегольски одетый – пригласил нас ознакомиться с городом.
Три-четыре года назад здесь не было ничего, кроме мрачных развалин. Причалы был» разрушены, портовые сооружения взорваны, строения превращены в груды развалин, железнодорожные пути исковерканы; бухта, канал и ковш порта были забиты обломками потопленных кораблей. Города не существовало. Советские люди восстановили его.
Теперь Далекий стал благоустроенным портом; повсюду тянулись широкие, ровные улицы с домами под черепичными крышами. За пакгаузами были видны корабельные мачты. Гудели судоремонтные мастерские. На стапелях, прямо на стенке, стояли катера, деревянные днища которых матросы покрывали жирной, ржавого цвета краской. По шоссе бежали грузовики и легковые машины. Ребята играли в футбол возле школы. Я видел театр, матросский клуб, Дом культуры. На афишах офицерского клуба я прочел знакомые имена московских и ленинградских артистов; чемпион Союза по шахматам давал сеанс одновременной игры на двадцати пяти досках. Огромный парк с вековыми деревьями, по которому радиусами разбегались посыпанные желтым песком дорожки, простирался до самого моря. В парке шел новый фильм, его мы еще не видели в Ленинграде…
На освещенной солнцем площадке девушки танцевали с матросами.
Борис подхватил шатенку в сиреневом платье и понесся с нею в вальсе. От Бориса не отстали Бубенцов и Серегин; Илюша с трудом кружил очень полную девушку с широким добрым лицом, а Зубов встретил знакомую санитарку, Верочку, которая когда-то ухаживала за ним, раненым, в госпитале; они четыре года не виделись, им было о чем рассказать друг другу! Тут же матросы с «Кронштадта» – Крикунов, Жучков, Сидорчук и боцман Сан Палыч. Мы объединились, и нам было в этот день весело так, как может быть весело моряку, сознающему, что он вдоволь поработал в походе и заслужил отдых!
Незаметно спустился вечер. Замелькали огни на клотиках, замигал маяк, задвигались разноцветные огни в море, замерцали зеленоватые звезды в небе. Ростислав пригласил нас всех на концерт. Он принес целую пачку билетов.
На другой день наш корабль покинул Далекий.
* * *
Уже прошли Гогланд. Скоро Кронштадт. На обратном пути нас сильно качнуло.
В плавании мы здорово возмужали. И хотя мы и были еще способны повозиться вечером в кубрике, помять друг другу бока – энергия так и била ключом, – но никто из нас больше не совершил бы, скажем, побега от стрижки и не позволил бы себе какой-либо мальчишеской выходки. Я не решился бы больше на то, что, не задумываясь, натворил бы в прошлом или позапрошлом году. «А ведь мы уже взрослые», – говорили мы в Нахимовском, когда нам было всего по пятнадцати лет. Мы ошибались. Тогда мы не были ни взрослыми, ни настоящими моряками. Да и теперь мы еще только становились взрослыми. Многим мы были обязаны нашим воспитателям; лишь в плавании я понял, что Вершинин болеет за каждого, беспокоится не только о том, чтобы все хорошо учились и не нарушали дисциплины, но и о том, чтобы никто не хворал, не свалился бы с мачты. А Глухов?
– Вы помните наш прошлогодний разговор, Рындин? – опросил он меня. – Вы тоже еще сомневались, сможете ли стать секретарем комсомольской организации, боялись – не справитесь. А ведь справились? Вам всегда и во всем помогали товарищи комсомольцы; партия вас учила не принимать опрометчивых решений, относиться бережно, чутко к людям. И что же? Разве можно узнать Лузгина, Бубенцова? Коллектив перевоспитал их, и они не вернутся к своему незавидному прошлому. А Серегин? Придя к нам неподготовленным, он сказал, кажется, Фролу Живцову: «Мне помогут освоиться и стать моряком комсомольцы, товарищи с флота». Помогли; его не отличишь теперь от «старослужащих». Да и вы сами, Рындин, и ваш друг Живцов тоже выросли, возмужали… И Живцов, кажется, излечивается от своего зазнайства…
Да, я не тот, каким был, когда воображал, что, окончив Нахимовское, стал моряком! Моряком я еще настоящим не стал, но зато узнал многое из того, что полагается знать моряку, и не только из руководств и уставов, но и на собственном опыте. Меня не удивит больше ни жар котлов, ни гул машин, ни погрузка угля, ни лазанье по вантам, когда корабль раскачивается на волне… Глухов продолжал:
– Вы преодолеваете трудности, боретесь с остатками расхлябанности, несобранности, мальчишества. А это, – он улыбнулся, – я бы сказал, гораздо труднее, чем идти по гладкой дорожке. Само собой разумеется, вам обоим еще много надо над собой поработать, чтобы прийти к той цели, к которой вы, я знаю, стремитесь…
«Да, – думал я, слушая Глухова, – я стремлюсь стать, как отец, коммунистом, но я еще способен на необдуманные поступки, не разбираюсь еще как следует в людях, сужу о них сгоряча, бываю несдержанным и могу обидеть даже лучшего друга… Все эти качества неприемлемы для коммуниста…»
И, словно отвечая на мои мысли, Глухов сказал:
– Я убежден, что вы к цели придете, уверен, что ничем не запятнаете того высокого звания, которое будете носить, – и я не откажу вам в рекомендации…
– Мне и Живцову? – воскликнул я.
– Ну, разумеется, вам и Живцову. Он получил хороший урок на всю жизнь…
«И все же, – решил я, – я приду за рекомендацией только в тот день, когда смогу оказать с полной уверенностью:
– Я вас, товарищ Глухов, не подведу».
Глава третьяНА КАТЕРАХ
В отпускных билетах у меня и у Фрола было написано: «Севастополь». Отец ждал нас.
«Многие офицеры, старшины и сверхсрочнослужащие матросы помнят вас мальчиками и от всей души хотят повидать вас и проверить ваши морские качества, – писал он в ответ на мое письмо. – Я буду рад, если смогу сообщить командованию училища об отличной подготовке курсантов Рындина и Живцова».
Мы зашли на Кировский. Фрол ушел вниз в магазин – купить чего-нибудь на дорогу, и мне стало не По себе. Здесь все напоминало о маме – ее носовой платок на тумбочке в спальне, пустой флакон, пахнущий ее любимыми духами, увядший прошлогодний букет цветов в вазе…
Я заходил домой только взять что-либо из вещей. Кукушка давно уже не куковала – ее некому было заводить. Мне спокойнее жилось в училище среди товарищей, а еще лучше – на корабле.
Как мне хотелось бы заглянуть в свое будущее! В далекое? Нет, в самое близкое!
Что со мной будет, когда я окончу училище? Куда меня пошлют? На Север, на Балтику, на Тихий океан или на Черное море? Кстати, есть еще Каспий, есть Амурская флотилия и другие. Привалит ли небывалое счастье – и я попаду в свое соединение, на торпедные катара? А Фрол, мой лучший друг Фрол, будем ли мы и дальше с ним неразлучны? Не попадем ли в различные соединения, а может быть – на разные моря?
Хлопнула дверь. Это был Фрол, нагруженный колбасой, маслом, сыром и булками.
– Харч обеспечен! – сказал он совсем как тогда, во время войны, когда пришел на вокзал, взмокший, с жареной курицей подмышкой. – Собрался? Пошли на вокзал!
На Московском вокзале желающих уехать было много, а свободных мест в поезде мало. Но Фрол заявил, что «для моряка не существует препятствий». Взяв наши отпускные, он исчез, оставив меня в переполненном зале, и через полчаса явился с билетами.
– Плацкартные, Кит!
Фрол никогда не терялся даже в самой напряженной обстановке.
Через час мы пили в вагоне чай, и он занимал разговором соседей: бухгалтера в пенсне, старика-агронома и двух девушек, ехавших в Ялту. Во всех историях, рассказанных Фролом, он был, разумеется, главным героем. И девушки даже пригласили его к себе в гости.
Время шло незаметно; на третье утро в Симферополе мы простились с соседями. За окнами замелькали горы, сады. Поезд нырнул в тоннель, под потолком загорелись лампочки, нас обдало густым едким дымом. Тоннель следовал за тоннелем, потом в окно брызнул яркий солнечный свет, и открылась глубокая спокойная бухта под синим небом.
– Смотри-ка, Кит, «Севастополь» и «Красный Кавказ»! А наш «Нахимов», наверное, в плавании…
Бухта исчезла, словно захлопнулся объектив фотоаппарата, и несколько минут вагон покачивало среди белых скал; вдруг поезд резко остановился.
– Приехали!
Мы пошли в город. Повсюду лежали груды инкерманского камня. Дома стояли в лесах и в строительной пыли. Фрол повторял: «Вот он, мой Севастополь! Ты знаешь, Кит, что такое наш Севастополь?»
Еще бы не знать! Столица моряков, израненная и разрушенная – в первый раз ядрами, а во второй – авиабомбами и тяжелыми снарядами дальнобойных орудий. И дважды Севастополь возрождался, как феникс, из пепла. Перед нами был дом с мраморной доской: здесь жил когда-то Нахимов. А вот на бульваре, высоко над городом, – строители севастопольских укреплений, отлитые из бронзы. Во время войны памятник был изувечен осколками. Теперь снова вокруг него все зеленело, и на песке возились веселые ребятишки – послевоенное поколение севастопольцев.
Можно часами ходить по истертым каменным трапам с избитыми, в выбоинах, ступеньками, любоваться новыми домами среди развалин, морем, которое видишь повсюду – то зажатое откосами бухт, с кораблями у пирсов, то широкое, открытое, синее, искрящееся до самого горизонта. В Севастополе море неотделимо от города; бухты врезаются в город, перезвон склянок залетает в дома, а свист боцманских дудок слышен на улицах. Белое и синее – цвета Севастополя: белое – форменки, кители, чехлы на фуражках, лестницы, стены домов, прибрежная пена, из которой поднимается памятник погибшим кораблям, синее – море, полосы на тельняшках, воротники, тени на белых камнях, полосы на развеваемых ветром флагах…
Нет другого такого города в мире! Враги убили Нахимова, Корнилова, Истомина, убили тысячи русских солдат и матросов, но победить Севастополь они не могли. Моряки потопили свои корабли, установили корабельные пушки на бастионах и держались одиннадцать месяцев.
Через девяносто лет Севастополь снова был осажден – на этот раз ордами гитлеровцев. Но враги не смогли победить Севастополя: наши советские люди – такие, как командир Фрола Русьев, как Серго – отец Антонины, мой отец, черноморцы – матросы и офицеры, знали, что с ними – весь наш советский народ. И севастопольцы, обвязавшись гранатами, останавливали фашистские танки. Расстреляв все снаряды, взрывали свои батареи и на себя вызывали огонь, чтобы уничтожить вместе с собой нахлынувшую вражескую орду (так поступил командир легендарных зенитчиков на Северной стороне – Пьянзин). И в самые тяжелые дни защитники непобедимого города узнали: главнокомандующий ставит их, севастопольцев, в пример всей нашей армии и всему народу… Отец мне рассказывал, как они слушали этот приказ – и не мог сдержать слез…
Теперь мы видели дважды возродившийся город:
Севастополь – город славы,
Вознесенный на холмах,
В испытаньях величавый
И блистательный в боях…
Он снова становился тем Севастополем, о котором сложено столько легенд и песен!
На бульваре, над морем, все зеленело, цвело, все радовалось солнцу. Катера веселой стайкой выходили за боновые ворота, оставляя за собой разбегающуюся волну.
– Эх, жизнь! – вдыхал Фрол морской соленый воздух. – Эх, Кит, Китище, Китович, до чего хорошо!
Мы опустились по каменному трапу к пирсам Южной бухты и разыскали небольшой транспорт «Дельфин». Нас встретил молодой вахтенный офицер, разрешил пройти, и матрос повел нас к командиру соединения.
Мы доложили ему о своем прибытии. Выслушав, он расцеловал нас и предложил садиться.
Две двери, прикрытые синими бархатными портьерами, вели в спальную и в ванную. Синие шелковые занавески шевелились возле иллюминаторов. На письменном столе стоял портрет матери в ореховой рамке – ее последний портрет.
Отец расспрашивал об училище, вспоминая знакомых преподавателей, очень смешно изобразил нашего добряка-«навигатора», во время классных прокладок бурчавшего: «Тоните, тоните, идите ко дну, я вас спасать не буду», – расспросил, где мы проходили практику; потом сказал:
– Запомните: за вами будут наблюдать десятки внимательных глаз. Мы направили вас учиться и теперь хотим проверять, оправдались ли наши надежды. На месяц тебе, Кит, придется забыть, что ты – мой сын, а я – твои отец. Я здесь – строгий и требовательный командир. Ты сам понимаешь, что тебе я тем более не дам спуску. Я и себе спуску не даю, – добавил он, улыбнувшись.
– У вас здесь будет много свободного времени, – продолжал он, – вы ведь в отпуску, не на практике – и я вам советую побольше читать. История торпедных катеров, история нашего соединения, боевые подвиги катерников, наконец, мои личные записи, – показал он на книжный шкаф, – в вашем распоряжении. Вам будет предоставлена возможность походить на катерах. Андрей Филиппович, начальник штаба, подробно вас ознакомит со всем. Русьев – в море, увидите его завтра. А теперь, – сказал он, – идите, разыскивайте своих друзей, знакомьтесь, обзаводитесь новыми.
Он нажал кнопку. Вошел вестовой.
– Проводите товарищей курсантов в сорок третью каюту, – приказал отец. – Обедаете сегодня у меня, – сказал он нам.
Когда матрос и Фрол вышли, отец задержал меня:
– Ты сходил на кладбище?
– Да, перед самым отъездом. Я отнес цветы.
– Хорошо сделал.
Он кинул быстрый взгляд на портрет.
– Ну, иди.
«Дельфин» был не чета тем кораблям, которые служили базой соединения во время войны. Сначала базой был отживший век пароход, после, в Севастополе, – небольшой старый транспорт с каютками, разделенными дощатыми переборками.
Мы прошли по коридору, застланному узорчатым линолеумом, мимо поблескивающих медью и лакированным светлым деревом дверей, спустились по изящному трапу, попали в другой, ярко освещенный коридор. Матрос отпер каюту. Две никелированные койки, одна над другой, письменный стол с настольной лампой, умывальник, кожаный диван, шкафы для белья и платья, иллюминатор, прикрытый васильковой репсовой шторкой. Переборки, видимо, были совсем недавно выкрашены первосортной масляной краской.
– Шикарно, а? – спросил Фрол.
– Замечательно!
Это была настоящая офицерская каюта, удобная и уютная. Я с удовольствием сел в кожаное кресло, упругие пружины которого мягко подались.
– Пойдем, доложимся начальнику штаба, а после разыщем Фокия Павловича, – предложил Фрол.
Мы заперли наше жилище на ключ и поднялись по трапу. Разыскав каюту начальника штаба, попросили разрешения войти.
– Очень рад вас видеть, – сказал Андрей Филиппович.
Он постарел, морщинки разбегались от глаз к вискам и от уголков губ на чисто выбритые щеки. В густых волосах появилась серебряная прядь.
– До чего же быстро бежит время! – воскликнул он. – Давно ли вы были мальчуганами? Мне кажется, это было вчера… – Он покачал головой. Я вспомнил слова Бату: «К закату жизни годы несутся непозволительно быстро и медленно текут в юности, когда человек поднимается в гору».
Нам с Фролом пребывание на старом, замаскированном ветвями пароходе казалось таким отдаленным временем, а наше производство в офицеры – таким далеким, сияющим будущим!
– Я предоставлю вам все возможности для проверки своих морских качеств, – пообещал Андрей Филиппович. – Словом, сделаю все, чтобы вы не теряли времени даром.
Поблагодарив начальника штаба, мы пошли разыскивать боцмана. Матросы, встречавшиеся нам на пирсе, были молодые и незнакомые. Но вот с одного из катеров соскочил здоровяк с шевронами на рукаве. Фрол окликнул его:
– Фокий Павлович!
– Фролушка! Да ты ли это, чертяка?
Боцман обнял Фрола и троекратно расцеловал.
– Рындин? Тоже молодец вырос!
Он облапил меня с нежностью большого медведя – у меня затрещали кости.
От Фокия Павловича пахло морем, кораблем, а его большие заскорузлые руки были в мазуте.
– Прошу ко мне на катерок в гости.
«Катерок» Фокия Павловича, конечно, не поразил нас. Но мы сочли долгом его расхвалить, и боцман расчувствовался. Катер содержался в образцовом порядке: даже самый строгий начальник ни к чему не мог бы придраться. Все сверкало, блестело, но Фокий Павлович то и дело проводил пальцем по борту или по рубке и внимательно рассматривал палец: нет ли пылинки?
На катере Фокия Павловича, как на всех «тэ-ка», можно было найти все, что бывает на настоящем военном корабле: крошечный кубрик с матросскими койками, с откидным столом и с зеркальцем на переборке, игрушечную офицерскую каюту с мягким диваном и миниатюрным письменным столиком; крохотную радиорубку; в моторном отсеке – моторы, трубы, радиаторы, ящики аккумуляторных батарей, баллоны со сжатым воздухом.
Мы поднялись в командирскую рубку, потом вышли на мостик.
– Катерок флагманский, изволили заметить? – с гордостью спросил Фокий Павлович. – Сам командир соединения со мной на нем ходит. А ты помнишь, Фролушка, как меня да Виталия Дмитриевича поранило, а ты…
Друзья погрузились в воспоминания. Перебивая друг друга, хлопая один другого по плечу и глядя заблестевшими глазами, они сыпали фамилиями и именами матросов и офицеров: «Борисов, – пишет, – машинно-тракторной станции директор»; «Григорьев у себя в колхозе стал Героем Социалистического Труда»; «а Сашко и сейчас тут, ты его повидай, Фролушка, он часто тебя вспоминает». «Цибулькин женился, двое ребят – мальчуган и девчонка. Живут на Корабельной – пойдем к ним в гости»; «Корнев в училище пошел – в офицеры шагает».
Когда всех перебрали, всех вспомнили, Фокий Павлович принялся рассказывать, как воевал под Констанцей, рассказывал красочно, образно, в лицах и не особенно стеснялся в выражениях, когда дело дошло до фашистов.
– Ты уж, Фролушка, со мной иди в море. Не подведу, – сказал в заключение боцман.
* * *
Обед прошел непринужденно и весело. Кроме нас, у отца были Андрей Филиппович и замполит Щукин, совсем молодой на вид капитан второго ранга, с русыми волосами, разделенными пробором, и мягкими усиками, похожими на пух.
После обеда отец достал пачку книг и тетрадей.
Забравшись в каюту, мы до самого ужина читали записи в толстой тетради.
«Если в наше время, – писал отец, – даже никому не известный молодой лейтенант предложит проект нового вида вооружения, командование немедленно заинтересуется им и сделает все, чтобы молодой изобретатель мог осуществить свое изобретение. Проект двадцативосьмилетнего лейтенанта Макарова поражал своей дерзкой, расчетливой смелостью: в 1876 году он предлагал вооружить малые катера взрывающимися при ударе в борт корабля шестовыми минами. Он предусмотрел и переоборудование одного из быстроходных кораблей под базу минных катеров. Таким образом, катер, потопивший вражеский корабль, мог быть быстро поднят на борт базы. Высокопоставленные чиновники Главного адмиралтейства сочли проект лейтенанта безрассудным, хотя отпускали большие деньги на действительно безрассудные выдумки.
Тогда Макаров подобрал добровольцев, согласившихся идти на риск. Не спрашивая разрешения начальства, он переоборудовал катер, к удивлению этого самого начальства атаковал турецкий броненосец и потопил его. Макарова наградили, но все же продолжали относиться к нему с недоверием. Он с трудом упросил отдать ему две недавно приобретенные самодвижущиеся мины, вооружил ими катер, – и еще один вражеский корабль пошел на дно. Это был первый военный корабль, потопленный торпедой, будущим грозным оружием войны на море.
За год до того, как Уайтхед объявил об изобретении им торпеды, кронштадтец Александровский, перед тем изобревший подводную лодку, представил в морское министерство проект самодвижущейся мины. Она была русским изобретением, а чиновники платили миллионы, покупая мины Уайтхеда.
В 1914 году минно-машинный кондуктор Лузгин приспособил торпеды для боевого применения с быстроходного катера и просил разрешения начальства атаковать немецкий корабль. Но ему было запрещено «заниматься не своим делом».
Только в советском Военно-Морском Флоте вплотную занялись вопросами создания «москитного флота»…
Отец в своих записках прославлял торпедные катера; отмечая, что служба на них тяжела, требует отличного здоровья, крепких нервов, выносливости, он утверждал, что эта служба приучает к хладнокровию, умению принять молниеносное, четкое решение.
«Скорость, наибольшая скорость и плавание в любых условиях, – вот чего я буду добиваться всю свою жизнь и заставлю своих подчиненных добиваться того же», – так заканчивал отец записи.
Пришел с моря Русьев и принялся экзаменовать Фрола. Фрол еле успевал отвечать. Виталий Дмитриевич остался доволен приемным сыном:
– Я вижу, ты не зря провел год в училище. А ну-ка, пойдем на катер!
Экзамен продолжался до вечера. На другой день Фрол пошел с Русьевым в море. Вернулись они довольные друг другом и с аппетитом принялись уничтожать оставленный им ужин.
– А ведь правильно я поступил, прогнав тебя с катеров в Нахимовское? – удовлетворенно сказал Виталий Дмитриевич, – ты отбрыкивался и упирался, хотел воевать. А теперь, небось, ты меня понял?
– Понял, Виталий Дмитриевич.
– Ешь мою порцию компота!
От сладкого Фрол никогда не отказывался.
* * *
Фрол вспоминал: «Вот здесь было когда-то кино, а здесь стоял большой белый дом и на подоконнике сидел белый шпиц; тут тоже был большой дом, дверь на балкон всегда была распахнута настежь, и в комнатах кто-то играл на рояле. А здесь был театр имени Луначарского, напротив – Северная гостиница».
Решили побывать на Корабельной. Спустились на Графскую пристань.
– Она две осады выстояла, – сказал Фрол. Да, она выстояла две осады!
Переправившись на ялике через бухту, мы поднялись по каменному трапу и пошли по узкой тропе под высокой стеной – за стеной был госпиталь, в котором в войну лежал мой отец. Сходили на Малахов курган, где Корнилов сказал русским матросам: «Умрем, но не отдадим Севастополь!» Здесь был смертельно ранен Нахимов, здесь был Корнилов убит… Солдаты и матросы держались здесь до последнего, и их подвиг повторили советские моряки… Они, уходя, поклялись вернуться. И в мае сорок четвертого года подняли над Малаховым курганом алое знамя победы…
На другой день мы побывали на Северной, там, где стояла когда-то легендарная зенитная батарея Пьянзина. Дошли до Константиновского равелина.
Севастопольцы – наши отцы и старшие братья – стояли здесь насмерть, умирали вот на этих самых камнях, но не помышляли о сдаче врагу. Об этом напоминал небольшой обелиск. Рядом лежала плита с изображенным на ней якорем – памятник матросам-героям.
– Ты знаешь, как это было, Кит? – спросил Фрол. – На Северной стороне в наших руках остался один равелин. И все же моряки отбивали атаки врага. Тогда гитлеровцы подтянули артиллерию, танки, принялись бомбить осажденных с воздуха. Комиссар сказал защитникам равелина: «Товарищ Сталин поставил севастопольцев в пример всей Красной Армии. Так будем драться по-севастопольски!» И они назвали свой равелин «маленьким Севастополем». Только на четвертую ночь, по приказу командования, они бросились в воду и переправились вплавь через бухту…
Командир корабля покидает корабль последним. Морская крепость – тот же корабль. Комиссар Кулиннч оставался в пустом, разрушенном равелине и отбивался до последнего патрона…
– Какое надо сердце иметь! – сказал Фрол. – Флотское…
– Большевистское, Фрол…
– Ну, я про то и говорю!
Переправившись на катере в город, мы встретили на пристани чернобородого моряка в белом кителе.
– Поприкашвили! – шепнул мне Фрол.
Это был знаменитый подводник, отец Илюши. Навряд ли он узнал нас: прошло четыре года с тех пор, как мы, нахимовцы, побывали в гостях на его легендарной «щуке». Но он остановил нас, стал расспрашивать об училище и о сыне и вспомнил о нашем «подводном крещении».
– Я еду на днях в Зестафони, – сообщил он на прощанье. – Там встречусь с Илюшей. А вы на катерах проводите отпуск? У Рындина? Ну, желаю успехов.
Фрол повел меня на ту улицу, где он жил до войны; теперь на месте разбитого бомбами жилища родителей Фрола стоял новый дом. Возвращаясь в Южную бухту, мы встретили Юру.
– Юрка! Давно приехал?
– А я вас ищу! Ходил на «Дельфин». Где вас носит, друзья? Идемте к отцу!
Капитан первого ранга Девяткин, узнав, что я рисую, показал мне свою коллекцию морских картин – среди них были две или три хорошие копии с Айвазовского.
Мы вышли на веранду; отсюда хорошо была видна бухта.
– Какая красота! – сказал Фрол, глядя на корабли. – Даже жаль, что придется с осени засесть в классы!
– Зима пройдет, поедем на практику…
– А там – третий курс и четвертый. А потом – выпуск и флот!
– Да, Фролушка, флот!
– Как бы нам, Кит, и на флоте не расставаться?
– Постараемся.
– Будем, как отец с Русьевым, служить в одном соединении!
Мы до позднего вечера просидели с Девяткиными; не хотелось от них уходить. Мы пели «Варяга», читали стихи…
Когда возвращались на корабль, было темно; перемещались огоньки в бухте, с Матросского бульвара слышалась музыка. Мы спустились по трапу к причалам, перепрыгивая через протянутые повсюду тросы. Тихо плескалась вода, и с того берега бухты доносился никогда не стихающий гул морского завода.
Наконец, мы увидели ярко освещенный «Дельфин», взошли по трапу на палубу, доложили о прибытии и спустились в свою каюту.
* * *
Под руководством Фокия Павловича я старался выполнять всю черную работу, и Фокий Павлович удовлетворенно покрякивал: он терпеть не мог белоручек.
На первом небольшом выходе боцман стал приучать меня к штурвалу. Какое огромное удовлетворение сознавать, что умная, стремительная морская птица, высоко задравшая нос на ходу и оставляющая за собой пенящийся бурун, послушно повинуется малейшему твоему движению!
Фокий Павлович все время был начеку. Он знал, что малейшая неосторожность неопытного рулевого – и может случиться авария.
И все же боцман заменил меня у штурвала лишь тогда, когда мы, возвращаясь, входили малым ходом в бухту, забитую кораблями и снующими во всех направлениях яликами и морскими трамваями.
Меня растрясло, я с трудом стоял на ногах с непривычки, но Фокий Павлович сказал, что я управляю катером не хуже Фрола. Я принял это, как высшую похвалу.
* * *
«У вас здесь будет много свободного времени, – сказал отец. – Советую побольше читать». Мы читали запоем, в книгах не было недостатка. Романы о Нахимове, Ушакове, сочинения Головнина, гончаровский «Фрегат Паллада»… С увлечением читали стихи флотских поэтов – Алымова, Лебедева. «Он меня за сердце зацепил, – говорил Фрол о Лебедеве. – И учился он в нашем училище. Теперь я не хуже Юрки могу наизусть…» И он начинал читать стихи Лебедева.
Фрол за последнее время стал одобрять мое увлечение живописью – после того, как узнал, что Верещагин участвовал в сражениях и погиб на «Петропавловске» со своим другом – адмиралом Макаровым, а Нахимов ценил Айвазовского, отважившегося приехать в Севастополь в дни его обороны.
– Расти, расти, Никита, быть тебе Айвазовским, – говорил мой друг покровительственно.
По вечерам мы заходили с разрешения начальника штаба Андрея Филипповича в пустовавшую кают-компанию. Свет был притушен, Андрей Филиппович играл, будто не замечая нас, для себя – Чайковского, Грига, Рахманинова, Шопена, Сибелиуса – он музыку очень любил и играл хорошо. Фрол забирался в угол дивана, притихал, становился задумчивым, молчаливым – и только когда Андрей Филиппович закрывал, наконец, крышку инструмента, говорил: «Нда-а…» или спрашивал: «А вы сами тоже сочиняете музыку?», на что Андрей Филиппович отвечал весело: «Для этого, друг, надо быть Римским-Корсаковым. Это не каждому дано. Но каждому дано – любить музыку, понимать ее…»
– Это он здорово сказал, – заметил Фрол, когда мы вернулись в каюту. – Каждому дано – любить музыку…
* * *
Два катера шли в поход. Фрол пошел с лейтенантом Челышевым, а я – со своим старым знакомым, капитан-лейтенантом Лаптевым. Отец пожелал нам счастливого плавания.