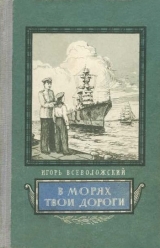
Текст книги "В морях твои дороги"
Автор книги: Игорь Всеволожский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 33 страниц)
СУДЬБА ТОВАРИЩА
Решалась судьба Бубенцова и Лузгина. За столом, покрытым зеленым сукном, сидели Вершинин, Глухов, преподаватели курса и командиры рот.
Люди, которые защищали Родину, когда Бубенцов и Лузгин еще в школе учились, смотрели теперь на них с укоризной.
– Скажите, курсант, вы были до училища радиотехником? – спросил, вызвав к столу Бубенцова, Глухов.
– Так точно.
– Окончили техникум?
– Да.
– И окончили на «хорошо», иначе бы вас не выпустили специалистом?
– На «хорошо».
– Вот видите. А сколько вам лет?
– Двадцать.
– Двадцать лет, – повторил Глухов, и этим было сказано все: вот дожил ты, Бубенцов, до двадцати лет, а что из тебя получилось?
– Я полагаю, вы знаете, почему вас вызвали на совет?
– Так точно, знаю.
– Вы хотели на флоте служить?
– Да, хотел.
– Хотели… И в училище шли с охотой?
– С большой охотой.
– Так как же так, Бубенцов, получилось, что вы все время получаете двойки?
– Очевидно, я неспособный…
– Неправда. Неспособные не оканчивают техникум на «хорошо». Другим труднее, чем вам, но все же они не имеют двоек. Обладая вашей специальностью, вы можете совершенствоваться. Вы слышали, разумеется, о радиолокации? Перед вами на флоте открывается огромное поле деятельности… Комсомольская организация вас предупреждала?
– Предупреждала, товарищ капитан второго ранга.
– И на вас это не произвело впечатления? Может быть, какие-либо внешние причины мешают учиться? Ну, скажите, Бубенцов, откровенно: знакомства или еще что-нибудь…
Бубенцов отмолчался.
– Вы получаете от матери деньги? – спросил его «навигатор», капитан первого ранга Быков. – Она библиотекарь? Где?
– В Сумах.
– Сколько она получает?
– Немного…
– А вы? Сколько вы получаете?
– Вы ведь знаете…
– Да, я знаю. Когда мы учились – мое поколение, мы получали значительно меньше денег, чем получаете вы. И у родителей помощи не просили; мы всегда считали, что всем обеспечены и на мелкие расходы нам нашего содержания хватит вполне, а вы, Бубенцов, получаете намного больше того, что мы получали, и еще ждете, чтобы вам посылала мать, которая сама вправе ждать от вас помощи. Честно это?
Бубенцов ничего не ответил.
– Ну, как вы думаете, Бубенцов, честно это или нет? – Всегда румяное морщинистое лицо «навигатора» от негодования побледнело.
И на этот раз не дождались от Бубенцова ответа. Тогда Глухов показал ему найденную мною записку.
– Вы потеряли?
– Да, – побагровел до кончиков ушей Бубенцов.
– Что же вы натворили? Вам угрожают, что расскажут о чем-то начальству…
Бубенцов потупился.
– Бубенцов, люди, искренне к вам расположенные, хотят выяснить, что вам мешает учиться. Очевидно, все же существуют какие-то внешние причины. В последний раз, когда Лузгин был в самовольной отлучке, вы пытались покрыть его. К счастью, у нас в училище укрывательство и круговая порука давно изжиты. Вас разоблачили ваши же товарищи. Где был Лузгин во время поверки? Куда вы звонили ему по телефону? Не хотите отвечать? Ну, так вот… Знаете что, Бубенцов? Комсомольская организация класса, использовав все средства убеждения, написала письмо вашей матери.
Бубенцов, вздрогнув, изумленно уставился на Глухова.
– На днях, – продолжал Глухов, – был получен ответ.
– Зачитайте, Рындин, – Глухов протянул мне письмо.
Бубенцов узнал почерк матери. У него начали дрожать губы. Вытаращив глаза, он смотрел мне в рот. Я прочел:
– «Дорогие мои… Я получила ваше откровенное комсомольское письмо… Сижу я и думаю: какова будет дальнейшая судьба моего сына? Думает ли Аркадий о своем достоинстве советского юноши? Всего семь-восемь месяцев тому назад он мечтал о военно-морском училище. У него достаточно ума и знаний, чтобы хорошо учиться, но не хватает, видимо, одного: силы воли, чтобы отбросить все лишнее, мешающее занятиям. Как можно нарушать воинскую дисциплину? Думает ли мой сын, который так близок мне, но возбуждает сейчас во мне только чувство негодования, о том, что он делает? Отец Аркадия погиб во время Отечественной войны. Я требую от своего сына, как мать, как человек, отдавший все, чтобы вырастить его, но, к сожалению, не воспитавший его как следует, чтобы он подтянулся…
И через ваше посредство я обращаюсь к сыну и говорю: «Аркадий, опомнись!»
До чего докатился ты, Бубенцов! «Письмо мое прошу сделать гласным».
– Вы можете сесть и подумать, – сказал ему Глухов.
Теперь настала очередь Лузгина.
– Лузгин! – вызвал его Вершинин.
Платон подошел к столу.
– Ваш отец прислал нам написанное вами письмо. Он нашел его дома, у вас на столе. Вот оно. «Петрусь! Наконец, получил финансы. Приду к тебе. Жди. Настроение поганое – надо напиться». Напиться! Эх, Лузгин, Лузгин! Кто такой этот Петрусь?
Платон глупо заулыбался.
– По-моему, в том, что я вам сказал, ничего нет смешного. Всех нас интересует, с кем курсант дружит за стенами училища. Кто ваш друг?
– Один техник.
– Техник?
– Радиотехник.
– Ваш старый знакомый?
– Нет.
– Где же вы с ним познакомились?
– В трамвае.
– Весьма подходящее для курсанта знакомство: в трамвае. Вы выполнили свое обещание: напились и опоздали в училище с берега. Вы были вместе с Бубенцовым?
– Да. С Бубенцовым.
– И у этого же Петруся вы были и в другой раз, когда вас не оказалось на вечерней поверке?
– Нет… то есть так точно, у этого…
– Скажите, вы задумывались когда-либо над тем, что, плохо занимаясь, пьянствуя, опаздывая с берега и совершая самовольные отлучки, вы являетесь для училища балластом? Вы отлично знаете, как много достойных юношей стремится к морской службе. Училище может удовлетворить лишь третью часть заявлений. Вас приняли потому, что вы нахимовец, и надеялись, что вы будете для других примером. Хороший пример, нечего сказать! Вы пренебрегаете традициями училища, предпочитаете общество какого-то подозрительного Петруся коллективу ваших товарищей. Вы занимаете чужое место, Лузгин! На вашем месте сидел бы не нерадивый и распущенный человек, а курсант, стремящийся быть настоящим моряком. Ваши товарищи-комсомольцы с вами беседовали?
– Да.
– И не раз?
– Не раз…
– Вы какие-нибудь выводы сделали?
Платон только плечами пожал, вот уж поистине «маячная башня»!
Тогда взял слово капитан первого ранга Рукавишников:
– Нет среди нас человека, который не уважал бы Вадима Платоновича Лузгина. Флот им гордится за его подвиги. Мы никому не позволим позорить его доброе имя. Ваш отец воевал за то, чтобы вы не стали ничьим рабом – ни немецким, ни американским. Понимаете ли вы это?
Ну, где уж ему понять! Он встрепенулся только тогда, когда Вершинин вдруг приказал:
– Пригласите капитана первого ранга Лузгина.
Тут Платон стремительно подался к столу: не надо, не зовите отца! Но уже было поздно. Обе половинки тяжелой двери широко распахнулись. Медленно, волоча больную ногу, опираясь на палку, в зал вошел Вадим Платонович. И все, как один, офицеры встали, отдавая дань уважения старшему товарищу, израненному в боях.
Кто-то подставил Вадиму Платоновичу стул. Он не захотел сесть. Он стал лицом к лицу с сыном и негромко, но четко сказал:
– Доигрался?
Платон отвел глаза от отца.
– Нет, ты смотри мне в глаза. Смотри в глаза отцу, при всех смотри, слышишь? Дед твой был моряком и жизнь отдал флоту. Я тоже всю жизнь служил верно флоту… Подними, Платон, голову, смотри мне в глаза! Ты каждый день видишь мемориальные доски с именами курсантов, погибших со славой, отдавших за Родину жизнь. На какую же доску поместить твое имя, имя бездельника и лоботряса? Хорош же ты, нечего сказать! Даже коллектив от тебя отказывается. Понимаешь ты это? Ты отщепенец; ты, на которого народ тратит деньги, чтобы сделать тебя моряком!.. Вот, Платон, перед лицом моих товарищей офицеров, перед лицом моих младших товарищей, которых я с радостью бы назвал сыновьями, я тебе говорю: остается последняя возможность опомниться. Очень тоненькая ниточка связывает тебя с коллективом, иначе тебя не позвали бы сюда, на совет, а просто показали бы на дверь. Порвешь эту последнюю ниточку – ты мне не сын, а я тебе – не отец.
Вадим Платонович отвел чью-то руку, пытавшуюся его поддержать и обратился к совету:
– Я прошу сделать самые суровые выводы. И не прошу, требую: если вы собираетесь щадить его ради меня – не щадите!
Он отвернулся от сына и, стуча о паркет своей палкой, медленно пошел к выходу.
– Отец! – сорвался с места Платон. Но моряк только поднял руку – и Платон не решился следовать за отцом.
Все молча смотрели вслед Вадиму Платоновичу; Быков прикрыл лоб рукой, Вершинин достал платок, высморкался, Глухов что-то прошептал ему на ухо. Молодые офицеры, как видно, были потрясены происшедшим.
И тут вошел начальник училища. Он встретился в дверях с Вадимом Платоновичем и крепко пожал ему руку.
Когда адмирал сел за стол рядом с Глуховым, тот показал письмо, полученное от матери Бубенцова. Вершинин что-то у адмирала спросил. Адмирал кивнул головой. И Вершинин тогда объявил:
– Слово имеет курсант Рындин.
Да, я просил, чтобы мне дали слово… Я хотел сказать многое… Волнуясь, спотыкаясь чуть ли не на каждом слове, я говорил то, что накопилось у меня на сердце…
– Отец Лузгина жив, жива и мать Бубенцова… Пусть Лузгин и Бубенцов мне ответят: почему они так мало ценят родителей? У меня матери нет… они это знают. Когда она умерла, я глядел ей в лицо и задавал себе вопрос за вопросом: а не ссорился ли я с ней по-пустому, не было ли между нами недоразумений, не допускал ли я в разговоре с ней резкостей? Ведь она столько сил и здоровья затратила на меня!.. У нее была одна цель: вырастить сына, сделать его моряком; такова же цель в жизни у Вадима Платоновича Лузгина и у матери Бубенцова! А вы… вы не любите и не уважаете своих родителей! И не осознаете это сейчас, а лишь тогда осознаете, когда их не будет. И как захочется вам тогда извиниться, выпросить прошения за все то горе, которое вы им причинили! Захочется, но будет поздно…
Бубенцов всхлипнул. Адмирал, очень внимательно меня слушавший, склонив голову набок, вдруг окликнул его:
– Бубенцов!
Аркадий подошел к адмиралу.
– Слышал, что говорил твой товарищ?
– Слышал.
– А ты не реви. Слезами делу не поможешь. Коли осознал, что перед матерью своей виноват, – радуйся, что вовремя осознал. А теперь выкладывай, что с тобой приключилось. Ну? Одиночкой хочешь жить? Оступился, решил сам ко дну пойти? Врешь, не выйдет! Глаза есть? Погляди вокруг, сколько у тебя здесь товарищей – вытянут! Ну, винись, мы послушаем…
Адмирал часто называл нас на «ты». Это «ты» было тем «ты», с которым обращаются отцы к сыновьям. Недаром одному из моих товарищей, потерявшему отца, начальник сказал: «Теперь я – твой отец».
И – странное дело… адмирал говорил резким голосом, брови его были сердито насуплены, он стучал пальцами и кулаком по столу, и, казалось, все это должно было нагнать на Бубенцова страх, но Бубенцов, очевидно, сердцем почувствовал, что адмирал проявил отеческое участие к его судьбе… И Бубенцов заговорил, торопясь, захлебываясь, стараясь поскорее высказаться…
– Товарищ адмирал! Все думал я, что сам выпутаюсь. Да не вышло… Вот как все дело было… Этот Петрусь учился со мной в Харькове в техникуме…
– Постой, постой, кто такой Петрусь?
Путаясь, сбиваясь и несколько раз начиная сначала, Бубенцов изложил всю свою историю. В свое время он и так называемый Петрусь окончили техникум и приехали в Ленинград. Здесь их пути разошлись – Бубенцов поступил в училище, а Петрусь исчез с его горизонта. И вот однажды в трамвае Аркадий с Платоном встретили Петруся. Облобызав друга, Петрусь повел их к себе. Он ведал скупкой радиоаппаратуры Угостив друзей, он уговорил Аркадия приходить к нему в лавочку.
Бубенцов ремонтировал приемники, а Петрусь продавал их втридорога. Скупщик сначала расплачивался, а потом не только платать перестал за работу, но угрожал сообщить начальству, что курсант, будущий офицер, занимается «халтурой». Бубенцов был не храброго десятка, и прохвост этим пользовался: заставлял на себя даром работать. Бубенцов пытался вернуть полученные им деньги, для того и брал у всех в долг, но кончалось тем, что все пропивалось, и Бубенцов оставался в кабале у скупщика.
Остальное ясно – понятна и самовольная отлучка Платона: «Петрусю» срочно понадобилась помощь Аркадия. Бубенцов сам пойти не рискнул и послал Платона с запиской, в которой умолял подождать до субботы.
Выложив все, Бубенцов продолжал:
– И Лузгина за собой таскал… и в этом я виноват… Товарищ адмирал… – взмолился он. – Об одном я прошу… Если я недостоин оставаться в училище, не сообщайте ничего матери. Старуха она у меня…
Он опустил голову…
– Если же найдете возможным… поверить мне… Я обещаю: исправлюсь…
– Трудно поверить, – сказал один из молодых командиров рот.
Адмирал на него покосился сердито:
– Поверить трудно? А я вот – верю. Запутался Бубенцов основательно, да вовремя помощь пришла. Как вы думаете, товарищи? – обратился он к членам совета. Получив молчаливое одобрение, он спросил Бубенцова: – Легче стало, как повинился? Ну, иди, Бубенцов, и помни: тебе поверили; не подведи. Я полагаю, товарищи, – сказал он совету, – после такой встряски – исправится. Лузгин! – вызвал он.
Платон вышел из своего угла.
– Смотрю я на тебя и думаю, – резко сказал адмирал, – имеешь ли ты право Лузгиным называться? Фамилия почетная, гордая, ее надо носить, высоко подняв голову. Что же нам с тобой делать?
Он пошептался с членами совета и снова обратился к Платону:
– Подумал ли ты об отце, о том, что у него сердце больное? И слышал ли ты, как во время войны, когда убивали старшего брата, младший тотчас же становился на его место в строю? А ты? Подумал ли ты – стать на место старшего брата? Он прожил жизнь и погиб, как настоящий балтиец. А ты? На тебя государство тратило деньги в Нахимовском, затрачивает средства и здесь, надеется, что ты станешь морским офицером… В совете мнения разделились. Некоторые говорят, что тебя надо навсегда списать из училища… Да вот Глухов за тебя заступился, благодари его, обещает, что сделает из тебя человека…
– Обещаю… я обещаю, – словно отрывая от сердца каждое слово, выдохнул Платон, – что заслужу…
– А ты выражайся яснее, – сказал адмирал так же сурово, но я почувствовал, что его тронуло раскаяние. – Заслужу, заслужу! Нужно, чтобы в тебе с сегодняшнего дня все перевернулось. Человеком нужно стать, Лузган, с большой буквы нужно стать Человеком. Почаще присматривайся к отцу и вспоминай старшего брата, далеко тебе не ходить за примером. Я думаю, – обратился адмирал к совету, – оставим его в училище, раз он обещает исправиться. Ты, Лузгин, понимаешь, что дальше тебе жить, как ты жил до сих пор, нельзя?
– Понимаю! – воскликнул Лузгин.
– То-то, что понимаю. Иди – и помни: тебе раз поверили, в другой раз – не поверят…
– Курсанты Бубенцов и Лузгин, вы свободны, – объявил Вершинин.
Стуча каблуками, они поспешили к выходу.
После совета Глухов отвел меня в сторону:
– Теперь дело за вами, за комсомолом, Рындин. Ободрите их, подойдите к ним по-товарищески, помогите встать на ноги, стать равноправными членами коллектива. Вы меня понимаете?
Я отлично понял Глухова.
* * *
Вечером, когда Платон с Аркадием сидели пригорюнившись в кубрике, я вспомнил, как Фрол точно так же лежал на койке в Нахимовском, головой зарывшись в подушку. Он совершил тяжелый проступок.
Быть может, и Фрол вспомнил тот день. Он первый подошел к неудачникам.
– Ну, ну, не распускайтесь, – сказал он с грубоватой нежностью. – Все обойдется. Ты читал, Бубенцов, «Честь смолоду»?
– Нет, не читал.
– А следует тебе почитать. Там генерал один есть, Шувалов его фамилия. Хорошие он слова говорит молодому бойцу Лагунову: «Не тот, говорит, настоящий боец, кто проявляет мужество при победных боях, но тот, кто находит в себе мужество в период временных неудач, кто не теряет голову и не дрейфит при неудачах, кто не ударяется в панику и не впадает в отчаяние в трудную минуту». Правильные слова!
– А я и не знал, что ты форменный специалист в радиоделах, – продолжал Фрол. – Вот штука-то, а к нам мичман все ходит, ищет, кто бы ему помог радиофицировать маяки в кабинете. Вот бы тебе и объединиться с тем мичманом… А ты все же, Аркадий, чудак-человек. Ну что бы тебе давно рассказать про твоего прохвоста? Уж мы бы его скрутили в бараний рог, будь спокоен. Ну, ничего, подтягивайся, все обойдется.
Подходили со словами утешения и другие. До сегодняшнего дня поведение Бубенцова казалось многим непонятным. Теперь все выяснилось. На горьком опыте товарища класс получил урок. Мы воочию убедились, как скверно быть слабохарактерным и не иметь мужества прийти и сказать коллективу: да, совершил ошибку, выпутаться сам не могу, выручайте. Ведь выручили бы!
– А что, Кит, – спросил меня как-то Борис, – неужели и со мной такое могло получиться?
– Что?
– Ну, что отца бы, скажем, вызвали на совет?
– Конечно, могло получиться.
– Ну, я не знаю тогда, что бы было.
– А что?
– С батиным-то характером? Ох, ты его не знаешь! Я, говорит, Алехин и ты Алехин, замараешь фамилию – три шкуры спущу. И спустит, не постесняется. Самолюбив очень у меня батя.
– Значит ты, Боренька, близок был к тому, чтобы с тебя шкуру содрали!
Борис тяжело вздохнул.
– Берись-ка, Борис, за работу, не надейся ты больше на свои так называемые способности. Штурмовщиной ничего не возьмешь.
– Это я чувствую.
– Хорошо, что почувствовал.
Я лег ничком на койку и не заметил, как подошел Фрол.
– Я с тобой поговорить, Кит, хотел, – сказал он, присев на край койки. – Ты мне в тот день глаза раскрыл. У меня все тут, – стукнул он себя по груди, – перевернулось. Ты Мыльникову говорил о том, каким должен быть воспитатель, а я смотрю и думаю: неужто я Мыльников номер два? И вижу: копия! Тут меня ужас взял. Спасибо, Глухов…
– Что?
– Вот человек! Ведь я был тогда сам не сбой… думал – конченный я человек. А он – утешил меня. Несобранный вы, говорит, вам надо себя в руки взять. Почаще задумывайтесь о последствиях. Вот хотя бы случай с увольнением… Вы бы, говорит, к начальнику курса пришли или ко мне и сказали прямо: погорячился, порвал увольнительную, а хочу пойти на берег. Что же, вам отказали бы в увольнительной? Вот, говорит, так всегда с пустяков человек запутывается, а потом трудно выкарабкаться. Тут мне и о Бубенцове, Кит, мысль пришла в голову: он тоже с пустяка, может, запутался и в такое положение попал, из которого трудно выкарабкаться. А я не понимал Бубенцова, рубил с плеча… совсем как Мыльников, – вздохнул он. – А прихожу как-то вечером к Вадиму Платонычу, старик меня спрашивает: «А что вы думаете, Фрол, о Платоне? Отвечайте мне откровенно». Ну, я и ляпнул ему, что я думаю. Вадим Платоныч покачал головой: «Вот и я в молодости, как вы, размышлял: свихнулся человек – ему цена грош, а до причин, почему человек свихнулся, докапываться недосуг было. А какого вы обо мне мнения?» – спрашивает старик. Я выкладываю, а он усмехается: «Вот-вот… А знаете, Фрол, меня в молодости чуть с флота не выставили – из-за неподходящей компании, которая меня в такое, брат, затянула… Спасибо, товарищи выручили. Вы ведь товарищ Платона по классу, не правда ли?»
– Тут я и твои слова вспомнил, Кит, что Мыльникова любить вовсе не за что. Меня тоже не за что любить было – и Пылаеву, и Бубенцову, и Платоше. Скромности во мне мало, Кит!
– Вот это сущая правда, Фрол.
– Ну, что ж? Урок на всю жизнь. А знаешь, что меня мучит? Не даст мне теперь рекомендации Глухов…
– Заслужишь, Фрол…
– Нет, где уж мне заслужить!
И он пошел на свою койку.
* * *
Однажды вечером, спеша в канцелярию курса, в полутемном пустом коридоре я встретился с адмиралом.
– Рындин! – позвал он меня.
За темными стеклами шумел дождь.
– Ты хорошо говорил на совете. А, поди, нелегко тебе было? Рана-то свежая, не зажила еще… Заживет, – сказал начальник совсем другим, чем обычно, теплым голосом. – Всем нам приходится терять близких. Я тоже вот… Мою старуху фашисты сожгли, – глухо проговорил он, глядя в окно, – в ее маленьком домике, в Луге. Я узнал об этом как раз накануне десанта…
Часы за стеклянной дверью глухо пробили девять.
– А в десанте немцы убили сына. В один день я потерял все, что у меня было. Я зажал в тиски сердце, креплюсь. Самое главное – не распускаться, Рындин. Работать и работать! Вон сколько вас у меня – сыновей, всех воспитать надо…
Он помолчал. Потом сказал, положив руку мне на плечо:
– Работай, учись и побольше думай о будущем. Люби, милый, море и флотскую службу. Большое удовлетворение, Рындин, вести корабль в море, знать, что творишь дело, нужное Родине, быть твердо уверенным в том, что люди, которых ты воспитал, от тебя ни на шаг не отстанут…
Он оставил меня и пошел по коридору. Я пошел в противоположную сторону. В конце коридора я обернулся. Адмирал кого-то остановил и резко отчитывал.
* * *
Пока Лузгин с Бубенцовым сидели «без берега», мы с Фролом каждое воскресенье ходили к Вадиму Платоновичу. После совета старика навестили Вершинин и Глухов. Фрол строил с Вадимом Платоновичем модель линкора и, между прочим, вставлял в разговор замечания о Платоне. Фрол сообщал лишь то, что могло старика порадовать, и лицо Вадима Платоновича светлело.
Приходя к Вадиму Платоновичу, мы заставали у него юношей нашего возраста – студентов университета, сотрудников Военно-морского музея, будущих ученых – историков и географов. Они обращались за помощью, и старик каждому уделял частицу своего дорогого времени. Никто не слышал отказа. К нему приходил и Игнат, интересовавшийся историей Севастопольской обороны.
Наконец, пришел день, когда Платон вошел в отчий дом. Отец встретил его, будто ничего не случилось.
Однажды Фрол попросил разрешения привести Бубенцова. Бубенцову же он сообщил, что можно построить управляемую по радио модель корабля, она будет «единственной в мире». И Аркадий с Вадимом Платоновичем решили построить такую модель.
Глухов не раз напоминал мне:
– Помогайте Бубенцову и Лузгину встать на ноги. Дело за вами, за комсомольцами!
– А Аркашку-то хвалит Вадим Платоныч, – сказал мне однажды Фрол, весьма довольный и гордый, – мичман Боткин тоже… Вот что значит – флотское воспитание!
– Комсомольское, Фролушка!
– То-то и есть!
* * *
Аркадий привязался к Фролу так, как привязывается спасенный к своему спасителю. Однажды он с огорченным видом принес записку, полученную им только что от «Петруся».
– Давай ее сюда и будь совершенно спокоен, – оказал Фрол.
На другой день, в воскресенье, он предложил мне пройтись с ним по Невскому. Неподалеку от Литейного Фрол остановился возле полуподвальной лавочки, над которой висела вывеска: «Скупка радиоприемников и ремонт радиоаппаратуры».
– Зайдем, – предложил мне друг. Я сразу понял, в чем дело.
– Только, Фрол, сдерживайся и помни, кто ты…
– Будь спокоен, Кит, не забуду…
Мы спустились в мастерскую. На полках стояли радиоприемники разных марок. За стойкой переминался с ноли на ногу человек в потертом сером костюме с прыщавой физиономией, круглыми, маленькими глазками и реденькими усиками над щелочкой-ртом. Помятый розовый галстук болтался на грязной сорочке.
– Разрешите, пожалуйста, позвонить по телефону? – подчеркнуто вежливо спросил Фрол.
– У меня не автомат, – нагло ответил скупщик.
– В виде исключения. Автомат испорчен, а мы очень торопимся, – продолжал уговаривать Фрол.
– Ну, ладно, говорите, только не задерживайте.
– Не задержу, – сказал Фрол, беря трубку. – Вы Петрусь?
– А вам, собственно, на что?
– Нет, вы все же Петрусь?
– Ну, положим, Петрусь.
– Это ваша записка? – сунул Фрол к носу Петруся записку, переданную ему Бубенцовым. – Так вот, запомните, что Бубенцов с вами больше не знаком. А я с огромным удовольствием набил бы вашу скверную морду, – не повышая голоса, оказал Фрол. – Да не имею, к сожалению, права, – он скосил глаза на погоны и, быстро набрав номер, спросил:
– Уголовный розыск?
– Что, что? – засуетился Петрусь.
– Уголовный розыск? – переспросил Фрол, заслоняя широкой спиной телефон от возможной агрессии.








