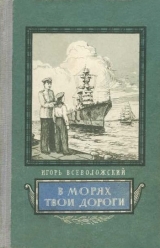
Текст книги "В морях твои дороги"
Автор книги: Игорь Всеволожский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 33 страниц)
Тузик спустили. Я греб, Костылев сидел на корме. Мы направились к мине, круглому темному шару со зловещими рожками, опутанному сетью. Я уже несколько раз ходил с Костылевым к минам. Он был всегда совершенно спокоен: видел на своем веку сотни мин и сам их уничтожил десятки. Тут было дело другое: надо было высвободить сеть. Он провозился – по часам – час, действуя с величайшей осторожностью, методично, спокойно. Наконец, сеть была освобождена. По знаку Костылева ее вытянули на борт шхуны. «Сенявин» взял на буксир шхуну и отошел от нас. Освобожденная мина чуть покачивалась. Привязывая подрывной патрон, Костылев ухватился за темный зловещий шар, усеянный рожками. «А вдруг взорвется?» – подумал я. Признаюсь, меня кинуло в жар. Но Костылев даже погладил мину: «бывай здорова» и поджег шнур. Я стал грести изо всех сил, стараясь как можно скорее убраться подальше. Огонь, словно зверек, медленно полз по шнурку. «Ложись», – сказал Костылев. Мы легли. От взрыва я чуть не оглох. По воде застучали осколки. Я знал, что мы находимся в безопасной зоне, чувствовал, как спокоен Костылев, – и его невозмутимое спокойствие подбадривало меня, хотя сердце и билось отчаянно.
Когда возвращались на корабль, Костылев бурчал что-то нелестное по адресу наших соседей: «чтоб у них повылазило».
Нас встретили приветственными криками с борта шхуны. Молодой рыбак, снова кивнувший мне, снял зюйдвестку, и по плечам его разметались светлые волосы. Теперь я узнал, кто это: это была «Снежная королева», встречавшая с нами Новый год в Ленинграде, Лайне, подруга Хэльми – в высоких непромокаемых сапогах, в брезентовых штанах, в куртке. «Лайне» было выбито и на борту шхуны. И девушка и шхуна носили одно имя – «волна».
– Моя племянница, – пояснил председатель колхоза. – Рыбачья кровь. Будь она рыбаком, а не студенткой Тартуского университета, тоже ставила бы мережи не хуже мужчин и давала бы две с половиной нормы!
Через час мы вошли в небольшую бухту. На берегу виднелся городок с островерхими башнями, крепостной стеной, с игрушечными разноцветными домиками.
В гавани нас уже ждали. Женщины и мужчины стояли на берегу. Полная красивая женщина кинулась на шею Герману Саару. Рыбаки обступили Бочкарева. Его наперебой благодарили за спасение сети. Подошла Лайне:
– Ну вот мы и снова встретились с вами, Никита.
– Знакомую встретили? – спросил Бочкарев.
– Да.
– Вы свободны, Рындин, до двадцати двух ноль ноль, – мгновенно разрешил Бочкарев.
– О! Спасибо! – воскликнула Лайне.
– Прошу посмотреть наш поселок, – предложил Герман Саар, показывая на новые деревянные дома, выкрашенные серой и коричневой краской. – Построен после войны. Новый клуб строим и детские ясли… А тут, – показал он на песчаный холмик у моря, – лежат ваши товарищи моряки, защищавшие наш родной город… Их было несколько человек, а они дрались с сотней гитлеровцев вот здесь, на берегу, на этой самой дороге; это все видела Мета Отто своими глазами. Она носила им воду и перевязывала раны. Видал еще старый Карл Хейн, который погиб в море в прошлом году…
Ветер склонял над могилой сосенки и молодые березки, которые тихо звенели. Холмик был заботливо обсажен бордюром из вереска, в банке со свежей водой стояли цветы. На мраморной доске была надпись: «Здесь лежат моряки, погибшие за свободу и независимость Родины».
– Помните летописи училища? – спросил меня Бочкарев. – Отделение курсантов осталось в засаде, чтобы задержать мотоколонну гитлеровцев. Курсант, первым открывший огонь из станкового пулемета, осколком мины был смертельно ранен. «Не отступать!» – завещал он, умирая, товарищам. Его сменил другой. Через несколько минут и он был убит. На место отважного пулеметчика сразу встал третий курсант. Его ранило в голову, кровь заливала лицо. Но он стрелял до тех пор, пока пуля не оборвала его жизнь… Они, наши старшие товарищи, лежат здесь, у самого моря…
Бочкарев прочел эпитафию на памятнике:
Не плачь!
Мы жили жизнью смелой,
Умели храбро воевать…
– Хорошо это сказано! А знаете, чьи слова? Алексея Лебедева, курсанта нашего с вами училища. Поэт-моряк, офицер подводного плавания, погиб во время войны…
И Бочкарев снял фуражку…
Рыбаки смолили баркасы. Густой дым поднимался к небу. Резко пахло солью, йодом от водорослей, а от сетей развешанных на длинных жердях, несло острым и свежим запахом рыбы.
Герман Саар позвал Бочкарева смотреть рыболовный флот. Лайне сказала:
– Пойдемте в город, Никита. Я только забегу к тетке Райме, переоденусь.
Она забежала в маленький серый домик и через несколько минут вышла в красном, с эстонской вышивкой, платье.
– Я здесь живу, – пояснила Лайне, когда мы шли в город. – Мой отец – капитан здешнего порта. Я приехала сюда на каникулы. Я вас сразу узнала, Никита, и вспомнила тот Новый год. Как у вас было весело! И какая у вас чудесная мама!
– Она умерла…
– Не может быть! Такая молодая, такая жизнерадостная, веселая… Не верится. Вы были один, отца не было с вами?
– Нет.
– Вот и мой тоже был в море. Мама лежала у окна и ждала его, все надеялась, что увидит в последний раз своего Юхана… А он был тогда в Скагерраке…
Мы медленно шли по берегу. Между соснами, согнутыми морскими ветрами, зеленел вереск на дюнах и над древними стенами старой крепости лениво ползли облака. Мы шли по узким улочкам с игрушечными домиками под черепичными крышами, встречали школьников в кепи с блестящими козырьками и школьниц в васильковых беретах – на велосипедах они ехали в школу.
Дома на набережной, розовые, голубые, зеленые, увенчанные флюгерами и башенками, смотрелись в прозрачную воду.
– Вам приходилось дружить с домами? – спросила Лайне.
– Да, – я вспомнил дом на Кировском, перед нашими окнами. Я, когда бежал по утрам в школу, даже здоровался с ним.
– Они были моими большими приятелями, – продолжала Лайне. – А вот этого, розового, – видите, какой он напыщенный, важный… на нем висел золотой крендель – и тогда он казался еще надменнее – я даже немного боялась, как старого учителя или директора школы. Смешно, правда?
Она чуть присела, как школьница:
– Здравствуй, старый дядюшка-дом!
Силуэты рыболовных судов с их тонкими мачтами, казалось, висели между водой и высоким небом. Розовые паруса скользили по молочной воде. Эх, нет с собой красок!
Я встретился взглядом с Лайне.
– Правда, жаль? – спросила она.
– Очень!
– Это называется: художник художника понимает с полуслова!
– И даже без слов!
– Мои деды и прадеды лежат там, в глубине, и я должна бы бояться моря; но я не боюсь его, а люблю! Зайдемте к моему старику? – предложила она.
Одноэтажный, белый, с широкими окнами дом стоял у самого моря. В саду пахло розами. Небольшой черный пес – его звали Мустиком – радостно кинулся Лайне под ноги. Мы очутились в большой светлой комнате, до потолка увешанной карандашными эскизами и акварелями Лайне. В окна были видны укрепления, заросшие отцветшей сиренью, сад с гроздьями рябины, море, длинными серыми складками набегавшее на берег. Одна стена комнаты была занята мозаикой – тоже работы Лайне, изображавшей певческий праздник. Девушки вели хоровод, старик подыгрывал им на гуслях.
– Очень рад видеть гостя, – радушно поздоровался со мной отец Лайне, капитан порта.
Светлые вьющиеся волосы его были откинуты назад, глаза синели из-под густых бровей, особенно светлых на темно-коричневой коже, выдубленной морскими ветрами. Юхан Саар выглядел молодым человеком; о его настоящем возрасте напоминали взрослая дочь и едва приметная седина.
– Никита, простите, я накормлю своего старика, – оказала Лайне, – Юхан Саар, будем пить кофе?
– Крепкий, надеюсь?
– Крепче спирта! – и она убежала в маленькую кухоньку за стеной.
Мы разговорились. Юхан Саар перевидал на своем веку сотни городов и портов. И о каждом городе у него осталось маленькое вещественное воспоминание – трубка была куплена в Роттердаме, кожаный кисет – в Бергене, портсигар – в Лондоне…
– Ни один город не произвел на меня более отталкивающего впечатления, чем Лондон, – говорил Саар. – Рядом с людьми в теплых шубах я видел множество безработных, дрожавших от зимнего холода. Они, кашляя, бродили в тумане, под холодным дождем, в одних пиджаках, без пальто; им некуда было приткнуться… Вы можете представить себе в нашей стране моряка, лишенного моря и хлеба? А там я их видел множество, они ютились в ночлежках… Я видел их и в буржуазной Эстонии. Только в море в те дни я чувствовал себя человеком…
– Ты всегда любил свое море больше меня, Юхан Саар! – воскликнула, возвращаясь с кофейником, Лайне.
– Если хочешь – даже больше тебя, Лайне Саар! Я испытал все штормы чуть не во всех океанах! Я в море вырос, возмужал в нем, состарился и даже сейчас, когда больше не хожу в плавания, могу жить только морем: встречать корабли, провожать их, желать капитанам счастливого перехода… Девчонки никогда не поймут моряка, – притворно уничтожающе взглянул он на дочь. – Им всегда кажется, что моряк только и думает в море – о береге. Неверно! Сердце моряка крепко пришвартовано к морю. Оторви моряка от воды – и он зачахнет, заболеет, умрет…
– А ты не преувеличиваешь, Юхан Саар? Я что-то не слышала о такой смертельной болезни…
– Эту болезнь, Лайне Саар, не просветишь рентгеном. Любовь к морю, вот как она называется! Твой друг еще слишком молод для подобной любви.
– Я? Я по-настоящему счастлив бываю лишь в плавании!
– Вот это сказано моряком! – похвалил Юхан Саар.
Потом Лайне показала мне свои работы: «Рыбаки ставят сети», «В бурю», «Жены ждут рыбаков»…
– Тетя Райма, бывало, проглядит все глаза, ожидая своего Германа, – говорила Лайне.
– А вам не хочется стать художником?
– Я хочу быть врачом, – сказала она, поглядев мне в глаза. – А что касается этого, – показала на акварели, – то ведь профессор Филатов, знаменитый глазник, тоже занимается этим в свободное время… Вы тоже моряк и художник, и одно не мешает другому. И ведь, правда, приятно сознание, что ты спас людей от опасности и от гибели? Вот как сегодня вы, моряки…
Она говорила, что хочет дожить до тех дней, когда человеческий разум победит все болезни и излечить рак или туберкулез будет так же легко, как сейчас грипп. Что хочет дожить до тех дней, – голос ее зазвенел, – когда ребятишки не будут умирать от скарлатины и дифтерита, когда жизнь человека можно будет продлить на долгие годы и побороть старость и дряхлость…
С сожалением я взглянул на часы. Пора было уходить. Я стал прощаться. Юхан Саар сказал что-то дочери по-эстонски.
– До свидания! – сказала она, пожимая мне руку. – Счастливого плавания! Так всегда говорили мы с мамой отцу… Вы понравились моему старику. Он сказал, что у вас морская душа… Теперь уж я встречу вас в лейтенантских погонах! А мы с Хэльми будем врачами!
«Хорошая девушка, – думал я, подходя к кораблю. – У нее наш «сердцеед» Боря Алехин не имел бы успеха!»
* * *
«Сенявин» снова уходил в море – и снова начиналась морская страда. В непогоду Бочкарев приказывал спускать шлюпки, тренировали гребцов. На шлюпку посылал командир и меня. Во время походов я научился у Бочкарева умению не теряться ни при каких обстоятельствах, узнал, как надо действовать в тумане, и много других вещей. Он отлично знал не только театр, где плавал, но и все порты, в которые заходил. Он брал меня с собой на занятия с матросами, с старшинами. Я впервые в жизни самостоятельно провел политзанятие. Я был очень взволнован, и когда принялся вместе с матросами таскать в кубрик скамейки, Костылев оттеснил меня в сторонку и тихонько сказал, что руководителю политзанятий скамейки таскать не годится. Сконфуженный, я поднялся на палубу. Через две-три минуты меня позвали. Я вошел в кубрик. Матросы встали. Костылев громогласно доложил, что группа готова к занятиям. Я взял себя в руки и занятия провел – по собственной оценке – на четверку. Обо всем этом я написал отцу.
В свободное время я окончательно привел в порядок «Историю» «Сенявина» и написал несколько эскизов, которые подарил Бочкареву. Он тотчас снял с переборки в кают-компании висевшую там репродукцию, изображавшую русалок в пруду, и повесил мои акварели.
Я сжился с кораблем, с комсомольским коллективом его, с офицерами – кроме Бочкарева и Щенникова, был еще третий, молчаливый артиллерист Борисенко, поглощавший с жадностью книги из библиотеки своего командира. Я с грустью думал, что практике приходит конец и придется расстаться с «Сенявиным», который я успел полюбить. И я твердо решил закончить училище на отлично, чтобы мне было предоставлено право выбора, и тогда проситься на малые корабли.
* * *
Зашли как-то в Таллиннский порт. В городе на голубиной площадке я встретил Фрола. Он стоял, весь облепленный голубями, и скармливал им большую белую булку.
– Фролушка!
– Кит!
– Вот встреча-то! Как твоя жизнь?
– Жизнь прекрасна! – воскликнул Фрол, швырнув голубям остатки булки и отряхнув крошки с брюк. – Набираюсь морского духа! Присматриваюсь, приглядываюсь, учусь жить с людьми, учусь ладить с ними. А ты?
– Я тоже учусь жить с людьми.
– Ну и как?
– Думаю, что найду с ними общий язык.
– А почему бы нам с тобой его не найти? Не найдут с матросами общего языка только Мыльниковы. Да, ты знаешь? В том дивизионе, где я сейчас нахожусь, служит Мыльников. Командует «охотником». Не любят его…
– Значит, он и здесь, как в училище? Не исправился?
– Пренебрежительность во взоре при общении с младшими, заискивающий взгляд при общении со старшими, полная уверенность в том, что он, Мыльников, непогрешим, ну и так далее. Раздает взыскания – рекорд в дивизионе побил. Поощрений не любит. А ты ведь прав был тогда, в училище – он, действительно, людей провинившихся быстренько списывает со своего корабля. А воспитать не умеет. Прорабатывали его, да с него – что с гуся вода. Допляшется! И эта Нора с ним… помнишь, всегда на машине приезжала на танцы в училище, дочка ответственного работника? Задает тон среди жен. Законодательница мод, женщина неприятная во всех отношениях. Мне повезло, что я к нему не попал. Сцепились бы…
– Тебя-то он узнал?
– Ну, еще бы! «А-а, подопечный… – передразнил Фрол Мыльникова, изобразив его кислую мину и пренебрежительный голос. – На флоте ума набираетесь?»
– А ты что в ответ?
– Ну, я, человек дисциплинированный, поприветствовал, как полагается, сказал, что весьма сожалею, что не попал к нему на корабль, под его руководство, не удастся продолжить, так сказать, мое воспитание, им начатое в училище.
– И он не обиделся?
– Наоборот: тут же стал хвастать товарищам своим – офицерам: вот видите, как любили меня в училище младшие, когда я был у них старшиной. Он, знаешь ли, тонкая штучка, Мыльников! Ну, довольно о нем. Антонина пишет?
– Жалеет, что мы не можем приехать. Тебе просит привет передать. А тебе Стэлла пишет?
– Мне? – Фрол немного смутился. – Один всего раз написала. Две строчки. Что жива и здорова. Чего желает и мне. И ни одного поцелуя. Ни боже мой! Даже в конце. Просто: «Стэлла».
– Не заслужил.
– Да и не собираюсь заслуживать. Обиделась! Сердится! А за что?
– За то, что ты, Фрол, совсем ей не пишешь. Вы ведь все же – друзья.
– Ну, о чем я ей писать буду? О луне? «Ах, ах?» Раскисать не умею. О том, чем теперь голова занята? Об этом в письмах писать не положено. Сам знаешь, что у меня на уме. Как бы набраться опыта, да закрепить все то, что уже дало мне училище, да зимой опыт закрепить новыми знаниями. Вот я хожу, понимаешь, по кораблю и у всех спрашиваю: а это что? а эта штука как действует? Сначала, казалось, я всем надоел, после – поняли: человек любознательный, интересуется для пользы дела. Ну, что ж? Показывают, рассказывают, учат, втолковывают. Пожаловаться на них не могу. Вот тут, – он ударил себя по лбу ладонью, – такой склад практических знаний скопился, только держись! А в самом деле, Никита, – хлопнул он меня по плечу, – не за горами тот день, когда я приду на корабль – приду командиром. Училище будет закончено, науки крепко уложены тут, – он постукал себя пальцем по лбу, – а опыт – вот тут, – стукнул он себя в грудь, возле сердца, – тогда только самое главное и начнется! Вот приглядываюсь я сейчас к своему командиру – есть такой лейтенант Щегольков – и вижу: чтобы полюбили тебя, чтобы тебе, как отцу, доверяли, надо глубоко партийное сердце иметь… Щеголькова любят. Учусь у него, понимаешь. Он умеет, как Глухов наш, добраться до сердца. Это в газетных заметках легко получается: был матрос лодырем, призвал его командир в каюту, туда-сюда, побеседовал, и – здрасте! – матрос стал отличником. Нет, милый мой, с матросами надо пуд соли съесть, чтобы они за тобой в огонь и в воду пошли, как шли в войну за твоим отцом да за моим Виталием Дмитриевичем! Вот я и спрашиваю себя: за мной-то пойдут в огонь, в воду? Не знаю пока. Хочу, Кит, быть я таким, как Глухов, как мой Виталий Дмитриевич! Коммунистом не на словах, а на деле. Ведь мы с тобой, Кит, не успеем опомниться, будем уже офицерами, и тогда с нас с тобой много спросится. Много спросится! – повторил он.
Мы поднялись на Вышгород, кривыми узкими переулками вышли на площадку, вынесенную на край высокой горы. Внизу поблескивали пруды, за вокзалом виднелось множество двухскатных крыш, а дальше отливало серебром море. День был пасмурный, и тяжелые корабли казались совсем невесомыми в светлом тумане.
– Помнишь, Фрол, нам Вершинин рассказывал? Он пришел на флот по первому комсомольскому призыву и увидел в Кронштадте корабельное кладбище. У нас флота не было…
– А теперь – любо дорого смотреть! – понял меня мой друг с полуслова. – Красавцы… За себя, в случае чего, постоят. Мне говорил один здешний товарищ, что когда гитлеровцы наступали на Таллин, жители, выходя по утрам из домов, первым делом смотрели на море. И увидев «Киров» на рейде, говорили друг другу: «Ну, пока флот наш здесь – в город им не войти». И мне, знаешь, до чего стало радостно, что и я – флотский, вырос на флоте и всю жизнь на нем прослужу. Может, и до адмиралов дослужимся, а? – толкнул он меня в бок.
– А что, очень может быть!
– А смеяться и вовсе не над чем, и дослужимся! – рассердился он. – Ты гляди, сколько адмиралов были курсантами, потом лейтенантами…
– Потом старшими лейтенантами, капитан-лейтенантами, Фролушка. Капитанами третьего, второго, первого ранга…
– Лестница длинная и высокая, – засмеялся Фрол. – Долго взбираться придется. А все же я думаю: взберемся, не оступимся. Хотя самое трудное у нас с тобой – впереди. Нелегкая зима предстоит…
Он задумался.
– А когда окончим училище… куда нас пошлют? Не раскидает ли нас с тобой по разным флотам? Дадим слово, Кит, что окончим училище на отлично, чтобы выбрать флот, выбрать малые корабли… ты ведь тоже – на малые? Чтобы не разлучаться нам… А?
Он взглянул на часы.
– Мне пора, к сожалению. Жаль с тобой расставаться, Кит, да скоро встретимся…
Он побежал вниз по крутому спуску.
– До встречи в училище! – крикнул он.
– А может, и раньше встретимся, Фрол?
– Где?
– На морских дорогах!
Но мы встретились только в училище…
* * *
Я хорошо помню свой последний поход на «Сенявине». Я был горд, что корабль идет по проложенному мною на карте курсу – и прокладку мою Бочкарев назвал «образцовой», что подтвердил и Щенников, опытный штурман. Было что рассказать Фролу – была радость, которой я мог поделиться.
Я стоял на мостике рядом со своим командиром и думал: скоро я выйду на флот и буду, быть может, командовать таким же вот кораблем!
Свежий ветерок бил в лицо, развевал гордый вымпел. Берег оставался далеко позади, расплывчатый и бесформенный, о существовании его можно било только догадываться. Балтика была по-осеннему темно-зеленой, вся в мелких белых барашках, и по освещенным солнцем волнам пробегали темные тени.
Бочкарев поглядел на небо, на надвигавшиеся с севера тучи и оказал:
– Будет штормяга.
Он обернул ко мне свое обветренное, с облупленным носом и потрескавшимися губами лицо:
– Ну, что же? Поборемся!
В ярко-голубых глазах его светились озорство и задор.
– В море – дома, не так ли, Рындин?
– Да, дома!
И звонкий голос моей Антонины вдруг прозвучал в гулком шелесте набежавшего ветра:
– Твоя дорога – в морях!
Черноморский флот – Балтика
1944–1954








