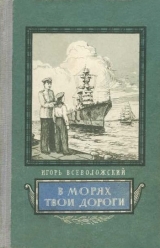
Текст книги "В морях твои дороги"
Автор книги: Игорь Всеволожский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 33 страниц)
Книга вторая
КУРСАНТЫ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
НОВИЧКИ
Глава перваяПРОЩАЙ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
Что за чудо – раннее утро в Севастопольской бухте, когда солнце, поднимаясь все выше, освещает коричневые холмы, белый город и Константиновский равелин! Гремит якорь-цепь, и на мачтах трепещут флажки – корабли разговаривают перед выходом в море.
Что может быть для моряка лучше плавания?
Я готов не взлюбить того, кто с равнодушной физиономией поднимается на борт корабля, на котором он пойдет в море. У меня всякий раз, когда я с Графской пристани переправлялся на крейсер, сердце сжималось от счастья. «Адмирал Нахимов», голубой, вросший в голубую прозрачную воду, со своими широкими палубами и грозными Орудийными башнями был прекрасен, и мы любили его всей душой. Каждая встреча с ним была дружеской встречей.
Никогда не забуду своих первых ученических вахт! Заливаются дудки, и «Адмирал Нахимов» медленно выходит за боновые ворота в широкое, спокойное, все в розовых бликах, море… Матросская работа в походах – не в тягость. Я любил утреннюю приборку, когда корабль, и так блистающий чистотой, весь омывается водой, потоками бегущей из шлангов…
Я любил перезвон корабельных склянок, теплые кубрики и каюты; как свои пять пальцев, знал трапы, по которым опускался туда, где глухо дышали турбины; я привык к командам, подаваемым с мостика, дружил с матросами, которые терпеливо нас обучали…
После работы жирный борщ казался особенно вкусным, а каша с мясом – лучшим блюдом на свете. Послеобеденный сон был всегда удивительно сладок…
…«Нахимов» уверенно резал волну; за кормой бурлила пена; словно мираж возникал дальний гористый берег; в светлой дымке причудливых облаков угадывались вершины, покрытые снегом… Там, вдали, была Синопская бухта, где Нахимов сжег весь турецкий флот и откуда трусливо бежал англичанин Слэд, заместитель начальника турецкого морского генерального штаба…
Мы ходили в Батуми, в Новороссийск и в Одессу. Черное море пленило меня. Не хотелось возвращаться на улицу Камо. Хотелось плавать как можно больше, всю жизнь!
И вот прошло детство в Нахимовском Пришла юность. Мы уезжали в высшее военно-морское училище в Ленинград. Было радостно сознавать, что мы поднимаемся на следующую ступеньку.
Но Кудряшов огорченно сказал:
– Птенцы улетают из родного гнезда! – И на сердце стало грустно. Ведь мы покидали своих преподавателей, воспитателей, младших товарищей, родное училище…
Я смотрю на пожелтевшую фотографию. На ней двенадцатилетний мальчуган с темными живыми глазами, курносый, с коротко подстриженными темно-русыми волосами. Рот раскрыт – фотограф сердито приказал: «Улыбайтесь».
Я сунул фотографию в тумбочку. Подошел к зеркалу. Передо мной стоял молодой моряк, сохранивший сходство с тем мальчиком. Те же глаза, те же темно-русые волосы, подстриженные коротко, но с претензией на прическу. Нос как будто стал менее курносым? А впрочем, какой есть, такой есть!
Вошел Фрол, с лицом, обветренным в плаваниях, с руками, привычными к корабельным работам: они ловко вязали на корабле койку, узлы, драили медяшку, умело гребли, крепко держали штурвал. Буква «Н» на его погончиках, орден, медали, бляха начищены до блеска; огненно-рыжие волосы друга подстрижены «нахимовским полубоксом», которым он очень гордился; нос усеян веснушками, но это Фрола не огорчало.
– Ты готов, Никита? Идем! Мы шли прощаться к Мирабу.
– Оно, конечно, хорошо повидать белый свет, – говорит по дороге Фрол, – и Ленинграда я никогда не видал, но и здесь нам жилось неплохо!
Да, у нас было много друзей. Теперь мы их покидаем…
* * *
Мы сидели во дворе под каштаном, за накрытым столом. Вечер был темный и теплый, и ветерок шевелил огоньки свечей, прикрытых стеклянными колпачками. Мираб сиял. Еще бы! Стэлла окончила школу, а Гоги, сын, привел Анико, невесту. Были тут и Шалва Христофорович, и Антонина. Она сидела рядом со мной в белом, сшитом к выпуску, платье.
«Купаты» – свиные колбаски, начиненные зернышками и соком граната, – шипели на сковородке; редис выглядывал из-за зеленых усиков лука; на длинном блюде лежал толстомордый сом – «локо»; в ореховом соусе плавала курица; бутылки с вином были расставлены, как зеленые кегли.
Бату Кавсадзе поднял стакан:
– Позвольте мне вспомнить один зимний вечер. Была война, затемнение; я выхожу на вокзальную площадь; гляжу – мальчик чуть не попал под машину… Его мама совсем растерялась. Я привел их сюда, в этот дом. С той поры и Мираб, и Маро, и Стэлла – все полюбили Никиту. Он приходил сюда каждое воскресенье. Четыре года прошло, очень коротких для нас – к закату жизни годы несутся непозволительно быстро; четыре длинных для тебя года, Никита, – они медленно тянутся в юности, когда человек поднимается в гору. Ты уже больше не мальчик; ты окончил училище с золотой медалью; ты покидаешь нас – нам очень грустно… Но еще четыре года учения там, в Ленинграде, – и ты станешь морским офицером. В этом небе, – портной поднял руку, разогнав слетевшихся на огонь мошек, – ты будешь наперечет знать все звезды. На кораблях ты пойдешь по далеким морям. И мы услышим: «Никита – уже капитан». Я скажу: «Да ведь это – наш мальчик!» Никите! Мы желаем тебе и успехов, и славы. Мы тебя любим всем сердцем!
– А ведь мне без тебя будет скучно, Никита… – сказала мне Антонина.
– Отчего бы тебе не поехать в Ленинград, в институт? Ты поселишься у нас, и мы будем видеться каждое, воскресенье.
– В Ленинград? Там, Никита, мне все напоминать будет о маме… И я нужна деду…
Это правда. Дед нуждался в ней, слепой и беспомощный. Я знал – он диктует ей воспоминания о своей юности. Ему есть, что вспомнить, – он прожил большую и трудную жизнь.
– А дядя Мираб больше не разбавляет для нас водой кахетинское, – заметила Антонина. – Значит, мы – взрослые…
– Да, вы – взрослые! – подхватил через стол Гоги. – А давно ли вы были детьми? Я смотрю на вас – и вспоминаю… В начале войны, когда враг был у нас, на Кавказе, наш батальон прорывался из окружения с боем. В одном селе горел детский дом. И мы спасли пятьдесят четыре ребенка. Что с ними делать? Взяли их на руки – и давай ходу! Шли день, шли другой, поднялись на перевал, детишек в шинели укутали – в горах лежал снег. Об одном только думали: не замерзли бы… И вот мы спустились в долину. Нас обступили люди. «Что за детский сад в батальоне?» – удивлялись они. И тогда Ашот Минасян спросил женщин: «Кто умоет ребят? Кто накормит их? Кто возьмет их к себе?» И стали подходить женщины, брали ребят с наших рук, уносили их в хаты… Почему я этот факт вспомнил? Да потому, что и вас, детей, в беде не оставили. Вот ты, крошка, – обратился он к Антонине, – перенесла много горя; но ты шла по жизни, высоко подняв голову. У тебя не было матери; но у тебя было много друзей. И ты, Фрол, потерял родителей, но тебя воспитало Нахимовское; и теперь ты шагаешь к цели, идешь в высшее военно-морское училище с аттестатом зрелости и с серебряною медалью! Придет время – ты вернешься к нам адмиралом!
Стэлла от всей души рассмеялась. А Фрол возмутился и кинул на Стэллу уничтожающий взгляд.
– Адмиралом никто не родился, – оказал он сердито. – Головнин воевал со шведами, когда ему было четырнадцать лет. Нахимов в пятнадцать лет был мичманом. Отец Никиты – капитан первого ранга, а начинал службу юнгой. Мы с Никитой будем плавать всю жизнь. И службу флотскую будем любить по-нахимовски. А Нахимов ее так любил, что даже позабыл жениться…
– Не-ет! – воскликнула Стэлла. – Значит, ты тоже никогда…
Она спохватилась и зажала ладонью рот. Фрол сказал:
– Моряки предпочитают свободу.
– Ну, положим, – возразил Гоги, – я среди холостых моряков видел много женатых…
– Друзья мои! – воскликнул толстый Мираб. – Шалва, Бату, Маро, Гоги! Этот бокал я поднимаю за наших детей, вступающих в жизнь, – за Фрола, Никиту, Стэллу мою, Антонину… Ты, малютка, идешь в институт. Ты будешь ученым ботаником. Стэлла будет строить электровозы. Фрол и Никита станут отважными моряками. За вас, дорогие дети! Не обижайтесь, пожалуйста, я вижу, вы – взрослые, но для меня вы всегда останетесь дорогими детьми…
– Вы друзья, живете в счастливое время, – заметил Шалва Христофорович. – Для вас все дороги открыты. Я слышу, Фрол хочет быть адмиралом. Что ж? Он им будет, я в этом уверен. Наша же юность была очень тяжелой.
– Дети мои! – сказал Мираб. – Это истинная правда! Мы видели живых городовых и жандармов. И дикого князя Амилахвари… Помнишь, Шалва? – спросил он художника. – Бывало, мчится на своем фаэтоне, скакуны бешеные, кучер, как всегда, пьян…
– Людей давил, ему с рук сходило, – подтвердил художник. – Он с начальством дружил.
– А мою Маро, – продолжал Мираб, – чуть не разорвали княжеские собаки…
Толстяк притянул жену, подававшую на стол блюдо с барашком.
– Ух, ты тогда испугалась!
– Вот ваша Стэлла не испугалась бы дикого князя, – сказал Фрол. – Да что – князя? Самого черта и то бы не испугалась!
А тосты все продолжались.
Никто не был забыт. Трудно было, добавить что-либо к большой славе Шалвы Христофоровича, но Гоги нашел теплые, проникновенные слова. Он говорил о том, что ложная весть о гибели сына пригнула к земле старика, как пригибает ливень, подмыв корни, старое крепкое дерево; но Шалва Христофорович снова поднялся. Он выпрямился, как дуб, расправляя ветви…
Не забыли и тетю Маро, и Бату, и невесту Гоги, Анико, сидевшую тихо, как мышка; Мираб вспомнил и наших отцов:
– Таких храбрецов воспел бы сам Руставели! Шалва, дорогой, за героя, твоего сына! За твоего отца, Никито! Фрол, за твоего командира! А теперь, друзья, мы споем. Гоги, пойди, возьми свою скрипку!
Ветерок стих, и свечи горели ярко и ровно. На каштанах белели пушистые стрелки.
Гоги принес свою скрипку, взмахнул смычком и заиграл «Цицинатэллу». Подпевать стали все – и лишь Анико, поставив локти на стол и опершись на руки подбородком, молчала и не сводила глаз со смуглого лица, черных усиков и блестящих глаз жениха.
– Давай, пойдем на Куру, – шепнул я Антонине. Она поднялась и пошла через двор, к воротам; в темноте светились ее волосы и белое платье.
Узкая улица привела нас к реке. Было тихо, тепло, вокруг белели каменные ограды; уходили ввысь черные тополя; звезды сидели на их острых верхушках.
Кура бежала, пенясь, глубоко внизу, и казалось, что дома вырастают прямо из пены.
За рекой на холмах я видел сотни огней. Светлячки автомобильных фар скользили по Верийскому спуску.
– У меня даже нет твоей фотографии, – сказала Антонина.
– Как же нет? А та, где я в парадном мундире?
– Ее утащили.
– Кто?
– Нина. А может быть – Хэльми.
– Зачем она им?
– Как зачем? Нина только о тебе говорит, а Хэльми называет своим «спасителем». Кстати, ты возьми ее адрес. Может, попадешь в Таллин, зайди. Она в университет поступает. Наверное, совсем взрослая…
– Мы с Ниной поссорились, – оказал я.
– Можно узнать, почему?
– Потому, что она сказала, ты – скрытная…
– А-а, вот оно что! – засмеялась Антонина. – Она просила, чтобы я ей прочла твои письма. А я не показываю их даже Стэлле. Удивляюсь девушкам: все свои письма читают друг другу. Зачем? Я буду писать тебе – помни, тебе одному, а не друзьям твоим и приятелям. Ах, зачем ты уезжаешь, Никита! – взяла она меня за руку.
Над нами ярко вспыхнул фонарь – и у меня словно раскрылись глаза; вместо девочки с перепачканными чернилами пальцами я увидел чудесную девушку – совсем другую, новую Антонину. Прежней, той Антонине я мог сказать, что у нее выпачкан нос или порван чулок. На эту девушку я смотрел, как на утенка из сказки, вдруг ставшего лебедем.
– Что же ты молчишь? – спросила она.
– Антонина!
– Ну, да, Антонина. А дальше – что?
Я хотел сказать ей, что мне больше не хочется уезжать в Ленинград, что я не могу теперь жить далеко от нее многие месяцы, год! Но не то получилось. Сказал:
– Ты… лучше всех, Антонина.
– Это тебе только кажется.
– Нет, нет… не кажется, дорогая! («дорогой» я назвал ее в первый раз).
– А вот ты для меня давно лучше всех… – сказала она. – И я не знаю, как буду жить без тебя, мой хороший…
Фонарь погас. Погасли цепочки огней на том берегу. Ярче засветились звезды над нами.
* * *
Рука об руку мы вернулись к друзьям. В доме было темно. Свечи на столе догорали. Фрол пел «Вечер на рейде», нашу любимую песню. Гоги ушел провожать Анико. Антонина крепко сжала, прощаясь, мне руку и бережно повела деда к фаэтону, ожидавшему их у ворот. Фаэтонов осталось всего три-четыре на город, но Шалва Христофорович не любил машин. Покой тихой улицы нарушил цокот копыт.
– Антонина! Мы придем к тебе завтра! – крикнула Стэлла ей вслед. – И пойдем вместе с мальчиками в театр. В последний раз, – вздохнула она.
– А послезавтра мы все придем на вокзал, – пообещал дядя Мираб. – Доброй ночи. Приятных снов!
– Увидеть себя во сне адмиралами! – пожелала нам Стэлла.
Мы с Фролом пересекли пустынный проспект, свернули на улицу Камо, к училищу.
– А хорошо бы институт Стэллы перенести в Ленинград, – фантазировал Фрол. – Без нее будет скучно, пожалуй. Как ты думаешь, Кит?
«Эх, если бы и институт Антонины перенести в Ленинград!» – подумал я, но другу ничего не сказал.
* * *
На другое утро я проснулся раньше всех. Подъема не было, выпускники спали.
– Фрол, вставай! – разбудил я друга. – Пошли умываться!
Солнечный свет струился в широко раскрытые окна. Вода в умывальнике бежала напористой, веселой струей.
Я сел на подоконник и увидел каштаны, серебристую листву тополей, сотни крыш за рекой и далекую гору Давида с белой церковью, окруженной синими кипарисами. Чудный город Тбилиси! Зимой снег выпадает всего на два дня, и юноши, у которых уже пробиваются усики, достают из чулана санки и вместе с малышами катаются с горки. Наступила весна – и дома омытые теплым дождем, улыбаются; старики молодеют; ну, а девушки – они цветут, словно персиковые деревья в садах…
Я крикнул в окно:
– Здравствуй! Доброе утро!
– Кому это ты? – удивился Фрол.
Кому? Городу! А, быть может, радостному, светлому дню! Или дому на склоне горы, в котором живет Антонина…
– Ну и разобрало тебя! – усмехался Фрол. – А впрочем, и у меня настроение выпускное! Идем-ка скорее одеваться – и завтракать! Кит!
– А?
– А ведь сегодня наш последний завтрак в училище!
Протасов повел нас в столовую во всех орденах и медалях. Завтракали все торопливо – спешили укладываться. Но едва старшина скомандовал «встать!», в столовую вошел Николай Николаевич. Увидев Суркова, мы забыли о сборах.
– Не мог удержаться, чтобы не повидать вас, – сказал он. – Оставил на старпома «Нахимов» и махнул сюда из Батуми. Поздравляю с окончанием училища.
– Спасибо! Спасибо!
– Вы разрешите писать вам? – спросил Юра.
– Не только разрешаю – прошу, – пробасил Николай Николаевич. – Постараюсь ответить каждому, – пообещал он. – И вот мой вам совет: не забывайте, что вы – «старослужащие». Нахимовец – звание почетное, но лишь в том случае, если на вас будут смотреть с уважением. Если же нет – лучше забыть, что вы были нахимовцами… Вначале вам нелегко будет, – продолжал он. – Сейчас вы тут – старшие, а придете в училище – снова станете младшими. Возможно, вам это и не по вкусу придется. Но обиды советую спрятать в карман. Все можно вытерпеть, если знаешь, что флотская служба – дело всей твоей жизни. Пример советую брать с Павла Степановича Нахимова: служил в сутки двадцать четыре часа, на службу в мирное время смотрел, как на подготовку к бою, когда человек должен полностью проявить свои моральные силы. И он был всех скромнее. А скромность – великая вещь. Не раз вам придется стоять на низшей ступеньке, даже, когда, надев офицерский китель и кортик, вы придете на флот; офицеры на корабле будут старше вас – и по званию и по опыту…
Сурков говорил и о том, что офицер должен глубоко знать военно-морскую науку и боевую технику, уметь владеть ею. Он должен быть и разносторонне образованным человеком. Нахимов обладал обширными знаниями, а лучшим другом Макарова, изобретателя и ученого, был Верещагин. Художник не стал бы дружить с человеком, не понимающим и не умеющим ценить искусство. Среди наших адмиралов есть ученые с мировым именем…
– Любите сокровища своего народа, знайте их и гордитесь ими! Пусть вам знакомы и близки будут Репин и Брюллов, Мичурин и Менделеев, Чайковский, Мусоргский, Римский-Корсаков, Казаков и Растрелли. Сохрани вас бог стать верхоглядами! Верхогляд всегда сядет в лужу, хотя и может на первый взгляд показаться образованным человеком…
В заключение Николай Николаевич сказал:
– Ну, а попадет кто из вас на практику на Черное море – не забывайте «Адмирала Нахимова»…
Последний раз мы заглянули в свой класс и в военно-морской кабинет, с такой любовью созданный Горичем. В последний раз перелистали рукописный журнал «Уходим завтра в море», где было все, что нас волновало и чем мы жили в те годы, когда гремела война и радио передавало приказы Верховного Главнокомандующего и информационные сводки…
Все это оставалось в наследство нашим младшим товарищам.
Я напомнил Фролу, что пора идти к Антонине.
* * *
Белый дом под горой Давида поджидал нас и, казалось, спрашивал: «Что же вы задержались?» Во дворе нас догнала Стэлла.
– Ух, и бежала же я за вами! До чего же замечательно, мальчики! Проведем весь день вместе! Пойдем на фуникулер, да? А вечером – в театр, правда? А какой я сон видела! Угадайте! Клянусь здоровьем папы, я встретила, Фрол, тебя адмиралом! Идешь ты по улице, в золотых погонах, а я окликаю: «Товарищ адмирал! Вы меня разве не знаете?» А ты так важно протягиваешь мне два пальца в перчатке и цедишь сквозь зубы: «Кажется, я вас где-то встречал. Только никак не могу припомнить, где это было». Нет, вы подумайте! Я так разозлилась, что тут же проснулась и побежала пить воду. «Что с тобой, Стэлла?» – спросила мама. А я зубами стучала от злости.
– Глупый сон!
– А вдруг ты действительно меня не узнаешь?
– Быть не может!
– Все в жизни бывает. Папин товарищ по школе – теперь железнодорожный директор. Так он едва кланяется на улице.
– Дурак твой директор!
– Возьми его лучше себе.
Тамара увидела нас в окно, закричала:
– Что же вы, генацвале? Заходите скорее!
Мы взбежали по лестнице, и на галерейке Фрол чуть не опрокинул кадку с олеандром. Я постучал в стеклянную дверь.
– Можно, Шалва Христофорович?
– Разумеется, Никита, входи!
Художник сидел у раскрытого настежь окна. На подоконнике лежала толстая тетрадь в сафьяновом переплете.
– Мы занимались все утро, – сказал он. – Антонина – мой секретарь, мои глаза, мои руки. Садитесь, друзья. Тамара! Принеси кофе…
Пока Тамара накрывала на стол, Шалва Христофорович говорил:
– Счастливцы, едете в Ленинград… Увидите сфинксов на набережной и «Медного всадника». Будь я здоров, я поехал бы с вами. На берегах Невы я провел лучшие годы, юность… что может быть лучше юности?
Он вздохнул:
– Невский… Адмиралтейская игла в небе, а на Аничковом мосту – кони Клодта. Публичная библиотека. Гостиный двор, Казанский собор… А дворцы Петергофа! – воскликнул художник. – Подобных им нет в мире! Я сегодня получил письмо от Серго. Он побывал в Петергофе. Антонина, письмо у тебя? Прочти им… Хотя я помню все наизусть. «Фонтаны уже восстановлены, часть дворцов – тоже. Мы восстановим все, что было построено нашими великими мастерами».
– Они снова учатся, твой отец, Никита, и мой сын, в академии, – продолжал Шалва Христофорович – и в этом тоже, друзья, наша сила – не останавливаться на месте, совершенствоваться, идти вперед и вперед, даже если ты достиг высшего почета и славы…
Он говорил, а я не сводил глаз с Антонины. Наши взгляды встречались и говорили друг другу: «У нас есть тайна. Чудесная тайна, которую знаем мы двое – ты и я – и больше никто!» Мы понимали друг друга без слов.
Фрол и Стэлла занялись настольным теннисом, а Антонина позвала меня в свою комнату. «Милый», – шепнула она. Из соседней комнаты слышались оживленные возгласы игроков.
– Я тебе хочу кое-что подарить, – Антонина взяла со стола небольшой томик в синем коленкоровом переплете.
– Пушкин? – догадался я.
– Да. У него был лицейский друг, который стал моряком.
– Матюшкин?
– Да, Федор Матюшкин. Ты помнишь, что Пушкин писал ему?
Она прочла:
Счастливый путь!.. С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О, волн и бурь любимое дитя…
– Так вот, «дитя волн и бурь», – она протянула мне томик Пушкина, – я хочу, чтобы ты вспоминал иногда, что у тебя есть верный друг…
Она подошла к столу и стала перебирать книги.
– Ты видишь? – спросила она. – Я хотела полюбить все, что ты любишь. Это все – книги о моряках. Как я хотела бы быть такой сильной, как жена Невельского… Читал? Поездов еще не было, когда она с моряком-мужем ехала к Тихому океану. Они увязали в болотах, крутыми тропками карабкались по скалам, и переправлялись через самые быстрые реки. Ей говорили: вернись! Но она отвечала: нет, куда муж, туда – я… В океане их захватила страшная буря. Корабль стал тонуть; и что же ты думаешь, она растерялась? Ничуть! Она помогала усаживать людей в шлюпки и с корабля сошла вместе с мужем – последней… Я преклоняюсь перед ней… А я ведь сегодня ночью ревела, – улыбнулась она. – Мне показалось ужасным, что я тебя не увижу год или больше… Вот, возьми, – протянула она мне свою фотографию. На ней было написано знакомым ровным и четким почерком: «Где бы ты ни был, я всегда, всем сердцем – с тобой».
Я бережно спрятал портрет Антонины в бумажник.
– Ты пиши мне часто, обо всем, обо всем, – попросила она.
* * *
Мы дошли до вокзала фуникулера. Взяв билеты, мы вскочили в уже отправлявшийся кверху вагончик канатной дороги – и не прошло и пяти минут, как очутились на горе, в парке.
Сколько раз мы стояли тут у каменной низкой ограды и смотрели на город! И вот он снова лежал перед нами, весь в цветущих садах. Далеко, над Курой серел древний Метехи. За рекой спешили к морю, на юг, поезда…
…Мы сидели в парке и ели мороженое.
– Вот ты, Фрол, смеялся над моими мечтами, – сказала Стэлла. – А теперь ты что скажешь? Я иду в институт. Через шесть-восемь лет я построю электровоз и назову его «синей птицей». И мы за полчаса поднимемся за перевалы; и ты со мной, да?
– Обязательно, – пообещал Фрол с усмешкой, – специально выпрошу отпуск, чтобы прокатиться на твоей «синей птице».
– Нет, когда ты станешь со мной говорить серьезно? – возмутилась Стэлла. – Почему дядя Бату и папка никогда не выслушивают меня с усмешкой? И если ты сомневаешься, что девушка может стать инженером, ты – недалекий человек!
– Кто – недалекий человек?
– Ты!
– Ну, знаешь!
– Не ссорьтесь, не ссорьтесь, сегодня мы последний день вместе! – взмолилась Антонина.
…Когда мы спустились вниз, я спросил Фрола:
– Ты убежден, что из Стэллы не получится инженера?
– Почему? Обязательно получится.
– Так в чем же дело?
– Я не хочу, чтобы она задавалась!
* * *
Выпускники собирали вещи. Илюша, напевая, засовывал в чемодан фотографии. Он снимался у училищного фотографа по два раза в месяц – в мундире, в фланелевке, в шинели, в тельняшке. Со всех фотографий улыбался черноглазый, с густыми бровями нахимовец.
Забегалов аккуратно складывал в сундучок белье. Олег протирал скрипку. Юра утюжил брюки. Бунчиков чистил бляху.
Тут же стоял и Протасов, глядя на сборы. Каждый оставлял старшине на память свою фотографию. Зашел в кубрик Горич.
– Сжился я с вами, – сказал он огорченно.
Да, и мы с ним сжились; мы любили его и за глаза называли «дедушкой».
Фрол в волнении вбежал в кубрик:
– Кит, нам с тобой телеграмма! С катеров!
И он прочел вслух, чтобы слышали все:
«Весь личный состав горячо поздравляет вас, дорогие нахимовцы, с успешным переходом на новую ступень военно-морской службы. Окончанием с медалью нахимовского вы доказали, что вы настоящие гвардейцы. Мы вами гордимся, уверены, что не посрамите морскую гвардию и в высшем морском училище, пойдете по стопам старшего поколения славных гвардейцев, Героев Советского Союза Рындина, Гурамишвили и Русьева. Выходите отличными, опытными командирами на широкие морские просторы». А что, Кит, напишем ответ?
Мы сходили на телеграф, написали: «Обещаем учиться и в высшем училище по-гвардейски». Потом зашли в театр, купили билеты на вечерний спектакль.
* * *
Стемнело. На проспекте Руставели среди черных пихт зажглись матовые огни. В густой толпе не было видно ни Антонины, ни Стэллы. Фрол посматривал на часы. Оставалось всего пять минут до начала.
– Гляди-ка! Идут!
Но они не торопились – они разговаривали с какими-то молодыми людьми.
– Ты видишь? – спросил Фрол.
Наконец, девушки подошли к нам.
– Ух, мы боялись, что опоздаем! – воскликнула Стэлла.
– Ну, не видно, чтобы вы торопились, – ехидно пробурчал Фрол.
– Фрол, мы встретили моих двоюродных братьев! Они – племянники старого дяди Бату.
– Знаем мы этих братьев, – пробурчал Фрол.
На улицу из театра прорвался третий звонок.
– Бежим скорее, начинается! – воскликнула Стэлла и устремилась через засаженный чахлыми деревцами дворик.
Все первое действие Фрол просидел молча.
– Мы что же, пришли в молчанку играть? – спросила Стэлла в антракте. В темно-красном платье, с длинными, до пояса, косами она привлекала всеобщее внимание. – Страшно весело с вами! Антонина, пойдем лучше пить лимонад…
Действие продолжалось. Молодой человек, приехавший в дом к невесте, узнает, что она его больше не любит. Она любит другого, ничтожного, льстивого человечка. Молодого человека осмеивают, на него клевещут, объявляют его сумасшедшим. И тогда он говорит правду в глаза – и невесте, и отцу ее – толстому человеку с одышкой и уезжает от них навсегда…
– Смотрю в третий раз и всегда возмущаюсь, – рассуждала Стэлла, когда мы вышли из театра на улицу. – Ну, как она могла предпочесть Чацкому это ничтожество? Впрочем, она сама не человек, а избалованная московская барышня!
– А я бы сказал, что не только московские барышни предпочитают ничтожества, – язвительно сказал Фрол.
– Что-о?
– Ничего.
– Нет, повтори, что ты сказал, Фрол? Это мои братья – ничтожество?.. Да они, если хочешь знать…
– Знаю.
– Ничего ты не знаешь. Они нисколько не хуже тебя! Ты будешь моряком, а они инженерами! Ты будешь плавать по морям, а они будут строить для тебя корабли! Чем они хуже тебя?
Нам едва удалось угомонить Стэллу.
* * *
Наши друзья поджидали нас возле уходившего в Москву поезда. Мы отнесли в вагон вещи и вышли.
Гоги взял под руку Фрола и повел его по перрону. Мираб был искренне огорчен, что мы уезжаем.
В такие минуты, когда расстаешься, всегда хочется сказать очень много, но все вылетает из головы и говоришь о таких пустяках, что потом самому вспомнить стыдно. Так случилось и в этот вечер. Мы перебрасывались короткими фразами, вроде того, что нам будет ехать удобно, и до отхода поезда остается десять минут, и мама обрадуется, когда я приеду, а того, что я хотел сказать Антонине – я так ей и не оказал…
А тут и радио объявило, что «курьерский Тбилиси – Москва отправляется через пять минут»; Гоги и Фрол поспешили вернуться. Мираб сказал:
– Давайте прощаться. Он расцеловал нас.
– Повторять вам не надо, что мой дом – ваш дом?
Антонина протянула письмо:
– Передашь папе.
– Чуть не забыл! – спохватился Гоги. – Вот вам на дорогу.
Он, как фокусник Кио, вдруг выловил из темноты большущий пакет и протянул Фролу.
– Зачем?
– Как «зачем»? Проголодаетесь, будете кушать. В вагон-ресторане все дорого и уж наверняка не так вкусно. Мать готовила – отличная пища.
– Отъезжающие, занимайте места, – предупредил проводник.
Я расцеловался с Гоги и снова с дядей Мирабом. Антонина крепко сжала мне руку: «Прощай, Никита… Нет, что я говорю: до свидания! Пиши!»
– А ты что же, Стэлла? – спросил Мираб дочку. – Поцелуй мальчиков.
Стэлла с независимым видом протянула каждому из нас руку и чинно сказала:
– Приезжайте, мы будем вас ждать.
Однако, когда электровоз загудел, она кинулась к нам и принялась целовать, причем большая доля ее поцелуев досталась, разумеется, Фролу.
Бедняга оторопел и чуть не отстал от поезда: я втащил его на подножку.
– Горячая девочка, – засмеялся от души проводник. – Сестра, скажи, или невеста?
Поезд нырнул в темноту…








