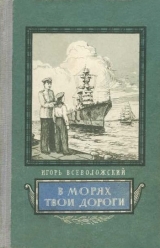
Текст книги "В морях твои дороги"
Автор книги: Игорь Всеволожский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 33 страниц)
– Правильно! – послышались голоса.
Ростислав говорил о товарищеской спайке: у нас нет ее до сих пор. Мы плохо понимаем друг друга. Мы часто ссоримся с товарищем вместо того, чтобы его поддержать.
– Во время войны несколько морских пехотинцев оборонялись в дзоте. Командир им сказал: «Помните, мы здесь, как на корабле! Чтобы никаких пререканий и раздоров, чтобы каждый мог чувствовать рядом с собой друга, готового помочь в трудную минуту. Тогда нам ничто не страшно!» Так давайте же и мы жить, как на корабле!
* * *
В воскресенье Игнат собрался сходить к Лузгиным.
– Пойдем, Никита?
– Пойдем!
Я позвал с собой Фрола.
– К старику? С удовольствием! – охотно пошел с нами Фрол.
Платон привел нас на одну из линий Васильевского острова. Вадим Платонович, опираясь на палку, сам открыл дверь.
– Ну вот и хорошо, что зашли. Люблю молодежь! Пришел, наконец! – обратился он к сыну. – Все воскресенья пропадает, домой глаз не кажет. Прошу вас, прошу, – пригласил он нас.
Вадим Платонович провел нас через столовую в кабинет. Повсюду – на письменном столе, на верстаке, столиках, полках – стояли модели фрегатов, корветов, крейсеров. Заметив, что мы заинтересовались большим портретом молодого флотского офицера, капитан первого ранга сказал:
– Мой старший. Курсантом защищал Таллин, у памятника «Русалке». Потом командовал катером. Погиб в море…
Старик тяжело вздохнул и перевел разговор на другое:
– Прошу знакомиться с моим хозяйством. Увенчанные славой корабли русского флота: «Азов», «Меркурий», «Паллада», «Стерегущий», «Аврора», «Киров»…
Миниатюрные двойники кораблей были до мельчайших деталей похожи на оригиналы. На «Кирове» даже мелькал огонек – на клотике и в иллюминаторах горели огни.
– Трогайте, трогайте, разрешается, – подбадривал нас Вадим Платонович. – Пробовал приучать Платона. Нерадив, ленив, неспособен. Я же этим мастерством с малолетства занимаюсь. Вот и пригодилось: ведь больше никогда не бывать мне в море…
Я заметил, что левая рука Вадима Платоновича скрючена и он ею еле владеет. Сколько надо иметь силы воли, умения, чтобы одной рукой оснастить модель фрегата, выточить вращающееся орудие крейсера! Вадим Платонович бросил на меня быстрый и внимательный взгляд.
– Да-с, молодые люди, я не сдаюсь! Как видите, не теряю ни минуты, ни часа. Не на одном операционном столе лежал, а все не сгибаюсь. А почему? Да потому, что я знаю, что я еще нужен. Что бы делал такой отставной моряк, как я, в другой стране, где-нибудь, скажем, за океаном? Просил бы милостыню, да-с, молодые люди, просил бы. «Подайте бывшему моряку». Видел я на Западе, как ветераны двух войн, в орденах, стоят с коробкой спичек в руке на углу. Спичек никто не берет, все знают, что они – лишь для отвода глаз. Нищенствовать запрещено, торговать можно. И ждет моряк, когда подадут. Нет у него ни квартиры, ни работы, ни пенсии, ни надежд. Я же, хотя боли мучат и сердце пошаливает, черт бы его подрал, полон надежд на будущее. Поглядите мой план работы!
Он раскрыл альбом и стал показывать нам рисунки. Из дерева, полотна и меди он создаст новые модели для музеев и для домов флота.
Вадим Платонович, ловко управляясь здоровой рукой, показывал, как движутся орудия и броневые башни модели. Игнат со знанием дела принялся обсуждать с капитаном первого ранга мельчайшие детали. Они даже поспорили, после чего Вадим Платонович сказал: «А ведь вы правы, Игнат. Надо будет пересмотреть, переделать. Удивляюсь, как я сам не заметил». Потом они пустились в дискуссию о пловучести корабля.
– Товарищ капитан первого ранга, – спросил Фрол, – вы разрешите приходить помогать вам?
– А я и сам справляюсь, – подозрительно, словно боясь к себе жалости, ответил Вадим Платонович. – Вот если вы хотите поучиться, попрактиковаться…
– Да ведь я этого и хочу! – горячо воскликнул мой друг. – Я, товарищ капитан первого ранга, еще с капитаном первого ранга Горичем…
– С Зиновием Федоровичем?..
– Так точно… Мы с ним даже корветы строили. Конечно, не такие, как вы…
– Но, но, не привыкайте к подхалимству!
– Я не из подхалимства, – обиженно вскричал Фрол. – Как могли вы подумать?
– Знаю, знаю, – улыбаясь потрепал Вадим Платонович Фрола по плечу. – Понравились мои кораблики?
– Да еще как!
– Очень рад! Да-с, очень рад! Приходите, прошу, приходите! Все это в жизни моряку пригодится. А за Платошей моим, вас прошу, присматривайте, да в случае чего – головомойку ему! И покрепче этак, по-комсомольски, только это ему и поможет! Лоботряс! – вздохнул он, но посмотрел на своего нескладного сына с любовью. – Тот был другой, – взглянул старый моряк на портрет старшего сына. – Серьезный, вдумчивый, напористый, весь в деда, Платона Петровича. Дед-то Платона матросом был. Вы тоже из морской семьи, Рындин?
– Так точно.
– А ведь мы не в училище и не на корабле – «так точно». И, кстати, тут я вам не капитан первого ранга, а Вадим Платонович. Прошу к столу.
Мать Платона – Вера Павловна, пожилая, полная и седая женщина с усталым лицом, учительница одной из школ на Васильевском, разливала чай. Вадим Платонович занимал нас рассказами.
– Платон, звонят, отопри!
В столовую вошла дочь нашего адмирала. Розовощекая, оживленная, Люда поцеловала Веру Павловну: «Здравствуйте, тетя Вера, очень рада вас видеть»; Вадима Платоновича: «Папа соскучился, дядя Вадим, и просит, чтобы вы зашли», чмокнула Платошу и, взглянув на нас, вскочивших из-за стола, воскликнула радостно:
– Знакомые! Никита Рындин, не так ли? А вы – Фрол Живцов. – Потом пожала руку Игнату.
– Садись, Люда, чай пить, – предложила Вера Павловна.
– Некогда, тетя Вера! У меня, – взглянула она на крохотные часики на руке, – через полтора часа генеральная репетиция. На спектакль придете?
– Обязательно, – пообещал Вадим Платонович. – Как же не полюбоваться будущей Савиной!
– А я вовсе не Савина, не Ермолова, не Дузе, не Комиссаржевская, как вы изволите, дядя Вадим, иронизировать. Я – средняя актриса; но мне очень хочется быть хорошей актрисой. Даже больше того: превосходной актрисой, чтобы меня не могли упрекнуть, что я зря училась. Приходите в театр, – пригласила нас Люда, все же садясь за стол и придвигая к себе голубую чашку.
– Когда?
– В воскресенье.
– Я на футбол, мне в театр некогда, – отказался Платон.
– Одному – некогда. Что окажут другие?
– Я пойду, – решил Фрол. – А что мы увидим?
– «За тех, кто в море».
– Приду обязательно. Ты, Игнат?
– Если возможно.
– Конечно, приходите, Игнат. Я жду вас всех! И вас, Никита, конечно! Только не судите меня слишком строго, я еще очень молодая актриса…
Завязался разговор о театре – мы любили его, знали артистов, вспоминали любимые пьесы. Но лучше всех разбирался в театре Игнат, и это заметила Люда и так увлеклась разговором, что вдруг спохватилась: «ой, опоздаю!» – и убежала.
Мы тоже стали собираться домой. Я совсем забыл, что мама давно ждет нас на Кировском.
– Приходите, – приглашал нас Вадим Платонович. – Я очень рад, что у моего Платона есть, наконец, настоящие друзья (если б он знал, что мы не считаем себя друзьями Платона!). А то завел себе какую-то компанию, пропадает по воскресеньям, домой не заходит и, я боюсь, нахватает двоек.
– Подумаешь, нахватает! Всего две двойки и получил, – необдуманно брякнул Платоша.
Вадим Платонович от негодования побледнел:
– Да как же тебе не стыдно, Платон? Твой брат окончил училище в первом десятке, а ты не успел поступить – и уже…
Он огорченно махнул рукой.
– Не ожидал! Принес мне воскресный сюрприз!
Он попытался нам улыбнуться, прощаясь, но улыбка получилась жалкая.
– Не обращайте внимания. Идите, веселитесь и – не забывайте меня, старика.
– Будь у меня такой батя, – сказал Фрол, когда мы вышли на улицу, – я бы под землю скорее провалился, чем его двойками огорчать. Игнат, где, по-твоему, бывает Платон? Ты слышал, старик говорил – по воскресеньям домой не приходит, пропадает в какой-то компании?
– По-моему, эта компания – Бубенцов.
– Бубенцов, думаешь? Ну, погоди, разберемся.
* * *
– Я так беспокоилась, – тревожно сказала мама, когда мы пришли на Кировский. – Хотела звонить в училище.
Кукушка прокуковала пять. Стол был накрыт, мама ждала с двух часов, а я не потрудился предупредить, что иду к Вадиму Платоновичу.
– Мне казалось, что ты заболел и лежишь в лазарете или случилось что-нибудь…
Фрол взглянул на меня укоризненно. Его глаза говорили: «Эх, Кит! Что тебе стоило позвонить матери?»
– Мы были у Лузгина, у товарища, – сказал я сконфуженно.
– Ну, и хорошо… Вот только боюсь, что обед простыл! Да, ты знаешь, Никитушка, я от папы письмо получила! Вот прочти.
«Я днюю и ночую в море, – писал отец, – и вполне удовлетворен своей жизнью. Каждый день приносит новые радости».
В письме не было нежных слов, но все оно, от первой а до последней строки, дышало большой, настоящей любовью.
– Он фотографии сбои прислал, Никиток, – вспомнила мама. – Куда же я их девала?
Она встала на стул и провела рукой по полке. Вдруг охнула.
– Что с тобой? – подбежал я к ней.
– Тут… кольнуло, – она приложила руку пониже груди. – Ничего, Никиток, вот уже и прошло все. Нашла…
На фотографии отец и Русьев стояли на пирсе.
– Придется, видно, все же ложиться в больницу, – вздохнула мама.
– Ты разве больна?
– Давно что-то покалывает.
– А вы знаете, в Ленинграде есть знаменитый профессор? – Фрол назвал фамилию. – Сходите к нему, Нина Павловна.
– Я схожу. Врачи советуют оперироваться…
Она привычным движением отмахнула со лба мягкие, как шелк, волосы.
– А я так не люблю и боюсь операций…
– Папа знает, что ты больна?
– Нет, и ты ему не пиши! Может, все пустяки. Ну, зачем забивать ему голову? У него много забот и без нас. Он испытывает новые катера, эти катера – его жизнь. А к профессору я схожу завтра же. Ой, вы, наверное, голодные! – спохватилась она.
Через минуту мама что-то напевала в кухне, а через десять минут угощала нас вкусным обедом.
– Ты знаешь, я тоже сфотографировалась, – сказала она после чая. – Сейчас покажу.
На фотографии она была, как живая: смеющаяся, веселая.
– Одну я послала отцу; возьми другую себе, Никиток.
– Спасибо.
Фрол тут же смастерил рамку, и я повесил фотографию у себя над столом.
Вечером мы пошли в дом культуры на «Пигмалиона». Элизу Дулитл играла Люда. Мама снова была весела, без конца говорила о новой экспозиции в Русском музее, о выставке Шишкина и мечтала:
– А летом получу отпуск и поеду к отцу. У вас ведь будет летняя практика, Никиток? Вот бы послали тебя на Черное море! Помнишь тот маленький домик на Корабельной?
* * *
У Фрола в голове не укладывалось, что у такого прекрасного человека, как Вадим Платонович, может быть такой беспутный сын, который ничего, кроме огорчений, не приносит.
Платон с Бубенцовым вернулись с «берега» позже нас. Мы уже лежали на койках.
Фрол встал и пошел к улегшемуся на койку Платону. Тот даже не шевельнулся, а продолжал, лежа на спине, думая о чем-то своем, сосредоточенно исследовать потолок.
– Ты о чем думаешь? – спросил Фрол.
– Ни о чем.
– Оно и видно, что ни о чем! А подумать бы тебе следовало. И оглянуться бы вокруг, Платон, не мешало. Оглянись и увидишь. Из кожи все до одного лезут, чтобы не подводить класс. А ты…
– Ты за меня не волнуйся…
– Да я бы к тебе на сто шагов не подошел, пусть тебя из училища списывают, чище воздух бы был, да вот узнал я твоего батю… Серьезно тебе говорю, Платон: за батю твоего я и тебе помогать согласен.
Платон что-то промычал.
– Нет, не подсказкой, на это ты не рассчитывай! А заниматься вместе по вечерам станем. Молчишь? Ты подумай, какие прекрасные люди с флота пришли, чтобы таких, как ты, моряками сделать. Возьми нашего адмирала – начальника. Сладко слышать ему, что Платон двойками портит класс? Он отца Никиты воспитывал, моего Виталия Дмитриевича; они его иначе, как «отцом», и не называют. А смеешь ли ты так называть адмирала? От тебя и родной отец отречется!
– Да чего ты ко мне привязался?
– Я тебе втолковать хочу, – не отставал от Платона Фрол, – возьми Вершинина, Глухова, возьми ты нашего командира роты – кораблями командовали, крошили врага, а ты им душевное состояние портишь. Честное флотское, я за тебя возьмусь!
– Ты что же, без берега меня оставлять будешь или в карцер посадишь?
– А вот увидишь, что я с тобой сделаю! – рявкнул Фрол.
– Старшина проводит воспитательную работу, – подал с койки насмешливую реплику Бубенцов.
– То, что Фрол говорил Лузгину, и тебе не мешало бы послушать, – откликнулся с соседней койки Игнат. – Стыдно вам! Для чего вы пришли в училище?
Вошел Мыльников:
– Прекратить разговоры! Что за разговорчики после отбоя?
Все затихли.
Проснувшись ночью, я пошел пить. Бубенцов спал раскинувшись, широко раскрыв рот. На меня пахнуло водочным перегаром – и у меня не осталось сомнений, почему Бубенцов клянчит у всех «до получки».
Вдруг я заметил белый квадратик, лежавший на полу, возле койки. Я поднял записку. Угрызений совести я не чувствовал. Это касалось не чьих-либо интересов, а интересов класса.
«Если опять надуешь, Аркадий, – было написано неровным, колючим почерком, – уверяю, что твое начальство узнает…»
Остальное было оторвано.
* * *
На другой день Бубенцов, опухший, невыспавшийся, получил за контрольную работу по навигации двойку.
«Навигатор», лысый, с висячими седыми усами и морщинистым румяным лицом, капитан первого ранга Быков выпустил на флот не одно поколение штурманов. Добрейший человек, старавшийся прикрыть доброту напускной суровостью, он ходил между столами и заглядывал в карты, ворча:
– Тоните, тоните, я вас спасать не стану!
Но двойку поставил только одному Бубенцову.
В перерыв я спросил Платона:
– Ты был вчера с Бубенцовым?
– А уж это – мое личное дело! – заносчиво ответил да тон.
– Нет, Платон, ты комсомолец и должен отвечать за свои поступки. И неужели тебе не жалко отца? Живцов говорит, что он на твоем месте сквозь землю бы провалился. Отец у тебя какой!
– Неплохой отец, – безразлично согласился Платон.
Я вспылил:
– Да вот сын никуда не годится! Ты – ничтожество, которое подчиняется Бубенцову!
– Ну, уж и подчиняется!
Платон ухмыльнулся.
– Платон, твой отец…
Он повернулся спиной. Вот уж, действительно, «маячная башня»!
Бубенцова искать не пришлось: на ловца и зверь бежит.
– Рындин, у тебя тридцати рублей не найдется?
– Зачем тебе?
– Нужно.
– Ну, а все же зачем?
– Говорю, нужно. Мать пришлет – сразу отдам.
– Тебе всегда не хватает! Скажи, ну куда тратишь деньги? Ты у всех просишь в долг, тянешь с матери…
– Читаешь мораль? Игнат номер два…
– Ты ведешь себя недостойно!
– Почему?
– Ты возвращаешься с берега с тяжелой головой, не можешь очухаться, ничего в понедельник не видишь, не слушаешь. Из-за таких, как ты, класс не может выйти на первое место.
Но он продолжал свое:
– Послушай, Рындин, мне очень нужно, выручи хотя бы двадцаткой. Когда-нибудь, не сейчас… я тебе расскажу.
– А сейчас рассказать не можешь?
– Не могу. Дашь мне денег?
– Не дам. Он ушел.
Фрол решительно заявил на бюро, что Бубенцову в комсомоле – не место. С ним соглашались, согласился и я.
Но Глухов, взглянул на дело иначе.
– Простейший выход – исключить Бубенцова, – воспротивился он. – А что вы этим докажете? Что комсомольская организация класса не умеет перевоспитать человека. Вы говорили с ним?
– С Бубенцовым? Не раз.
– Не помогло?
– Нет.
– Значит, не сумели зацепить человека за сердце. Попробуем еще одно средство. Знаете, что я вам посоветую? Соберите актив и напишите письмо его матери…
* * *
Я зашел в наш «курсовой клуб», комнату политпросветработы. Здесь было уютно, светло. Игнат делал выписки из «Морского сборника» и «Красного флота», Гриша Пылаев сосредоточенно читал какую-то толстую книгу. Фрол с Илюшей играли в шахматы. В передовой статье газеты училища говорилось: «Мало знать и хранить традиции прошлого, мало быть достойным их, надо уметь неустанно совершенствовать, обогащать и закреплять эти традиции, наполнять их живым содержанием нашего сегодняшнего опыта, вносить в них новое, свою молодую энергию и волю. Дается это только работой, упорным трудом, неустанной учебой».
«Очевидно, это хорошо понимают Игнат и Пылаев, – подумалось мне. – А Бубенцов? А Лузгин? Поняли ли они? Нет, не поняли и, наверное, понять не хотят…»
В этот вечер мы сообща написали письмо матери Бубенцова.
Заклеив конверт, я отнес письмо в канцелярию.
«Что было бы с моей матерью, – думал я, – если бы она получила такое письмо?» А все же наши воспитатели-коммунисты правы… Лузгин и Бубенцов для нас не потеряны… Мне невольно вспомнилось, как трудно было справиться с Фролом в Нахимовском: и все же он стал человеком. Перевоспитали даже Олега Авдеенко, избалованного маменькиного сынка… А вот я – я все еще не умею найти пути к сердцу товарища…
Глава втораяРАЗМОЛВКА
На другой день мне надо было пойти в подшефную школу организовать кружок «друзей моря». Я пригласил с собой Бубенцова, но он наотрез отказался. Зато Борис пошел очень охотно. Ему хотелось проветриться, а до увольнения было далеко.
Через час мы входили в школу на Суворовском проспекте. Как раз была перемена.
В учительской пионервожатая Зоя, похожая на мальчишку в своей белой блузке и в пионерском галстуке, представила нам подшефных, мальчуганов третьего и четвертого классов.
Ребята радостно загалдели. Осмелев, они стали щупать палаши, золотые якоря на наших погончиках, бляхи.
Школьники так и сыпали названиями кораблей, торпедные катера называли «тэ-ка», а подводные лодки «щуками» и «малютками», доказывая свою полную осведомленность во флотских делах.
Борис по их просьбе принялся чертить на доске силуэты кораблей. Потом показал семафорную азбуку, нет-нет да поглядывая на задорное личико Зои и ее коротко подстриженные, цвета спелой ржи, волосы. В заключение Алехин пообещал приходить в школу каждую среду.
– Поблагодарите товарища Алехина и обещайте с него брать пример, – сказала Зоя ребятам, используя, как опытный педагог, наше посещение в воспитательных целях. – Товарищ курсант отлично знает морские предметы. Уж у него-то наверняка одни лишь пятерки! (Бедный Боренька! Зоя, сама того не подозревая, нанесла удар не в бровь, а прямо в глаз). Вы их предупредите, товарищ Алехин, что заниматься вы будете только с успевающими, а с двоечниками не хотите иметь никакого дела.
Борис страшно закашлялся.
– Вот видите, – подхватила Зоя, и глаза ее стали совсем озорными, – товарищ Алехин никак не предполагал, что среди вас есть двоечники. Почему ты прячешься за спины товарищей, Дойников? Выйди вперед и скажи, что к следующим занятиям ты подтянешься.
Кругленький, как шарик, малыш с бойкими глазками выкатился вперед и отбарабанил, глядя на Зою в упор и краснея не меньше Бориса:
– Да, я обещаю, что подтянусь, потому что хочу быть моряком, а все моряки должны на отлично учиться…
Мы согласились устроить в школе военно-морской кабинет. Среди школьников нашлись добровольцы, горячо убеждавшие, что умеют строгать и выпиливать.
С большим трудом Зоя расчистила нам фарватер. Ребята хором просили:
– Приходите еще!
Выйдя на улицу, мы привели в недоумение прохожих: два курсанта шествовали к остановке троллейбуса в сопровождении многочисленного эскорта!
– Борис! – окликнул я Алехина, когда мы подходили к училищу. – Ты забыл спросить у Зои ее фотографию!
– Зубоскал! – огрызнулся Борис. – Вот мы им отгрохаем кабинет!
– И при следующей встрече двоечников не будет?
– Не будет!
– Ни с той, ни с другой стороны?
– Отвяжись, Кит!
В субботу Лузгин предложил Алехину пойти в город, по Борис отказался.
– Не пойдешь? – удивился Платон.
– Да, и больше ты на меня не рассчитывай.
На бюро утверждали кандидатуру руководителя кружка «друзей моря». Я предложил Алехина. Товарищи удивились. Но когда я рассказал им про Зою и «двоечников», посмеялись и согласились. Все поняли, что Бориса надо увлечь интересной работой. Кандидатуру Алехина утвердили.
В среду Борис раньше всех пришел на Суворовский, осмотрел класс, отведенный под морской кабинет, и принялся за его устройство. Уходя, он пообещал свести «друзей моря» на экскурсию в Военно-морской музей.
«Клюнуло!» – подумал я с радостью.
* * *
Приближался Новый год, а за ним полугодовые экзамены. Классу было далеко до заветной дощечки на двери – с флагом и с надписью: «Лучший класс курса». Это приводило в исступление Фрола. Старшина по-своему стал бороться за «образцовый класс». Он стал раздавать взыскания. Они сыпались главным образом на головы Бубенцова и Лузгина. Но вот Фрол отмерил за какую-то мелкую оплошность взыскание Пылаеву. Я возмутился.
– Послушай, Фрол, сыпать взысканиями – не значит воспитывать класс.
– На этих разгильдяев ничто другое не действует.
– Неправда. Ты же сам видел – стоило зацепить Бориса кружком «друзей моря», и он больше не хватает двоек. А что мешает, по-твоему, Бубенцову?
– Я не поп, чтобы их исповедывать. Это твоя обязанность – взять за ручку, в сторонку отвести и допытываться: «Аркашенька, что тебе мешает учиться? Может, глубокие душевные переживания сердце терзают?» Чепуха! Он думает, я с ним в «козла» играл, так буду поблажки делать? Глубоко ошибается!
– Ты выйдешь на флот – тебе доверят людей; у каждого будут и горести, и заботы…
– Ну, что будет на флоте – не знаю, а класс мне пусть не подводят!
– А, по-моему, ты здесь, в училище, Фрол, находишься в очень выгодном для себя положении. Ты старшина, тебе доверены люди, три десятка людей, это что-нибудь да значит! Разбираешься ли ты в них так, как должен разбираться начальник и воспитатель? Нет. Ты стрижешь всех под одну гребенку. Тебе бы только человек не хватал двоек, да не нарушал дисциплины – и тогда он хорош, а если он один раз совершил проступок – значит, он уже никуда не годится. Нельзя так рубить с плеча, Фролушка. Ты сумей заглянуть каждому в душу – а вдруг он нуждается в твоей помощи, в дружеском совете, в поддержке?
– Сентиментальный вальс! Списали Кузина и Кукушкина из училища – и правильно сделали. Спишут Лузгина с Бубенцовым – не ошибутся.
– Их, по-твоему, и исправить нельзя?
– Долблю их, долблю, никакого толка!
– Ты же знаешь, мы написали матери Бубенцова письмо. Мне кажется, ее ответ подействует куда лучше, чем целая сотня нарядов.
– Не верю!
– А я верю, Фрол. Ты вспомни, как в Нахимовском ты говорил: «Губа для меня – дом родной». А что ты запел, когда пригрозили написать о тебе на флот?
– В огороде, Кит, бузина, а в Киеве дядька!
– Почему? Тебе гвардейцы заменили мать и отца. И если бы они узнали, что ты не оправдал их надежд…
Фрола передернуло – ему эти воспоминания были неприятны. Но я не отставал:
– Помнишь? Только пообещали написать – и подействовало!
– А ты забыл, Кит, ты сам соглашался, что Бубенцова надо исключить из комсомола?
– Да, считал, что надо!
– Ага, тоже считал!
– Я ошибался, Фрол.
– Значит, у тебя семь пятниц на неделе!
– Каждый из нас может ошибаться. Ты тоже.
– Но, но! Я живу по уставу.
– Нет, Фрол, ты не по уставу живешь! Жить по уставу – это значит жить и по сердцу. Наш устав учит внимательно, чутко откоситься к своим подчиненным, к товарищам. А ты превышаешь свои права, пользуясь тем, что тебя считают «бывалым» и любят. Я тебя хорошо понимаю. Ты уязвлен, что класс отстает и не может выйти на первое место, Вершинин хмурятся, Глухов огорчен, Костромской недоволен, но вместо того, чтобы обратиться за помощью…
– К кому?
– К комсомолу, Фрол, который тебя всегда и во всем поддерживал, ты, не раздумывая, нарушаешь устав. Возьми Пылаева. Он воевал, он старше нас на пять лет, он член партии. Проступок его – пустяковый. Я думаю, у него на душе неспокойно, оттого он рассеян и невнимателен, о чем-то задумывается: очевидно, его что-то волнует и огорчает. Я собирался поговорить с ним, а ты его огорчил еще больше. По-моему, ты уподобляешься Мыльникову.
– Кому?
– Мыльникову.
Фрол прямо взвился от страшной обиды: я сравнил его с ненавистным ему старшиной.
– Ну, знаешь, Рындин, всего ожидал, но назвать меня – Мыльниковым!.. Не много ли берешь на себя?!
– Фрол! Я хотел предупредить, что воспитатель, который только кричит, лишь воображает, что руководит. На самом деле, он не уверен в собственных силах…
– Кто? Я не уверен в собственных силах? По-ни-ма-ю, – протянул Фрол чрезвычайно мрачно. – Все вижу. Все ясно вижу. Дает наша дружба трещину…
– При чем тут, Фрол, наша дружба? Ты должен понять меня, мы ведь с тобой комсомольцы. И, я надеюсь, поймешь. Ну, а если не поймешь, – тебе разъяснят на ротном бюро…
– Ах, до бюро дошло дело? Живцов нехорош стал, значит? Живцов – плохой старшина? Не разбирается в людях?
Он накалялся.
– Рубит с плеча? Уподобляется Мыльникову? Оторвался от масс, может быть, еще скажете? Мне, Живцову? Спасибо, товарищ Рындин!
– Фрол!
– Больше нам говорить не о чем! Он в сердцах хлопнул дверью.
Вечером мне понадобился конспект по военно-морской истории. Я подошел к Фролу.
– Фрол!
Он оборвал:
– Не Фрол, а товарищ старшина. Что вам нужно, товарищ курсант?
– Конспект по военно-морской истории.
– Возьмите конспект. Можете быть свободны.
* * *
В первый раз я уходил в увольнение без Фрола. Воздух был чистый, морозный, щипало уши и щеки. Ребята играли в снежки.
– Ты куда, Никита? – догнал меня Гриша Пылаев.
– Домой.
– Пройдемся немного.
Мы пошли по набережной. Нас обогнали девушки с коньками в руках. На пустыре ребята катались с ледяной горки. Афиша на заборе оповещала, что в Кировском театре идет «Лебединое озеро» с Галиной Улановой.
– Вот здесь стоял «Ловкий» во время блокады, – показал Пылаев. – А там, где пустырь сейчас, стоял дом… коричневый, с воротами посередине…
Он закурил и сел на обледенелую гранитную стенку.
– Однажды зимою, еще до войны, мы пошли с «Ловкого» на «Лебединое озеро», тогда тоже танцевала Уланова. У нас оставался лишний билет, и мы порешили отдать первой девушке, у которой нет билета. Она оказалась студенткой, живой, жизнерадостной, разговорчивой. Мы с этого вечера подружились. Я стал бывать у нее. У Гали была мать – аккуратненькая, чистенькая старушка в очках. Жили они как раз в этом доме. Окна выходили на Неву, – он закурил новую папиросу. – Когда «Ловкий» прорвался из Таллина, мы ошвартовались против знакомого дома, и в свободную минутку я забегал к Гале, приносил им еды: сам понимаешь, сидели на блокадном пайке. Пришла зима, корабль вмерз в лед, но мы, как могли, готовили свой «Ловкий» к бою: сходили за Неву на завод, привели стариков-мастеров. Делились с ними пайком и учились у них. Ремонтировали котлы. И выпускали газету, проводили собрания, принимали товарищей в партию… С Галей встречались мы редко. Иногда, в условленное заранее время, я выходил на палубу и видел ее, закутанную в пуховый платок, в огромных валенках – махнет, бывало, рукой, вот и встреча вся. И тогда я, Никита, понял, что не могу без нее жить, хотя между нами на эту тему не сказано было ни слова. Мать ее умерла. И я думал: «Только бы Галя выдержала!» И она пережила зиму. Очень похудела, изменилась она…
…А тут и весна пришла, лед стал чернеть, ремонтные работы закончились. Веселее на душе стало! Но фашисты все чаще налетали на город. Как сейчас помню самый страшный налет. Подходили волнами, пикировали. Грохотали орудия, были убитые и раненые, словом, всего не расскажешь. Вдруг по палубе и надстройкам как загрохочет! Меня чем-то по голове стукнуло, я свалился. И вот все затихло, самолеты ушли… Кое-как поднялся, кругом раненые стонали, санитары сбивались с ног. Палуба была вся засыпана битыми кирпичами. А на набережной… на набережной, Никита, от знакомого дома осталась лишь куча мусора и камней…
Он закурил еще одну папиросу.
– И все мне, Никита, кажется: а вдруг Галя чудом жива? Вдруг живет где-нибудь, ходит по улицам, а я никак встретить ее не могу? И тогда учебники у меня из рук валятся и конспект иной раз пишу так, что едва сам могу в нем разобраться…
Он встал, прошел несколько шагов, вернулся.
– А в море вы вышли?
– Вышли! Ох, и громили же фашистов! За все! За город наш, за погибших людей!.. Вот рассказал тебе, стало легче. Тяжело это носить все в себе! – скомкал Гриша выкуренную папиросу. – Ты знаешь, кто раньше всех понял, что творится у меня на душе?
– Кто?
– Глухов. Умеет понять человека… словно родной отец! Да, как родной отец, – повторил Гриша, – отца-то меня давно нету…
* * *
Когда я пришел на Кировский, мама первым делом просила, где Фрол.
– Мы поссорились.
– Поссорились? Почему?
Я рассказал ей о причинах размолвки.
– Ну, что ж, Фрол в конце концов все поймет.
– Ты думаешь?
– Я уверена. Вы снова будете друзьями, как прежде, разве вы оба не комсомольцы?
Да, оба мы – комсомольцы. Но кто из нас виноват? Фрол? Конечно, он не сумел сплотить класс, он зазнался, он упрям и не хочет признать, что неправ и нарушает устав, но и я виноват не меньше его. Я, комсомольский руководитель класса, не сумел найти со старшиной общего языка и помочь ему так, как, наверное, помогает Глухов Вершинину. Вместо того, чтобы по-дружески вразумить его, я назвал его Мыльниковым. Глухов никогда бы такого себе не позволил… А потом – ведь и я отвечаю за класс, и каждый проступок, каждую двойку товарища поставить можно в вину не только Фролу – и мне…
– Ты о чем задумался? – прервала мама мои размышления.
– Да так, о делах комсомольских, мама. Ты ходила профессору?
– Ходила. Но его нет в Ленинграде, он уехал Москву, на врачебный съезд, говорят, скоро вернется, а у меня опять ничего не болит… Ты придешь домой встречать Новый год?
– Да! А можно, мама, позвать товарищей?
– Конечно, сынок! Я хочу, чтобы тебе было весело.








