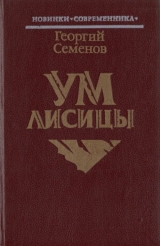
Текст книги "Ум лисицы"
Автор книги: Георгий Семенов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 35 страниц)
Жертва истории

Майское полнолуние очень беспокоило Клавдию Александровну Калачеву. С приближением ночи она чувствовала себя так, будто надвигалась грозовая туча. Зашторивала наглухо окна и, слыша, как в овраге гулко щелкает рассыпчатыми трелями соловей, затаивалась над библиотечной книгой, осторожно перелистывая ветхие страницы. Но понять что-либо из прочитанного не могла. Душа ее была так далека от книжных страниц, что она не только понять, но и прочесть толком не в силах была ничего, пребывая в тревоге и странном волнении, зная, что ночью ей опять не удастся заснуть.
– Полнолуние, – говорила она с вялой улыбкой на другой день, если у нее спрашивали, не больна ли она. – А когда полнолуние, человек не спит две ночи до него и две ночи после. Я очень мучаюсь.
Говорила так, будто она только и была человеком, а все остальные жили на свете с более ясным и простым предназначением, никогда не испытывая радость в такой мере и никогда не пугаясь так, как радовалась или пугалась она одна.
Полнолуние врывалось в ее жизнь стихийным бедствием, перед силой которого все ее собственные силы превращались в ничто, а стонущий в испуге мозг молил небо о пощаде. Только вспышки ночной молнии и грохот грома приводили ее в подобное смятение и страх.
Если же она, застигнутая тьмою, видела за лесом, за силуэтами черных елок светящийся в ночи, яростно сияющий круг, она отворачивалась в ужасе, ища спасения во тьме. Но огромная луна, поднимающаяся над лесом, чудовищно грубым и резким блеском словно бы пронизывала ее насквозь, горяча кровь, которая с такой силой начинала пульсировать, что ей трудно становилось дышать и она боялась за свои иссякающие силы. Она убыстряла шаткий шаг, но чувствовала, что и луна тоже, приплясывая, перекатывалась за колючими силуэтами высоких елок, которые на своих лапах словно бы играючи подбрасывали, перебрасывали, перекидывали четко очерченный в темно-синем небе шар, избавиться от которого можно было только в освещенном доме, спрятавшись за прочными его стенами, за плотными синими гардинами.
О себе самой Клавдия Александровна Калачева говорила, что она – жертва истории.
– Смешно звучит, – прибавляла она с печальной улыбкой. – Но это факт: именно жертва истории.
Седая ее головка с пышной, серебристо-белой, волнистой прической, которая, как это ни странно, молодила Клавдию Александровну, всегда была чуть-чуть склонена на правый бочок, а глаза по-девичьи опущены долу. На плечах душистый оренбургский платок дымчатого цвета, кружевной воротничок на платье английского покроя.
– Неважно, какая ткань, хорошая или не очень, важно, где и как сшито платье. Тот, кто понимает, тот понимает. Это дано или не дано – середины тут нет.
Туфли на неизменно высоком каблуке, напряженные струнно-длинные мышцы, играющие в легкой торопливой поступи, головка с блистательной сединой, потупленный взгляд скромницы или величайшей гордячки – такова была Клавдия Александровна, эта милая жертва, которую побаивались и уважали сослуживцы. А работала Калачева секретарем-машинисткой в крупном институте, у руководителя очень серьезного отдела, была чрезвычайно внимательна, корректна, исполнительна и помимо основных своих обязанностей брала на себя обязанности стенографистки на совещаниях, за что получала надбавку к зарплате или, как она любила говорить, гонорар.
Она много читала, не пропуская и новинок современной литературы, были даже годы, когда выписывала «Новый мир» в жесткой обложке. К литературе последних лет относилась крайне критически, называя многие сочинения литературой вприсядку, но при этом внимательно все прочитывала, с брезгливой насмешкой перелистывая страницы толстых журналов, от которых ничего хорошего она не ждала.
Все книги, стоявшие на полках в ее комнате, были давно прочитаны, новых она не покупала, брала в библиотеке свежие журналы или старые романы с распухшими, тряпично-дряблыми страницами, сулившими наслаждение.
Но когда надвигалось полнолуние, Клавдия Александровна бедствовала ужасно, глотая успокоительные таблетки, которые, увы, не оказывали должного воздействия, как будто не луна выкатывалась на чистое небо, а вселенская катастрофа грозила ей гибелью.
Она понимала, конечно, что природа слишком велика, чтобы быть только нежной и приятной, подходящей на все случаи жизни. Любила зимние метели со снежной поземкой, с дымящимися сугробами, летние и осенние дожди или нестерпимый солнечный зной. Но даже воспоминание о ночной тишине, о соловьином овраге, освещенном прожектором круглой, всевидящей и вездесущей луны, вселяло в нее тревогу. Она старалась успокоить себя, думая, что ей, в общем-то, повезло родиться в тот миг бесконечной жизни природы, когда еще поют соловьи, гремят грозы, распускаются ландыши и высыпают грибы; когда все человечество сидит за рулем автомобиля, а в недрах земли есть еще запасы нефти; когда летают майские, шелковистые на ощупь, серебристо-коричневые жуки и толкутся комарики, – но тщетно. Душа не в силах была примириться с тем ужасом, какой наводила на нее полная, задумчиво-круглая луна, которая, как ей казалось, высматривала на земле, искала и находила только ее одну, ни в чем не повинную, одинокую женщину, вынужденную прятаться от безмолвного нашествия равнодушного губительного света, вызывавшего в ней тяжелое заболевание – смертельную тоску. И ей было страшно сознавать, что никто из ее знакомых никогда не испытывал ничего подобного, а некоторые даже уверяли, что любят гулять майской ночью, когда в небе полная луна.
– Смешно как, – говорила она в этих случаях, уйдя взглядом в глубину своих раздумий. – Смешно как. Значит, я одна такая ненормальная. – И думала при этом, что, видимо, знакомые люди недостаточно чувствительны и в некотором смысле недоразвиты, не доведены эволюцией до той остроты чувственных переживаний, какими в полной мере обладала она, отзывающаяся на любое явление природы легко, как сверхтонкая мембрана.
– Клавдия Александровна, голубушка, – говорил ей вечно занятый, сипящий в одышке руководитель, отдавая на перепечатку доклад. – Тут надо бы такую идейку подкинуть, чтоб она смотрелась.
– Что значит смотрелась?
– Ну да… Я это так выражаюсь… Что-нибудь, Клавдия Александровна… Чтоб красивая, заманчивая была идейка… Нет так нет! А если вдруг придет в голову… У меня, например, голова – арбуз, замотался! Сами знаете… Получится – да, а нет – и ладно. Умеете, умеете, Клавдия Александровна! Ни минуты свободной! Вы ход моих мыслей знаете? Вот в этом ключе, чтоб ребята шли на производство, а не лезли в институты… и тому подобное… Клавдия Александровна! Не в службу… У вас головка умненькая, серебряная. А за мной не заржавеет…
– «Смотрелась», «не заржавеет»! Что за выражения, Игорь Степанович! Когда вы избавитесь, честное слово? – говорила Калачева, конечно же обольщенная своим медведем, как она называла Игоря Степановича, хотя и хмурилась и сердилась, показывая всем своим видом, что задача эта не под силу ей и вряд ли она справится, прекрасно зная, что справится и придумает что-нибудь, разукрасит, доведет до ума те тезисы, которые доверяет ей Игорь Степанович, человек измотанный, уставший и рассеянно-приятный, словно вышедший в жизнь со страниц какой-то старой книги, прочитанной еще в детстве.
– Мой любимый парадокс знаете? А? Надо знать! Половина больше целого, – говорил он, выпуская изо рта зловонный дым сигары. – Как так? А вот! У половины есть вторая половина. А у целого ничего нет. Вот я, к сожалению, это самое целое – никаких резервов. Спросите у меня, как я живу. Я отвечу: как трактор – без запасных частей.
Он был похож на старого картинного Черчилля и, может быть, поэтому курил сигары. Принимал даже позы Уинстона – разваливался в кресле, выставляя челюсть с погасшей сигарой, сопел, свернув толстую шею вбок. «Ах, Игорь Степанович, до чего же вы похожи на Черчилля». Он только отмахивался, хотя казалось, что это ему приятно. В носу сипел выпускаемый воздух с дымом, глаза наливались смущением.
– Я не занимаюсь политикой, – отвечал он, перебарывая одышку. – У меня для этого нет хорошо вооруженной армии… Вы же знаете, Клавдия Александровна! Иначе я, душечка, сделал бы вас маршалом.
Клавдия Александровна улыбалась, потупив взор, а сама думала при этом, вспоминая известное изречение, что избыток ума равносилен недостатку оного.
Это умение Игоря Степановича говорить обо всем, но только общими словами, не переходя на конкретные дела, которые творились как бы сами собой, за кулисами жизни, эта начальственная привычка нравилась Калачевой, как будто ей каждый день предлагалась приятная игра, в которой она исполняла роль доверенного лица добрейшего и умнейшего руководителя.
Как всякий бездеятельный человек, Игорь Степанович все время куда-то спешил, задавал вопросы, но не ждал на них ответов, пребывая в постоянной рассеянности, будто впереди у него уйма важных дел, хотя главные его дела были у всех на виду. Но такая уж у него была натура.
Клавдия Александровна верно и преданно служила своему медведю, не замечая за собой, что верность ее со временем превратилась в простую доверчивость, а преданность – в покорность. Она никогда не задумывалась о том, куда ведет этот милейший человек то дело, которому они служили, – к гибели или процветанию. У нее тоже был всегда на уме знаменитый парадокс, смыслу которого она старалась следовать в жизни: нищий раздает – богатый нуждается. И ей было приятно сознавать себя нищей в том христианском понимании этого слова, которое имеет в виду человека смирившегося, отбросившего всякую гордыню, покорившегося судьбе. Она и в самом деле ни в чем не нуждалась и способна была только раздавать, что имела. Ей иногда, правда, казалось, что она очень злая, раздражительная женщина, бессмысленно прожившая жизнь и никому не сделавшая ничего хорошего.
Кстати, надо, конечно, рассказать, почему Клавдия Александровна Калачева называла себя жертвой истории. Дело в том, что двухэтажный московский дом, в котором когда-то жила семья Калачевых, подлежал в тридцать девятом году сносу по плану реконструкции. Красная черта, как говорила Калачева, проходила как раз посередине ее довоенной комнаты. Их было четверо: брат с женой и сыном и сама Клавдия Александровна. На четверых им дали десять тысяч рублей, по две с половиной тысячи каждому, определили участок под Москвой, помогли со стройматериалами и сделали их, коренных жителей Москвы, владельцами четырехкомнатного подмосковного домика с земельным участком, который покато пластался на склоне оврага, заросшего черемухой и старыми ивами. Хотели они того или нет – никто у них не спросил. Конечно, они горевали, покидая Москву, которая, раздвигая ширину своих улиц, поломала привычный их быт и жестоко обошлась с ними, словно они были неодушевленными предметами, помешавшими росту ожившего великана. Каменный город отшвырнул их в сторону и не заметил этого. А Калачевым было очень обидно сознавать такое равнодушие. Непривычные к сельской жизни, они очень скоро научились выращивать картофель, морковь, огурцы и даже патиссоны, не говоря о всевозможной зелени: петрушке, укропе, луке и чесноке. На участке у них созревал крыжовник и малина, а весной сорок первого зацвели яблони и вишни.
– Семья рассеялась по дороге, – грустно говорила Клавдия Александровна, никогда никому не рассказывая о гибели брата в сорок втором году, о смерти его жены, об офицерской жизни племянника, который служил на западных границах, редко приезжая к старой тетке, к коке, как он называл свою крестную мать. «Рассеялась по дороге» – вот все, что знали люди о прошлом ее семьи.
Военные и послевоенные годы Калачевы пережили легче, чем москвичи, если не считать, конечно, гибели Миши: огородец был серьезным подспорьем в нелегкой их жизни. Они не раз благодарили судьбу, которая когда-то вышвырнула их из Москвы. Войска противовоздушной обороны, стоявшие в поселке, порой пошаливали, обирая малиновые кусты или обтряхивая яблони, начавшие в сорок третьем году плодоносить. Клавдия Александровна, набрав в корзину маленьких яблочек, приходила на аэростатный пост и смущенно жаловалась командиру, который казался ей тогда старым; тот, принимая подарок, уверял, что девушки его не могли лазить в сад, и отдаривался хлебом. Но мелкие неприятности никак не отражались на общей жизни Калачевых, оплакавших к тому времени гибель мужа, отца и брата. Один в трех лицах, он навсегда остался для них, и особенно для Клавдии Александровны, тем непревзойденным идеалом человечности, к которому они всегда обращались с чувством поклонения мученическому образу своего защитника, как если бы он был причислен к лику святых и мог творить чудеса на грешной земле. Клавдия Александровна словно бы канонизировала его своей волей и своевластием, вписала туманно-неясной фреской в сознание и с религиозным мистицизмом несла по жизни, уверенная в том, что никто из ныне живущих не чтит так свято память погибших своих воинов, как делает это она, безвестная жертва истории, единственная и неповторимая, которой вдруг ни с того ни с сего приходит на ум бередящая душу мысль, что она слишком злая и раздражительная женщина. Случается это, как правило, перед очередным полнолунием.
Ей становится невмоготу, и тогда она старается всем угодить, насилуя себя ласковым поведением, добротой и открытой сердечностью.
– Ах, какая у вас хорошая кошечка, – говорит она соседке, на коленях у которой жмурится желтая кошка.
– Мальчик, – солнечно отвечает соседка. – Сама видела, как он с девочкой кадрился… Мужчина это. – И ласково смотрит на лентяя.
– Ах, это котик! Вот какой лобастенький, мурлыка. Все-таки какой у нас воздух! Приедешь из Москвы, и душа радуется. Сиренью пахнет. Соловьи поют.
Соседку свою она почему-то считает старенькой, хотя той недавно исполнилось всего лишь пятьдесят девять лет, на один год больше, чем самой Клавдии Александровне. Себя она видит еще молодой, а когда узнает случайно, что какой-нибудь старушке, которая казалась ей совсем уж древней, примерно столько же лет, сколько и ей, она удивленно переспрашивает, не веря своим глазам, и с брезгливостью думает, что женщина эта не следит за собой и выглядит поэтому старше своих лет.
Как перед тяжелым припадком, возбуждена Клавдия Александровна и неестественно добра. Готова присматривать за соседскими детишками, ластится к ним, заигрывает, выпрашивает любовь и ответную ласку, делая это с той неумелой чувствительностью, какая отличает женщин, никогда не рожавших своих собственных детей.
А Клавдия Александровна не была ни матерью, ни женой, хотя и скрывает от людей одну романтическую историю. Сама она вспоминает с неохотой об этой истории, но и не сопротивляясь, как о приятной безделице, которую никогда уже не вернешь и в которой ничего не заменишь, но которая зачем-то нужна была в ее жизни, оставив ощущение родства со всем миром сущих на земле.
– «Мое творчество, мое творчество! – любила она пародировать кого-то. – Ах, мое творчество!» Смотрю на актрисулечку, и в чем бы она ни была: в дубленке, в бальном платье, в пелерине, – все равно на ней домашний халат и тапочки… знаете, такие размятые, расшлепанные грязные тапочки… Может быть, это от излишней сексуальности? Или от плебейства? Не знаю. Все домой, да здравствуют халат и тапочки. Привычка, может быть?
– Клавдия Александровна, ну почему вы такая злая? – простодушно задавал ей кто-нибудь этот милый вопросик.
– Я? Злая?.. Тебя бы в мою шкуру, посмотрела бы. Злая!
– А что в вашей… этой самой?
– В шкуре? Сколько там? Несколько литров крови… Разве нет? Белка в колесе… Карамзин говорил, история злопамятней народа… Народ не помнит зла, а история помнит и ничего не прощает. История злопамятна. История в моей шкуре, в крови… У меня зубы грызуна, такие же сильные и крепкие, острые, но я никого не кусаю, а только орешки. И все! Не те зубы, хотя на вид и те… Все это в шкуре, в моей… Ну что еще там? Не знаю. Идеалы, наверное! Да, конечно, идеалы! У меня сохранились идеалы, потому, может быть, может быть… я кажусь злой? Странно. Совсем не знаю себя, не вижу, не чувствую… Всю себя до донышка отдала людям, а люди не поняли… Жертва истории! Это смешно звучит. Я понимаю. Мне депутатом каким-нибудь быть, я бы себя показала.
Вещей и вещичек со временем накопилось в ее доме так много, что они обрели способность исчезать, прятаться, как будто стали живыми и играли с хозяйкой от нечего делать. Ищет, ищет она какую-нибудь вещичку, перероет весь дом, а ее и след простыл – нет нигде. И лишь спустя время вещичка вдруг сама покажется на глаза: вот она я. Где была? Где пропадала? А нигде. Среди вещей спряталась, меня и не заметили. А я тут лежала на виду.
Клавдия Александровна останавливалась в таких случаях и, закрыв глаза, давила пальцами на виски, стараясь понять, что же такое с ней происходит: не старость ли?
«Циклон, – думала она без всякой связи, – это, кажется, область пониженного давления. – Антициклон – повышенного… Так, что ли? Или наоборот?»
За вечер вторая гроза надвигалась со стороны Москвы. Деревья не успели просохнуть, а небо набрякло опять погромыхивающей тьмою, и все притихло, как будто это надвигалась сама ночь.
Один только соловей не умолкал в овраге. Деревья, нежной листвой распластавшиеся на темном шелке тучи, казались золотисто-зелеными, вытканными яркими соломенными нитями – так темна и водянисто-тяжела была туча, охватившая уже полнеба и сотрясающая землю громами. В этой зеленой и синей тьме, в прохладе захламленного оврага гулко щелкал и разливался невидимый соловей. И чудилось, будто песня его пахнет мокрой сиренью.
Клавдия Александровна, вслушиваясь в нескончаемый упругий поток однообразно повторяющихся звуков, очередность которых она могла уже угадывать, думала со страхом, что соловей не поет, как считала она до сих пор, а что-то упрямо и настойчиво втолковывает своим соперникам, что-то им говорит в отдалении. Гром подавляющей своей силой наваливался на пронзительно нежные звуки соловьиного голоса, глушил их безжалостно, и казалось, соловей замолкнет теперь навсегда. Но он не умолкал ни на миг, зная по-своему, что именно он тут главное действующее начало, неистребимый сгусток жизненной энергии, которую невозможно уничтожить. Он как будто не замечал адского грохота и ослепительных вспышек молний.
И когда Клавдия Александровна думала так о соловье, ей становилось стыдно быть рядом с ним и понимать себя человеком, принадлежать к великому и всесильному роду, который уже изобрел средство для погибели всего живого на земле, средство ужаснее всех гроз на свете, способное испепелить жизнь на планете и убить песню этого соловья, который пел в овраге, зная, что он тут хозяин и ему принадлежит будущее. Ничего не останется от соловьиного звука… Умрет вселенная…
Стыдно было за трусливое существо, которое в непосильной борьбе с собственным страхом с помощью изощренного мозга уже создало разрушительную энергию, которая, вместо того чтобы избавить от страха, усугубила этот страх, доведя его до отчаяния, когда на первое место в сознании всего человечества выступила вдруг безобидная кнопка, превратившись в символ самоуничтожения и исчезновения всякой жизни на земле.
Клавдия Александровна затворила и зашторила окно, выходившее в овраг, но и сквозь рамы слышно было соловьиное щелканье в промежутках между раскатами грома, пока все звуки не утонули в шуме тяжелого водопадоподобного ливня. Даже громы как будто отсырели и поутихли, и только молнии раздирали тьму электрическими конвульсиями, до смерти пугая несчастную, которая лежала на деревянной кровати, потеряв всякую способность о чем бы то ни было думать, кроме грозы, кроме молний и громов, понимая себя в эти минуты мишенью. О каждом разряде молнии она думала как о промахе, как об отсрочке неминуемой своей гибели, в ожидании которой жизнь уже покинула ее, ничком лежавшую на неразобранной постели.
«Господи, за что же мне такое наказание!» – думала она утром, шатаясь от слабости и проклиная грозовую ночь, в чистых просторах которой, когда утихали громы, мышью скользил повсюду лунный свет. Она, не видя, видела его. С закрытыми глазами видела срывающиеся с крыши, посверкивающие в лунных лучах капли, мокрую крышу, залитую ртутным, смертельным блеском, и не могла скрыться от этого наваждения, спрятаться и не думать о нем. Мозг ее сам рисовал устрашающие картины, пугая Клавдию Александровну, словно бы забавлялся веселой игрой.
– Какая сегодня гроза была ночью, – говорила она Игорю Степановичу, жалуясь на бессонницу. – Вы мне сегодня ничего важного не доверяйте, пощадите меня.
– Гроза? – удивленно переспрашивал Игорь Степанович. – Какая гроза? У нас даже капельки не упало.
– У вас хороший сон.
– Не в этом дело. Я знаю, никакой грозы не было. Все сухо! А дождь как раз нужен, очень пыльно… Дождь!
– Уж вы все-таки позаботьтесь, Игорь Степанович, о тех малых, голоса которых замирают на расстоянии, – с печальным кокетством говорила Клавдия Александровна и устало улыбалась. – Никаких сегодня сил.
– Хорошо, я учту, – отвечал он тоже с улыбкой.
Когда в лесу зацветала медуница, Клавдия Александровна поддерживала свои силы, поедая в больших количествах нежные первые лилово-розовые цветы. Кто-то ей сказал, что в медунице содержится много витаминов, и она поверила в расхожий бред, выедая целые поляны весенних цветов. Она крадучись приближалась к зарослям медуницы и, воровато оглядываясь по сторонам, вытягивая шею, как полудикая кошка, которой достался кусок мяса, рвала с корнями цветы, запихивая их в сумку жадно и торопливо, словно кто-то другой мог покуситься на ее добычу. Дома она промывала цветы, рубила их ножом и, подсолив, ела со сметаной, испытывая странное наслаждение, как если бы делала что-то противоестественное, запрещенное нравственными законами людей. В ней словно бы просыпались атавистические чувства, когда она поедала эти первоцветы, над которыми недавно жужжали лохматые шмели, пробудившиеся после зимнего оцепенения; ела то, что нельзя было есть людям, чувствуя себя бесстрашной преступницей, чуть ли не пьющей живую кровь, которая укрепляла жизненные ее силы. Этого никак нельзя было делать, она это знала, потому что медуница, как и ландыш, охраняется законом, но искушение было слишком велико. И когда в ольховых чащобах или в орешнике распускались первые сиренево-розовые цветы, ласково светящиеся на бурой подстилке из прошлогодних листьев, сердце ее заходилось в охотничьем азарте и она, не помня себя, устремлялась к этой красоте, думая лишь о сметане, за которой надо идти в магазин.
Цветущая весна под сметаной как будто и в самом деле прибавляла ей энергии. Во всяком случае, Клавдия Александровна была уверена в восстановлении упавших сил, вообще к еде относясь как к воскрешающему началу, а к подмосковным подснежникам, распускавшимся раньше всех лесных цветов, даже испытывала таинственную любовь, радуясь, если находила в лесу никем не тронутые, рдеющие под ногами ковры медуницы. Порой ей чудилось, когда она с оглядкой рвала безуханные цветы, что весенний лес улыбается, радуясь вместе с ней, и как бы поощряет ее, верящую в целебную силу подснежников, словно она была его избранницей, которой он открывал свои тайны. Пепельная улыбка касалась ее глаз, когда она чувствовала лесную любовь к себе, к истовой поклоннице природы.
Со временем в окрестных лесах заметно поубавилось медуницы, единственной кормилицы проснувшихся шмелей, но Клавдия Александровна и подумать не могла о своей вине и оскорбилась бы, если б кто-нибудь упрекнул ее. Более того! Она при случае язвительно нападала на человечество, которое в конце концов погубит природу в своем неукротимом стремлении к комфортабельной жизни, говоря всякий раз об этом человечестве так, точно оно было глупой биомассой, не ведающей, что творит на своем пути к совершенству, безумствующей в прихотях, которые неизбежно приведут глупую биомассу к самоуничтожению, если она не прекратит издеваться над природой.
– Природа превратится в труп, – говорила она с энергичной насмешкой в голосе. – В смердящем трупе задохнется человечество. Оно не выдерживает испытания на простую сообразительность, губит самое ценное – природу. А если так, то, значит, человечество на земле – чья-то ошибка, которую нужно исправить. Пусть живет только тот, кто способен жить в мире и согласии с природой. Какие еще могут быть варианты? От этого никуда не спрячешься: или – или…
Но, говоря так, Клавдия Александровна безотчетно подразумевала, что сама она к этому безмозглому человечеству не принадлежит и вполне способна в отличие от других жить в мире и согласии с природой.
Такой завышенной самооценкой грешат, впрочем, многие жители планеты, обвиняющие во всех бедах некое умозрительное человечество, но отнюдь не самих себя. А потому нельзя, конечно, уж очень строго осуждать Клавдию Александровну в невольном ее заблуждении – она всего лишь одна из многих миллионов, не более того.
Но порой ненависть к тупой биомассе заходила так далеко, что Клавдия Александровна, возбужденная весенним салатом из медуницы, придававшим ей небывалые силы, брала чистый лист бумаги, шариковый карандаш, зажимая его в пальцах левой, непривычной к работе руки, и, задыхаясь от волнения и злости, начинала выводить на бумаге каракули, которые должны были сразить ненавистного ей почему-либо писателя.
Этим делом она стала заниматься не так давно, в одну из майских бессонных ночей, когда измученные нервы бросили ее однажды к столу, требуя немедленного действия, словно что-то вскричало в ней: «А почему я одна должна мучиться?! Не хочу! Пусть другие тоже, тунеядцы проклятые, помучаются. Хватит!»
Так началась вторая ее жизнь, которая каким-то невероятным образом доставляла ей то же наслаждение, какое она испытывала весной, когда рвала и ела медуницу. Вторая эта жизнь заключалась в том, что Клавдия Александровна писала анонимные, пасквильные письма. Она разработала несколько вариантов почерка, должных характеризовать людей из разных социальных слоев, и, избрав себе жертву, впивалась в нее когтями своих писем, делая это с маниакальным сладострастием, будто видела, как видела лунный свет, искаженное негодованием лицо адресата, прочитавшего ее послание. Страсть эта так захватила ее, что Клавдия Александровна стала со временем выкидывать дешевенькие шариковые карандаши, которыми писала то или иное письмо, заметая таким образом следы, стала отправлять письма из разных концов Москвы, не жалея времени на дальние поездки. Сердце ее безумно колотилось, дыхание спирало грудь, когда она опускала письмо в почтовый ящик, словно не пасквиль отправляла по почте, а признавалась в любви давно любимому человеку, желая остаться в неизвестности.
После этого скрытного акта, когда она понимала, что дело сделано и вернуть письмо уже невозможно, она чувствовала сладостную истому и физическую слабость во всем теле.
– Клавдия Александровна, вы беспощадны, – говорили ей, когда она выступала против человечества. – У вас прямо-таки колюще-сосущий аппарат вместо язычка, как у клеща какого-нибудь. Именно колюще-сосущий… Уж вы бы лучше молчали. Живой язычок, но без слов – это вам больше подойдет. Без слов, но живой! Как хорошо!
В таких случаях Клавдия Александровна не оставалась в долгу и отвечала очень грубо:
– Выкидыш, вот вы кто! Выкидыш цивилизации. Из-за таких, как вы, и погибает мир. Вам бы что-нибудь послаще, а я не кондитер, милостивый государь. Вы не по адресу. И не морщите свой пятак, не боюсь.
В письмах Клавдия Александровна варьировала не только почерк. Она и лексикон подбирала соответственно тому или иному почерку, достигнув в этом трудном деле заметных успехов. Полудетский почерк без знаков препинания и с нарочитыми ошибками она снабжала таким содержанием, какое обычно отличает человека простого, малограмотного, но не потерявшего совесть и чувство справедливости.
«И не стыдно вам, так называемый писатель, выставлять свою наглую рожу с убитыми птицами? По всей земле сейчас бьют в колокола об охране природы, лучшие умы заняты этой проблемой, а вот такие хмыри и тунеядцы уничтожают ее. Не в аппарат пялься, а посмотри, кого ты, лопух, убил. Тебя за это не на карточку… – Клавдия Александровна задумывалась, перечитывая написанное, и, не уверенная, нужно ли расставлять знаки препинания в простецком этом письме, продолжала: – Тебя за это не на карточку снимать, а врезать раза между глаз твоих поросячьих. Постыдился бы хоть называться, на всю страну позориться. Всех вас вместе с вашим альманахом на цепь посадить и намордник надеть».
Она снова перечитывала написанное, слыша, как колотится сердце, спотыкаясь в ритме от волнения, и, словно после резвой пробежки, никак не могла отдышаться. Ей очень нравилась строчка, пришедшая неожиданно и так кстати: «…врезать раза между глаз твоих поросячьих». Перед внутренним ее взором сразу вставал немолодой уже, строгий и сердитый мужик, который мог бы именно так грубо и зло выразиться – врезать раза. Женщина так не скажет, думала Клавдия Александровна, довольная собой и своим сочинением. И «альманах» тоже пришелся кстати. Такие люди, от имени которых она писала, любят вставлять в свою речь не очень понятные им слова: «альманах», «лучшие умы»… Ее несколько смутил оборот «так называемый писатель», потому что вряд ли воображаемый автор письма употребляет его в обыденной своей речи, а тем более в письменной. Она нахмурилась, прикусила нижнюю губу, но подумала: а почему бы и нет? Оборот этот сейчас очень распространен, автор вполне мог усвоить его, и успокоилась. Что еще? Может быть, слово «аппарат» написать с одним «п»? Орфография и синтаксис вроде бы не соответствовали стилю и содержанию письма – ни одной ошибки. Это подозрительно. Но в то же время пишет человек читающий, а стало быть, грамотный. Да и нет в письме особо сложных форм, все написано четко и ясно, и, пожалуй, придраться тут не к чему. Именно грамотный, умный и озабоченный человек, доведенный до бешенства, мог написать так грубо и испепеляюще злобно, то есть врезать раза, чтоб было больно.
Фамилии, которыми Клавдия Александровна подписывала письма, она никогда не выдумывала. И в этом случае машинально поставила знакомую, изменив только инициал, – В. Мокеев. Подумала и добавила: «Кто же теперь книжки твои в руки возьмет после этого? В. М.»
Письмо получилось вполне натуральное: крупные буквы шатались, как пьяные, говоря об авторе письма, что он редко берет в руки карандаш, расположение строчки на листе бумаги тоже могло подсказать, что человек редко пишет и не приучил свою руку к расчетливой строке – одно словечко, которое требовало переноса, загнулось книзу и получилось оно как бы с повисшим хвостиком, что тоже, конечно, о многом могло сказать внимательному читателю.






