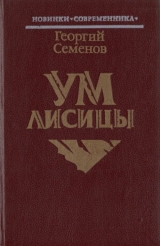
Текст книги "Ум лисицы"
Автор книги: Георгий Семенов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 35 страниц)
– Стоп, – сказал я, когда он силой стал удерживать Марию. – Ты, Сашок, большой кретин! Я достаточно понаблюдал за тобой и сделал выводы. Дела твои плохи, Сашок! Ты кретин, – говорил я так спокойно, что еле дышал. – Ты не учел малости. Твоего шефа я хорошо знаю… И если ты еще одним пальцем дотронешься, слышишь? дотронешься до этой женщины, если ты еще раз попробуешь шантажировать ее, твой шеф, или, как ты говоришь, Мухомор, а заодно и его жена будут знать о тебе все.
Брезгливо-испуганная улыбка дрожала на лице обескураженного парня, пиявки змеились, вытянувшись поперек бледнеющего лица, глаза щурились и темнели. Я протянул руку и резко, неожиданно для самого себя, ударил его пальцами по щеке. Он не пошевельнулся, сморгнув, как слезу, эту пощечину. А мне уже было все равно. Я понес его со всем безрассудством, на какое был способен в эти отчаянные минуты.
– Ты сволочь и негодяй! – говорил я, задыхаясь. – Лакейская душонка! Я тебя убью, как комара, если ты еще раз…
– Ошибаешься, дядя, – сказал вдруг опомнившийся Сашка. – За оскорбление, знаешь… Это ведь как поглядеть… Освободи помещение! – закричал он благим матом и побежал зачем-то на кухню, загремел там чем-то железным.
Мы были уже возле двери, когда он, взбешенный, вылетел и со звериной злобой замахнулся на меня трехкилограммовой гантелью. Он, конечно, убил бы меня, если бы хватило мужества и решительности и если бы Мария не кинулась между нами, завизжав так громко, что визг ее услышан был в доме. Я тоже, увы, вел себя не лучшим образом и, вместо того чтобы выбежать из квартиры и рвануть на себя обезумевшую Марию, отпихнул ее и сделал шаг навстречу одичавшему Сашке.
– Не подходи! – услышал я сопящий его голос и – не знаю, животным, наверное, чувством – понял в это мгновение, что он боится больше, чем боюсь я… Боится не меня как такового, а тех последствий, какие ждут его в случае исполнения угрозы. – Убью! Не подходи!
– Ты все понял? – спросил я у него, не отдавая отчета, зачем мне это нужно. – Хорек! – сказал, как выплюнул в лицо, со всем презрением, на какое был способен. Все, что накипело, вложил я в это обидное слово: и ненависть к самому себе, и злость на Марию, втянувшую меня в эту историю, и презрение к торжествующей биомассе, трясшейся передо мной с занесенной чугунной чушкой в руке.
Скучно и обидно все это вспоминать, потому что не так хотелось закончить дело, не криком и угрозами, а изящным укором, от которого поумнел бы, может быть, простодушный и наглый дурак, и не злобу затаил на меня, а проникся ко мне почтительным уважением. Но чего не было, того не было: все окончилось самым пошлым образом – хорошо еще, бескровно, а то вспоминал бы сейчас всю эту свару, кабы остался в живых, с мучениями, равных которым трудно себе представить.
Когда Мария меня спросила, придя в себя, почему я сказал, что хорошо знаю его шефа, я усмехнулся, пожал плечами, ответил не задумываясь:
– Кто-то говорил про ум лисицы. Не помнишь?
– А-а-а! – протянула она с благодарностью. – Видишь! Ты мой рыцарь! Я всю жизнь буду гордиться. Неужели тебе не было страшно? – спрашивала она, как восторженная девочка, с ужасом в приглушенном голосочке. – Я себя укусила за палец, когда ты… Ты, наверно, не видел его лица?
А я и в самом деле не видел, будто передо мной тряслось нечто неопределенное, безликое, а потому и не очень страшное, ибо нет для меня ничего страшнее умного человеческого лица, охваченного благородным гневом.
– Забудем про это, – говорил я с наигранным хладнокровием и беспечностью, как будто мне ничего не стоило подойти к Сашке еще раз, когда он был в бешенстве, и назвать хорьком. – Забудь. И ничего не бойся. Дыши полной грудью! – У самого еще нервная дрожь не прошла, а уже играл приятную роль героя, забыв минуты постыдного малодушия и растерянности.
Слаб человек! Удалось одержать победу – подавай славу. Хоть маленькую, хоть какую-нибудь! Вынь да положь. А зачем и для чего? Особенно если, как в моем случае, победа эта одержана лишь над самим собой, а побежденный впустил в себя кровожадного хорька и еще больше озлобился. Победа – это когда стронешь в душе человека лед равнодушия, растопишь его добрым теплом и увидишь над полой водой первую чайку. Запугать, унизить, ударить человека – это умели делать и полудикие наши пращуры. Не в славе бы купаться, а в слезах. Не гордиться собой, а оплакивать человека, погубленного злобой и ненавистью.
Одно лишь утешало меня, что не видел я человека в облике этого Сашки и не против разума шел, а поднялся на драку с чудовищной материей, растерявшей в своем развитии отличительные свойства человека.
Но вот что мучает меня до сих пор!.. Скрывал от себя, прятал на донышко душевных подвалов, не выпускал на свет, как безобразного уродца, ехидный вопросец с подковырочкой, который упрямым ростком в солнечные мои дни пробивал чудодейственной силой асфальт захламленной памяти, ломая камень пушистой своей вершинкой, и сквозь трещины высовывался на свет зеленой загогулинкой, напоминающей знак вопроса: скажи-ка, старче, чем это ты особенно отличался от той презренной биомассы, как ты обозвал синеглазого парня, пребывая в состоянии высокомерной гордыни. Чем это ты лучше его? Какие такие заслуги перед обществом давали тебе право возвышаться своим духом над ним? Не оба ли вы с ним хитрые лисицы, у которых рыльца в пуху?
Терпеть не могу этот вечный свой вопросец! И нет у меня ответа на него, да и не будет, наверное, никогда. Чем я лучше? Почему лучше? Кто сказал? По какому праву?
Попроси я наварзинских друзей, здравствующих и поныне, рассудить меня с этим Сашкой, вряд ли кто-нибудь из них отдал бы мне предпочтение. Вряд ли! Хмыкнули бы презрительно, начни я оправдываться и перечислять свои достоинства. Они не любили меня никогда, а за что – не знаю. Да и не хочу, откровенно говоря, знать! Пропади он пропадом, этот гнусный вопрос! Что за чушь лезет в голову! Сашка ли? Я ли? При чем тут мы, когда нет ни Марии, ни Станислава, которые одни только и вправе были бы осудить меня. Если бы я захотел суда! Вот именно – если бы захотел. А я не хочу. Идите к черту, не хочу о нем слышать и знать! К черту, к черту, к черту! Я сам себе судья!
Вредный сорняк, пробивающий асфальт, боится солнечных лучей, которые жгут его. Пусть он погибнет и не раздражает душу колючим своим упорством. Пусть его сожрут улитки и гусеницы, если он сладок для них. Пусть истопчут дети, не знающие душевных мучений.
Нет ответа! В путанице жизненных случаев, как в путанице трав, тянущихся к солнцу и дождю, нет такого, о котором можно было бы сказать, что это именно он причина следствия или что именно этой траве надо дать преимущественное право для роста, а та пусть гибнет… Все сплетено в жизни в тугой узел, который можно разрубить, а не распутать. Жизнь как белый цвет, белая дуга, вобравшая в себя радужное разноцветье. Все в ней едино и все многозначно.
В тот прохладный, дождливый денек, когда я вырвал Марию из рук негодяя, ничто, однако, не омрачало мою душу – я торжествовал победу. Я был доволен собой, хотя и скрывал, как мог, от Марии свое самодовольство. Но мне льстило ее восхищение моей храбростью.
Впрочем, почувствовал я себя в безопасности только тогда, когда, еще не отдышавшись, очутился вместе с Марией за надежной дверью ее квартиры. Она не позволила мне уйти, боясь нашествия разозленного и опасного зверя, каким представлялся ей в воображении недавний «Давид», красавец и дурак, превратившийся в злобного, трусливого хама. Я же готов был сражаться до конца. Тем более что теперь со мной был сам Наварзин.
Он вышел навстречу в шелковом красном халате, вертикальные складки которого, подпоясанные тесемкой на талии, пылая, ниспадали до пола, до легких сандалий на босу ногу, – величественный и неожиданно смешной, как декоративный кесарь римской старины. Меня он никак не рассчитывал увидеть и смешался, нахмурился, хотел уйти, но передумал и выставил свою руку ладонью вверх.
– Алый цвет, – сказал он, – не дает лениться мозгу. Не ждал, но рад, – добавил, кладя руку на мою спину и легонько подталкивая в комнату. – Кофе? – спросил Наварзин.
– Кофе, – ответил я. – Если не составит труда. Извините, ради бога.
– Сейчас будет кофе…
Мария прижалась на мгновение к лоснящемуся шелку на его груди, он мимолетным движением руки коснулся палевых ее волос и удалился на кухню, погасив алую зарю в комнате, прошелестевшую ветреным шепотом шелка. В померкшей комнате впору было включать электричество – летние сумерки прокрались в ее углы.
Я в блаженстве опустился в глубокое кресло и, укрощая дыхание, глубоко вздохнул, закрыл глаза и улыбнулся. Как же я любил в эти мгновения празднично-яркого, сдержанного в своих эмоциях, спокойного человека, которого впервые увидел в безумно-алом халате! Как я завидовал ему, не знающему страха и, по всей вероятности, не испытавшего неуважительного, панибратского к себе отношения. Почему я совсем не похож на него? Мне бы хоть капельку его выдержки, его комфортного, притягательного благородства. Как просто он сказал: алый цвет не дает лениться мозгу. Халат и он – несовместимы! Но почему-то именно в триумфаторской этой алости Наварзин явился мне человеком со всеми своими слабостями и причудами, понятный и чуточку смешной, близкий…
Я готов был признаться в дружеском расположении, в любви к нему и, как Мария, прикоснуться щекой к шелковой его груди.
Но как же я жалел его в блаженные эти минуты – ничего не видящего и не слышащего, обманутого мудреца, доверчивого в пингвиньей своей отрешенности от житейских склок громадного общежития, замкнутого в себе и занятого ему только одному понятной идеей поклонения машине. Я расслабленно думал о своем ничтожестве и наслаждался, казня себя и каясь, вымаливая прощения у Наварзина, который, наверно, считал меня искренним другом Марии, а стало быть, и своим. Мне казалось, что я наконец-то понял его и что все мои прежние домыслы о нем, как о человеке, отрицавшем устоявшиеся привычки людей, в том числе и привычку семейной верности, – все эти мои плюгавые мыслишки обернулись позором и жгли мне совесть, и я в ожидании крепкого кофе, который варил для меня сам Наварзин, клял свои низменные страсти, купался в этом самобичевании, хотя и знал наперед, предчувствуя особенную нежность Марии, таинственную ее улыбку, ее любовь, предназначенную только мне, рыцарю и сообщнику в ее заговоре против всех негодяев в мире.
А она, бедняжка, натерпевшись таких унизительных страхов, явилась вдруг ко мне, в мои мечтательные сумерки, бесшумно села напротив, утонув в объятиях кресла, и с молчаливой улыбкой не мигая смотрела на меня в ласковой задумчивости, как смотрят на добрую и послушную собаку, не мешающую жить. Ни ей, ни мне не нужны были слова – мы все понимали без них, и кажется, нам обоим нравилась такая запретная, беспокойная жизнь. Мария была бесконечно счастлива и любовалась мною, а я позволял ей это, как если бы и в самом деле был собакой, шерсть которой гладила своей душистой рукой хозяйка.
Кофе в доме Наварзиных варился по-турецки, но подавался в больших чашках; комната пропитывалась кофейным ароматом, звоном серебряных ложечек и приятным благополучием. Это было как раз то, чего мне так не хватало в течение последних дней.
Лампы по просьбе Марии не стали зажигать. Небо за окном, затянутое сиреневым июньским ненастьем, светилось на закате лиловым перламутром. Полированная поверхность журнального столика отражала этот призрачный свет. Глаза Марии блестели на потемневшем, лоснящемся в сумерках лице, как глаза черноокой смуглой цыганки. Я не сводил с нее своих глаз, которые тоже, наверно, возбужденно блестели отраженным светом вечернего неба. Шелковые складки халата отливали густым багрянцем, Наварзин неподвижно сидел в углу, задумчиво держа чашку возле подбородка, и изредка прикасался губами к ее краешку, словно молитвенно целуя крепкий и вкусный напиток.
Кто-то должен был нарушить затянувшееся молчание и ту московскую тишину влажного вечера, в которую вплеталось множество звуков, создающих стройный гул из шума моторов и человеческих голосов, похожих на крики птиц.
И как ни странно, это сделал Наварзин.
– Я живу под впечатлением сна… А может быть, и не сна, – сказал он с обычным своим гудящим безразличием в голосе. – Много работы, мозг устал, выдал причудливую картину, но вот что любопытно…
Я внимательно прислушался, потому что ни разу не видел Наварзина, рассказывающего сон, но услышал его глубокий, почти бесшумный вздох, словно он усомнился вдруг, надо ли рассказывать.
– Но вот что любопытно, – повторил он из потемок. – Я не давал мозгу никакой программы. Гиацинт, любимец Аполлона… Я ничего не могу понять. Гипербола? А что такое гипербола? Это кривая линия от пересечения конуса по оси плоскостей… Или риторическая фигура? Да… Все это любопытно. Мальчик Гиацинт… Я помню, его звали Гиацинтом.
Глаза Марии выпуклыми, полированными камушками вперились в багряно-черные очертания мужа.
Ну и что? – взволнованным шепотом спросила она, тоже, как и я, удивленная откровениями Наварзина.
– Ну и что, – повторил он задумчиво. – Аполлон разгневался, убил Гиацинта и превратил в цветок. Но, может быть, я видел Аполлона до гнева, пока он еще любил Гиацинта? Это я про легенду. Мальчик был живой. Или подросток, светлый и очень… Он весь как на пружинках. Очень избалованный. Я это знал, когда видел его. Но кто отец? Все-таки не Аполлон, потому что, во-первых, Аполлон не отец Гиацинта, а во-вторых, он был в годах, у него была курчавая, в кольцах борода, на нем были тога и сандалии. А мальчик строен и гибок, как юный тореадор. Каменный сад… Стена из неотесанного, дикого камня… Дворец… И всюду каменный плющ, всюду камни, руины античных изваяний и даже деревья и другие растения каменные. Пространство замкнутое, но и бесконечное, обозримое, но и распростертое во времени. Все это я знал как данность. Свет, например, не солнечный, но и не искусственный. Типичная ситуация сновидения. И вдруг, как на дисплее, передо мной притчевая сцена. Господин, то есть отец, посылает раба, а он появляется среди камней, огромный и полуобнаженный, покорный, как собака, – отец посылает раба за сыном, который играет на лужайке среди освещенных каменных растений. В руке у мальчика тросточка или что-то в этом роде. «Тебя зовет отец», – говорит раб. Но в ответ увлеченный игрой мальчик, то есть Гиацинт, с гневом набрасывается на раба и что-то грубое говорит о нем, о своем отце. Тогда раб бьет его по щеке и говорит: «Это от имени вашего отца». – «Ах, ты так!» – кричит мальчик и замахивается тростью. Но раб изловчился, схватил трость и сломал ее. «Это я от имени вашего отца делаю». Мальчик взбешен и бежит, прыгая через камни, к дому, грозя убить раба. «Я тебя убью!» – кричит он, а раб понимает, что он побежал за оружием, спешит к своему господину, который стоит возле ступеней дворца торжественный, как римская скульптура. «Хозяин! – кричит раб. – Сын дурно говорил о вас, и я дал ему за это пощечину от вашего имени». – «Ты предан мне», – властно говорит патриций. А раб сгибается в поклоне: «Ваш покорный слуга, – и продолжает: – Он поднял на меня трость, но я сломал от вашего имени и трость». Патриций торжественно кивает головой, довольный поведением раба. И – поощрительно: «Ты предан мне безмерно», – и даже руку поднял, как будто благословлял раба, который опять: «Ваш покорный слуга. Но, господин, ваш сын побежал за оружием и хочет меня убить». Тогда патриций кладет ему руку на голову и вещим голосом произносит: «Ты предан мне! Умри».
Наварзин умолк и в тишине, наступившей в полутемной комнате, прикоснулся губами к остывшему кофе; я понял, что у него дрожат руки – раздался чуть слышный щелчок зуба, ударившегося о фарфор.
– Это чудо, – прошептала Мария. – Это не сон, нет…
Я сидел бездыханно и благодарил провидение, что электричество не включено, – чувствовал я себя расплющенным, почему-то приняв на себя загадочный смысл притчи.
– Да, – выдавил я, – это что-то очень интересное. Типичная притча с троекратным усилением.
– Вот именно, – бесстрастно проговорил Наварзин. – Именно притча и притом классическая. – И он повторил ее, сделав как бы выжимку:
«Сын дерзко говорил о вас, я ему дал пощечину от вашего имени».
«Ты предан мне».
«Он поднял трость, я от вашего имени сломал и трость».
«Ты предан мне безмерно».
«Но он побежал за оружием и хочет меня убить».
«Ты предан мне. Умри».
Мария опять шепотом сказала:
– По-моему, это чудо. Или ты слышал или читал что-нибудь подобное? Я не могу поверить! Что это?
– Да, – мрачно сказал Наварзин. – Меня странно мучает эта информация, ее железная логика: «Ты предан мне. Ты предан мне безмерно. Ты предан мне. Умри». Не могу понять значения! Практического смысла притчи. Не могу найти, расшифровать. Ну хорошо: отец, раб, сын…
– Ну как же! – воскликнула Мария. – Все понятно. Ты предан мне, ты все правильно сделал, но дойди до края, умри во имя меня. Оскорбил моего сына моим именем. Ой, как это интересно! Да! Конечно. Я почти все понимаю… Почти все! Нельзя оскорблять сына именем отца! Это так понятно!
– Надо понять все до конца. Почти – я тоже понимаю. Мне не хватает особой точки зрения, чтобы заглянуть в глубину и редуцировать, низвести до полного понимания. Впрочем, все это, наверное, игра усталого мозга. Он развлекался. В пересказе все не так интересно, как наяву.
– Ты спал или не спал? – тихо спросила Мария. – Это очень важно. Что значит наяву?
– Спал и не спал, – ответил Наварзин. – В пересказе мешают эмоции, на дисплее – там математическая формула.
Мне очень хотелось перевести все в шутку, я начинал понимать, что Наварзин вовсе не имел в виду меня, рассказывая свой сон не сон, и, успокоившись, хотел что-нибудь смешное придумать – сидел и улыбался. Хотя и мне тоже показалась интересной эта логически строгая притча, я тоже, как ни напрягался, не мог заглянуть в темную глубину намертво сцепленного, связанного в узел иносказания. Наварзины же были так серьезны! Мария ахала и восхищалась, а муж ее, придавленный неразрешенной задачей, пребывал в полном изнеможении, измучившись в напрасных догадках, – только это и останавливало меня от шутки: я не мог разрушить таинственный мир, царивший в их душах, и лишь улыбался, любуясь Наварзиными, которым было уже не до меня.
Я раскланялся, попросил не провожать и через час был в лесу на пути к своей деревне, шагал по глинистой, скользкой дороге, в колеях которой покоились во тьме лужи, отражавшие светлое небо короткой, душистой и очень простой, немудреной июньской ночи.
Мог ли я подумать тогда, что таинственная притча, или, как я полагал, бредовая заумь перетрудившегося Наварзина не раз еще ляжет холодным камнем на сердце!
Мятущаяся душа Марии приводила меня в отчаяние. Я перестал искать с ней встреч, но она находила меня сама, и когда врывалась ко мне с радостным недоумением на лице, я старался все сделать для того, чтобы ей было хорошо у меня. Я угощал ее чаем, который она всегда нахваливала, считая, что я великий специалист по заварке; терпеливо выслушивал жалобы на жизнь, наблюдая с необычной для себя трезвостью за ее манерой рассказывать, и частенько ловил себя на мысли, что мне не нравится вычурная ее манера с изысканными, заученными приемами лицедейства, которыми она оснащала всякую свою речь, касалось ли это чая, магазинов, науки, людской неблагодарности, человеческих страстей или пресловутых проблем молодежи, коими занимались во все времена все народы, не продвинув их ни на йоту за многовековую историю цивилизации. Я, к счастью, хорошо понимал бесполезность всевозможных нравоучений и выслушивал Марию со спокойствием любомудрого исповедника, задавая ей лишь уточняющие или наводящие вопросы. Не скажу, что все мне было интересно, но кое-что волновало и меня, потому что Мария касалась иногда очень острых ситуаций, беря на себя порой непосильный умственный труд.
С улыбкой вспоминаю я, например, как она с неизменным своим жеманством серьезно говорила мне о манной каше, которая, как я успел заметить, обозначала в доме Наварзиных все надоевшее, изжившее себя и вызывающее одно лишь отвращение.
– Люди с детства видят и слышат по телеку… Ты, Васенька, знаешь их… Что-нибудь разоблачительное, какой-нибудь безобразный образ жизни в Америке или где-нибудь на Западе… Сколько лет подряд с детства до усов одно и то же: это плохо, это еще хуже, это никуда не годится, а уж это и вовсе из ряда вон. То хиппи, то наркоманы, то воры, то бог знает что… Пишут об этом в газетах, говорят по радио… Все плохо, плохо, ужасно! И ничего хорошего. Нигде. Все хорошо только у нас. Уговаривают, уговаривают. А вот если бы мне с детства говорили – родители, бабушки, тетки всякие, – что манная каша очень плохая, что ее нельзя есть, что от манной каши человек становится неуправляемым, что она разъедает душу и все на свете губит, я еще не знаю, как бы я к этому отнеслась! О сигаретах говорили бы, что они полезные, что человек от них становится умнее и живет до ста лет. Ну допустим! Не улыбайся, я вполне серьезно… Я, может быть, и курила бы, но без всякого удовольствия, а манную кашу мне хотелось бы попробовать. Я бы тайком ела манную кашу.
Мария не выдерживала серьезного тона и разражалась смехом, который, как это ни странно, был всегда у нее неестественным, напоминая визгливый вопль. Соседи за стенкой, если до них доносился ее смех, вполне могли подумать, что у меня в квартире происходит что-то ужасное. Мария, кстати, и сама, вероятно, знала об этом своем недостатке и смеялась только в минуты нервного перевозбуждения, когда уже не в силах была владеть собой.
– Ну перестань, – мягко и очень вежливо просил я ее, боясь обидеть, – ну что тут смешного? Я тебя с интересом слушаю. Ну перестань, пожалуйста!
Она успокаивалась и, раскрасневшись, просила сигарету.
– Ты разлюбил меня, Васенька, да? – спрашивала она, щурясь от дыма. – Ответь мне, пожалуйста, разлюбил? Тебе со мной плохо?
– А тебе хочется меня помучить? – вопросом отвечал я на вопрос и с наигранной грустью добавлял: – Безнадежная любовь! Я с тобой превратился в отшельника. Стал бояться женщин. Соблазна. Холостой мужчина моих лет… Но я все отвергаю! Ради тебя. Ты меня когда-то, помнишь, спросила: разве тебе этого мало? Вот и я тебя спрашиваю.
Она внимательно смотрела мне в глаза и, все понимая по-своему, вскидывала вдруг с голубиной опаской головку, словно в вышине неба тень ястреба затмевала солнце, и быстро говорила мне с внезапными слезами в улыбающихся глазах:
– Ты не умеешь врать, Васенька. За это я тебя очень люблю. Я почему-то очень люблю дурачков.
Шуточки ее, надо сказать, тоже бывали не первого сорта, особенно если она перевозбуждалась.
– А что ты там про манную кашу хотела сказать? Ела бы тайком, да? Манную кашу на молоке с ванилью… Я не совсем тебя понимаю. Манная каша – это…
– Не понимаешь – и не надо. Я ведь не про манную кашу! Ты не видишь молодежь, не знаешь, а я знаю и пока еще, надеюсь, очень хорошо ее чувствую. Мне хочется кому-нибудь подсказать, что надо делать… Но даже ты, Васенька, даже ты смеешься. Думаешь, что я злопыхательница и говорю глупость. Я же вижу тебя насквозь!
– Ты напрасно так думаешь, – возражал я ей. – Я очень серьезно отношусь к твоим словам и никогда не смеюсь. У тебя сегодня, наверное, трудный день, ты нервничаешь. Успокойся. Я тебя слушаю.
– Я не про манную кашу, Васенька! – говорила она дрожащим голосом. – Пойми ты наконец!
– Конечно! Но что же, по-твоему, надо делать, что ты можешь подсказать? Это интересно!
– А то, – отвечала она с полудетской капризной ужимкой на плачущем лице, – а то, что надо показывать не только отрицательные стороны! Что ж, по-твоему, в Америке нет симпатичных и умных ребят? Надо показать, как они живут, о чем думают, чтобы наши мальчики тоже знали: хорошие люди есть везде. Ругают, ругают: джаз на уме, диски, как будто в этом дело! Если Борька какой-нибудь у нас Боб, то тоже ругают. А почему он Боб? Или Дик, например… Вот ты улыбнешься опять, а я тебе все равно опять скажу: люди когда-то учитывали ум лисицы… А мы разучились совсем. Совсем разучились! Сам подумай: если он Боб и ему это нравится, значит, он, у него… Нет, Васенька, ты прав… У меня сегодня трудный день. Я ничего не сумею объяснить. Но что-то надо делать! Так больше жить нельзя… Если этот Боб хочет подражать американцам, пусть подражает, но дайте ему хороший пример, а не плохой. А мы только усугубляем… Развращаем наших мальчиков. Они же глупые еще! А пускай задумаются. Надо показывать, понимаешь меня? Если уж они хотят… Показывать, как работают американцы… Хотя бы! Что ж они, плохо работают? Хорошо. Пусть наши поучатся. А то показывают, будто они все там бездельники. Дураки наши и думают, что так и надо… Разве я не права?
Я вздыхал с многозначительной и всезнающей улыбкой, как будто изъездил всю Америку, насмотрелся на заморские чудеса, а теперь удивлялся наивности некоторых наших поклонников заокеанской жизни и не хотел даже вступать в бесполезный спор с ними, жалел время.
– Конечно, ты во многом права, но надо учесть, – начал я снисходительно, – что и они тоже… Разве они показывают наши положительные стороны? Наоборот! Это же факт. Они вообще создали стереотип русского…
Мария со страдальческой жалостью посмотрела на меня и как ребенку сказала:
– Бог с ними, Васенька! Бог с ними! Зачем же нам соревноваться в злом умысле? Мы не должны этого делать! Если мы лучше их – тем более. Зачем же нам брать с них пример?! Пусть им будет стыдно, – говорила, вытянув шею и приблизив ко мне свои губы, говорящие это, свои глаза, просветленные страдальческой улыбкой. Кончиками пальцев она прикасалась к моей груди, словно выпрашивала у меня согласия или хотя бы понимания того, что она мне внушала. – Неужели так трудно быть лучше их? Мы должны быть великодушнее, чем они… Как же ты не понимаешь этого? Даже ты, Васенька! Зачем тогда жить? Ты говоришь, трудный день… А у кого он легкий? Разве у тебя легкие дни? Никогда не поверю. Но мужчины никак не могут понять: нельзя соревноваться в злом умысле. И женщины тоже. Но мужчины особенно… Пусть их говорят о нас все, что им хочется, пусть мешают с грязью. Нам за ними все равно не угнаться в этом зле. Мы ведь совсем другие!
Лицо ее было так близко, я так явственно чувствовал душноватое тепло воздушных порывистых толчков, исходящих изо рта, что не мог уже ни говорить, ни думать об Америке, которая далась же ей в этот день, на мое горе!
– Согласен, – зашептал я ей, – согласен. Мы совсем, совсем другие… Совсем…
Кажется, в тот день, если я не ошибаюсь, был сильный дождь, он рушился из темных небес, и с улицы не доносилось ни одного постороннего звука, кроме гудящего однозвучия ливня. А может быть, я ошибаюсь. И в памяти остался шум и плеск горячих водяных нитей, под которыми стояла Мария, окутанная паром и звенящей в счастливом и стремительном падении водой, сквозь которую кожа ее казалась эмалированной и не такой уж белой на фоне запотевшего белого кафеля.
Я всегда удивлялся, как она могла терпеть огненно горячую воду, а она отвечала, что горячий душ снимает усталость и успокаивает нервы. Наверное, так оно и было, потому что она словно бы возрождалась всякий раз для новой жизни. Разгуливала в больших моих тапочках нагишом по квартире, шаркала ими по полу и, розово-умиротворенная, задобревшая и усталая, посматривала на меня с кокетливой укоризной, любуясь собой в моем очарованном взгляде. А потом долго и старательно расчесывала короткие свои волосы перед мутным от пара зеркалом, забыв наконец-то про всяких американцев.
Странная она была женщина. Даже сам Наварзин и тот как-то рассказывал, веселя гостей, хотя и говорил обычным своим бесцветным баритоном, что Мария, с которой они любили отдыхать в Прибалтике, не могла дважды пройти по одной и той же тропинке или дороге в лесу. «Мы уже ходили по этой, пошли по той», – говорила она. И ей не важно было, куда вела новая тропинка. Она избирала приблизительное направление и шла не сворачивая, хотя тропинка могла увести совсем не в ту сторону, куда нужно было прийти. Но это ее никогда не смущало. «Смотри, куда мы вышли! – говорила она. – Какая тут красота!» Из-за этой ее прихоти они часто опаздывали к обеду или к ужину, но это ее тоже не смущало. Наварзин всегда подчинялся ей, даже если они с трудом потом находили дорогу к своему временному жилью.
Я хорошо представлял себе эту пару в однообразных сосновых лесах Литвы или Эстонии, среди мягких мшистых увалов, когда вокруг одни только дымчато-желтые, залишаенные стволы, а иглистые ветви закрывают, как паутиной, небо, и всегда с улыбкой думал: легко ли было Наварзину уживаться с такой беспокойной женщиной?
Болезненные спазмы стискивают мою грудь, когда я вспоминаю о них, и всякий раз мучаюсь от запоздалого раскаяния, вытирая далеко не скупые, как говорится, а ставшие привычными жалкие, жиденькие слезы, тепло которых я даже не чувствую теперь кожей щек. Капнет одна на стол, капнет другая, заболит душа, в глазах зарябит, заискрится свет – значит, плачу. Вот и все. Иногда спрашиваю себя в недоумении: неужели бывали и такие дни, когда я избегал встреч с Марией? Неужели она искала меня, а я… Нет, думаю, что-то я здесь путаю. Что-то забыл… Глупел, что ли, я по временам, если мог допустить такое? Не иначе глупел, делался дураком. Другой причины просто не вижу. Да и как еще можно объяснить эту тьму души?
Все понимаю. Признаю все свои странные прегрешения, приемлю самую злую хулу, ибо неправедно жил, а теперь, чуя близкую кончину, особенно остро чувствую это и даже прощения ни у кого не прошу, потому что не может мне быть прощения от людей. Знаю это и не боюсь умереть непрощенным. В бога я никогда не верил, в загробный мир тоже, но смерти все равно не боюсь. Чувствую, что заслужил ее – такую неприглядную, нечистую, не освященную слезами остающихся на земле. Положат меня в землю или сожгут – мне ровным счетом все равно. Я и не думаю об этом. Исчезну, как исчезали до меня сонмища безвестных жителей Земли – людей, птиц, рыб, насекомых, растений.
Об одном только жалею, а оттого и плачу, что память о Марии уже выветрилась из сознания знавших ее. А если кто и вспомнит всуе, улыбнется, скажет: «Как же не помню!» А на лице при этом такое нарисуется сальное выражение, что и слов никаких не надо – все без них понятно. Да и сам-то я лучше ли?
Горько до слез! И за нее обидно. Ушла из жизни, приняв напоследок горькие муки, а ничего не заслужила, как только вот такое воспоминание о себе: распутница.






