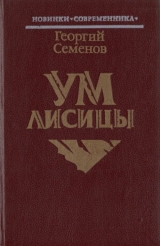
Текст книги "Ум лисицы"
Автор книги: Георгий Семенов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 35 страниц)
К тому времени он собрал довольно большую сумму денег, так что сумел купить себе приличный костюм темно-синего цвета, свитер, теплое, на ватине, пальто с цигейковым воротником, югославский плащ, ботинки и необходимую мелочь. Купил ватный матрас, подушку и два комплекта постельного белья, купил платяной шкаф, сделанный на той самой фабрике, где работал, и, конечно, обеденный стол. Кроме того, он купил по объявлению старый холодильник «Саратов», купил кое-какую посуду, хорошие ложки из мельхиора, складывая все это звенящее богатство на полках холодильника, в котором, кстати, держал и сало, не мотаясь теперь в обеденный перерыв по магазинам и не заходя на рынок, где покупал раньше, как побирушка, сто граммов шпига.
Но и после всех этих приобретений у него оставалось рублей семьсот-восемьсот, к которым каждый вечер и каждое утро прибавлялись новые суммы денег. Он никогда не вел строгого учета сумасшедшим этим деньгам: суеверие останавливало его, и Круглов только приблизительно знал, сколько их у него.
Он, конечно, понимал к тому времени, что сообразительное животное (он никогда даже в мыслях не называл его настоящим именем) приносит деньги из какого-то тайника, и он мог бы, разумеется, разобрать паркет и обнаружить клад. Но, поразмыслив, решил не делать этого и оставить все как есть, потому что, во-первых, это было бы уголовным преступлением: узнать о тайнике и присвоить себе шальные деньги, на которых, возможно, была чья-то невинная кровь; а во-вторых, он уже так нежно полюбил животное, что не хотел нарушать мирной его и сытной жизни.
Частенько по утрам видел на полу мелкий, черный, как семена репейника, помет животного, которое по ночам бегало по комнате, а однажды даже спало у него в ногах, на кровати, как избалованный теплолюбивый песик. Он улыбался и, укоризненно покачивая головой, заботливо подметал веником эти семена сытной жизни, хотя и ворчал иногда на бестолковое животное, если находил испражнения в неподходящем месте, в ботинке, например, или в носке, особенно если обнаруживалось это неудобство, когда он уже натягивал носок на ногу или надевал ботинок.
Перед Восьмым марта в солнечный, но морозный день Круглов увидел на рынке, куда пришел за салом, алые тюльпаны. В цветочном ряду на дощатых столах светились большие, похожие на террариум ящики из органического стекла. За прозрачными их стеклами лежали влажные, большие цветы. У них были сочные листья, которые казались голубыми. А в глубине распахнутых багрово-алых цветов ярко желтели венчики, окружая бархатную черноту тычинок и пестиков.
В прозрачных этих теплицах горели свечи. Озябшие на холоде продавцы переминались с ноги на ногу, невзрачные рядом с роскошным, нездешним садом, согретым стеариновым пламенем свечей. Они как будто были приставлены здесь для охраны зимнего чуда, как будто не хозяевами были, не искусными цветоводами, а слугами холодных, равнодушных цветов, красующихся на виду у прохожих в стеклянных своих дворцах.
Цены на цветы были баснословно высокими – три рубля за штуку. Но никто не роптал.
Возле запотевшего стеклянного чертога, в сияющей туманности которого грудились цветы, Круглов остановился. Тюльпаны, казалось, были фарфоровыми. Он подумал, что за такую красоту на месте хозяев запросил бы в три раза дороже. Велел подать один цветок, не совсем понимая, что делает.
Здоровый сивый мужик в напяленном на шубу белом халате поднял крышку ящика, осторожно вынул, словно опасаясь разбить, верхний цветок и аккуратно завернул его в прозрачный целлофан. Щеки у мужика были свекольного цвета.
Тюльпан, похожий на красотку в нейлоновых одеждах, очутился в руке у Круглова. Он очень смутился, впервые почувствовав рукой хрупкую невесомость цветка, и торопливо пошел прочь.
– А деньги! – услышал он сиплый голос мужика.
Круглов остановился, понимая, что это относится к нему, махнул рукой, нахмурился и, вернувшись, вынул червонец, который подобрал сегодня утром в углу своей комнаты.
– Совсем чего-то, – сказал он виновато, слыша шорох целлофана, напоминавший привычную уже азартную охоту за деньгами. – Извини. Ум за разум… Гоп, тишина!
Он спрятал покупку за душной пазухой, а дома развернул шумно хрустящий поблескивающий целлофан и бросил цветок на пол, к норе, почувствовав головокружение. Сказал насмешливо:
– Это тебе витаминчики… Любви все возрасты покорны, – забормотал он и улыбнулся, как пьяный, – но денег больше – и любовь сильней… Пригодятся. Гоп, тишина!
Растение лежало цветком к норе, нижний лепесток, ударившись об пол, безжизненно подвернулся. Животное высунулось на шорох и, увидев цветок, испугалось красной его пасти. Но любопытство взяло верх, осторожное животное, скрывшись было, снова посунулось и вытащило себя из норы, подкралось к тюльпану, приволакивая за собой дохлый хвост, обнюхало цветок и, опять чего-то испугавшись, нырнуло во тьму.
– Не нравится? – спросил Круглов. И ногой отшвырнул цветок к батарее отопления. – Ну ладно! Я тебе сейчас сала отрежу. Видал, какого купил!
Два дня и две ночи Круглов ходил, как лунатик, не спуская глаз с черного отверстия в углу своей комнаты. Кусочек сала лежал нетронутый. Животное не являлось и на посвист, видимо, тюльпан так напугал его, что оно глухо затаилось под полом. Или обиделось на Круглова, который вместо сала подкинул ему растение.
Он, конечно, уничтожил, измял тюльпан, изорвал и спустил в уборную. Протер кусочком сала даже место на полу, где лежал цветок, уничтожив запах, который мог опять напугать животное. Он проклинал себя и свою дурь, мучился, не выходил из дома, сбегал только в поликлинику, за больничным листком, который ему выписали, взглянув лишь на истощенное тоскою лицо с безумноватым взглядом покрасневших глаз. Ему снились страшные сны, как будто он спускался в мокрое и холодное подземелье, полз в полумраке по осклизлым камням, и, задыхаясь, просыпался в поту и предсмертном ужасе, потому что подземелье кишмя кишело пищащими и верещащими крысами, но не было среди них той, какая сдружилась с ним.
Ему было очень плохо. Жизнь потеряла всякий смысл, и хотя он понимал, конечно, что запасы подпольных денег не бесконечны, ему все-таки чудилось, что там их очень и очень много. Но, спугнув добродушное животное проклятым цветком, он их никогда не увидит, животное же прогрызет себе нору у соседей и погибнет, отравленное ядом.
Он боялся уснуть, прислушиваясь к малейшему шороху в спящем доме – до слуха доносились храпы и сонный бред людей, скрипы и стоны, дремотный топот босых ног и шум воды в трубах. И чудилось тогда Круглову, что он лежит во чреве каменного существа, которое переваривает в ночной тишине дневную пищу. А он потягивался с зевотой и слушал, как происходит эта таинственная работа.
Он очень страдал, умоляя животное вернуться, и так измучился, что когда вдруг услышал знакомую возню в подполе и верещанье с писком, то вскочил с кровати, упал на колени, закрыл лицо руками и хотел заплакать. Очень хотел! Но слез не выдавил.
– Пришло, – шептал он дрожащими губами, слыша бумажный хруст и шорох. – Ах ты, господи! Тащит… Ну-ну… Где ты скиталось? Чудо заморское!
Но замолчал, увидев светлеющий клин нарождающейся купюры, которую толкало перед собой вернувшееся животное, – он никогда не мешал серьезной работе, тем более в этот раз.
Тем более в этот раз! Ибо перед умиленным взором растроганного Круглова сиреневой гроздью расцвела купюра достоинством в двадцать пять рублей. В два с половиной раза больше, чем до сих пор! Он, как рыбак, привыкший подсекать и вываживать на берег хороших подъязков, зацепил вдруг крупного язя, в дугу согнувшего упругое удилище, и, с трудом справляющийся с охватившим его волнением и с рыбой, молил теперь небо, чтобы добыча не сорвалась, чтобы все до конца было удачно и рыба оказалась бы у него в садке.
Выпихнуть из норы эту крупную купюру животному было труднее. Круглов хорошо понимал это и с перехваченным дыханием следил за нелегкой работой, с трудом сдерживая себя, чтобы не ринуться на помощь животному.
Но наконец-то измятый комок сиреневого цвета выпрыгнул из норы, скользнув по паркету, добродушная морда животного хитро блеснула веселым глазом, туловище выскользнуло из тесноты шершавой дырки, желтые зубы вонзились и кусочек сала – и животное исчезло.
Круглов, истосковавшийся по добыче, тихонечко, на цыпочках подошел к норе, поднял с пола четвертную и возликовал.
– Ах, рыбка корюшка! – воскликнул он сдавленным шепотом. – Ах, Оля-Олюшка! Ты смотри, что получается! Глубоко копаем! Та-ак! Срочно сало! Гоп, тишина!
Свежий кубик сала вновь забелел в углу комнаты. Проголодавшееся животное, словно учуяв его, вынырнуло из-под пола и с молниеносной быстротой схватило свою добычу.
В жизни Круглова начиналась новая эпоха. Он даже подумал, грешным делом, что животное, израсходовав все червонцы, может быть, сомневалось, нужны ли человеку новые бумаги; может быть, эти бумаги пахли не так, как прежние, и оно мучилось там у себя в потемках, голодало, но не решалось предложить их в обмен на сало, и только голод заставил поступиться совестью и вынести эту нехорошую, по его мнению, бумагу доброму человеку. Может быть, все так и было, а он напрасно подумал, что животное испугалось тюльпана?
Но, как бы то ни было, вечер оказался рекордным – животное наградило Круглова тремя сиреневыми купюрами. А еще одну он обнаружил утром, выспавшись наконец и воспрянув духом.
Соседи отпраздновали Международный женский день, отшумели, отсмеялись; жизнь опять вошла в привычную колею. Круглов богател, но ни один человек на свете не догадывался об этом. На мебельной фабрике он работал истово, стал еще более молчалив и замкнут и вел себя чуть ли не как глухонемой, зная свои обязанности и исполняя их самым добросовестным образом. Даже женщины, работавшие в цехах, обратили на него внимание, прослышав, что человек бросил пить и взялся за ум, приоделся, обедать ходил в ресторан, который, правда, кормил комплексными обедами почти за ту же цену, что и столовая, но, в отличие от столовой, блюда на стол подавались официантами. Каждый месяц Круглов получал небольшую премию, и, если его приглашали «обмыть» ее, он молча доставал из бумажника трешницу и совал в карман приглашавшему.
– Выпей за мое здоровье. Гоп, тишина! – говорил он мрачно, будто ему неприятны были слова и вообще всякий звук, вылетавший из собственного рта. И торопился домой.
Он с детства знал, в юности чувствовал, в зрелых годах надеялся: в жизни его произойдет когда-нибудь что-то такое, что ни с одним человеком на всей земле не могло и не должно было произойти. Теперь, когда это с ним произошло, он понимал, почему никогда никакое учение или профессиональная работа не представляли для него интереса; почему он лениво учился, лениво работал и смотрел на трудолюбивых людей свысока, как на обыкновенных неудачников, которым ничего не светит в их скудной жизни. Все эти радости казались ему неестественными, и он их презирал. Хотя и бездельников тоже не любил, потому что знал, чувствовал, был уверен, что ничего примечательного, достойного у них уж тем более никогда в жизни не случится, что пробудут они свой век в безделье, так и не поняв, для чего и зачем были рождены на свет.
Себя же он всегда причислял к избранникам судьбы и теперь безусловно знал, что не ошибся. Единственное, что угнетало его, – это вынужденное молчание, безвестная слава избранника, о котором никто, ни один человек на земле ничего не знает и даже представить себе не может, что он уже есть, этот избранник, живет, ходит в простой одежде, ест простую пищу, ютится в маленькой комнатенке и поневоле делает вид, что он такой же, как все, трудяга, хотя без зарплаты и премий может спокойно обойтись, позволив себе жизнь богатого бродяги, знающего толк в наслаждениях и презирающего человеческий труд.
Круглов иногда еле сдерживал себя, чтобы не проговориться. Были случаи, когда под ярким солнышком душа его оттаивала и, возбужденный думами о себе, он начинал вдруг издавать кряхтящий стон, с хмурой усмешкой глядя в глаза одутловатого собрата по работе.
– Чего? – спрашивал тот, греясь на весеннем солнышке. – Живот, что ли?
Круглов, перебивая себя, вздыхал в отчаянии и говорил с мучительным стоном:
– Дурак ты, вот чего…
Но умный собрат по труду был уверен, что он не дурак, и не обращал на слова Круглова никакого внимания.
– Отказываться от привычки вредно, – нравоучительно замечал он. – Есть даже смертельные случаи. Организм знает, что ему нужно. И отказывать ему не надо – это вредно. Вот у меня, например, два сына, младший в меня пошел – любит соль. А старший в мать – огурцы и помидоры ест без соли. Соль, конечно, вредна для почек, но я люблю соль. И не отказываюсь от нее никогда, потому что, значит, так надо.
А Круглов смотрел на него, корчась от желания ошеломить самоуверенного «дурака», рассказать ему о чудесах, которые свалились на Круглова кучей денег.
– Да ты разве, – говорил он, с трудом разжимая стиснутые зубы, – от чего-нибудь откажешься?
– А ты? А ты-то?
– Гоп, тишина! – мрачно заключал Круглов.
На фабричном дворе пахло стружкой и ацетоном, на пологой крыше отделочного цеха грелись сизые голуби, спали на солнышке, распушившись и вобрав головы в мягкое перо межкрылий, и были они похожи на маленьких кошечек, разомлевших в тепле.
Денег у Круглова скопилось так много, что стало уже опасно держать их дома, хотя окно и было забрано решеткой. Висячий замок на двери тяжел и внушителен, но отпереть его ничего не стоило даже новичку в рисковом том деле. Круглов врезал внутренний, номерной, оставив и висячий. Но душа его была неспокойна в дневное, рабочее время. Ночью теперь не чистят квартиры, а вот день, когда все на работе, стал опасен. Хотя если подумать: кто же полезет в убогую комнатенку одинокого мужчины, в которой холодильник – и тот старой марки? Но именно за холодильником, с тыльной его стороны, в старом детском портфельчике, найденном во дворе, Круглов и прятал свое богатство, перевалившее уже за третью тысячу. Круглову и не снились такие деньги! Конечно, это еще не «Жигули», но ведь и животное не отказывается от сала.
Умное, сообразительное животное! Оно все отлично понимало и тоже по-своему было, наверное, довольно беспечной, сытой жизнью. Мех его приобрел кротовый лоск, выражение носатого лица, когда животное дремало в комнате, возле теплой батареи, было хоть и брезгливо и злобно, как и положено всякому представителю неистребимого племени, но Круглов, однако, находил в нем некоторую благообразность и, что самое главное, глядя на лоб, видел таинственный ум, который как бы отражался на лице брезгливостью к бессильным и глупым обитателям земли, в том числе и к нему, к Круглову, внушая к себе уважение. Рядом с этим животным он порой себя чувствовал неуклюжим бегемотом в вольере, на которого животное поглядывало добродушно, но в то же время высокомерно, как на существо низшего порядка.
Это сопоставление вызывало в нем улыбку, и он, восхищенно глядя на спящее животное, тихо бубнил себе под нос:
– У-у, дракон рогатый! Нажрался… Спишь! Хорошо тебе, перемычка! – (Никогда не зная, какого рода этот дракон, мужского или женского, Круглов думал о нем уважительно как о животном вообще). – Разлеглось тут! Всю комнату загадило, заразюка.
Мир да гладь царили в эти минуты в душе умиленного Круглова, хотя и смешно ему было отвлечься порой от действительности и взглянуть на себя со стороны. Здоровый мужик в тренировочном костюме, толстоногий, с мощными ляжками, распиравшими синий трикотаж, с железными от переноски тяжестей мышцами плеч, груди и живота, он и в самом деле попал в кабалу к своему животному, был зависим от его загадочного рассудка, который в любую минуту мог выкинуть что-нибудь неожиданное, какое-нибудь такое совершить действие, которое то ли в уныние ввергнет, то ли в радость – никогда не угадаешь. Круглов очень устал от всех этих нервных забот, от бессонницы и от физической нелегкой работы. Иногда общее утомление сказывалось так ощутимо, что он чуть ли не в обморок падал, теряя всякие силы и едва добираясь до постели, чтобы провалиться в мертвецки тяжелый сон. И в конце концов он понял, что ему необходим отдых.
А весеннее солнце тем временем уже растопило снег не только в городе, но и в окрестных лесах. На вечерних зорях над розовыми теплыми березняками тянули вальдшнепы, встречая выстрелы охотников с безразличием фанатиков, умолкая лишь на короткое время, если вдруг сноп визжащей дроби просекал воздух слишком близко. До темноты в лесу красиво и гулко пели дрозды-дерябы. Рябинники со своим сплошным щебетом умолкали, а дерябы пели до первых звезд, затихая сразу, как по команде, незадолго до окончания вальдшнепиной тяги.
Тишина весеннего леса, нарушаемая журчащей водой, была сродни той мерцающей звездами небесной тишине, в просторах которой высоко пролетали звенящие далекими турбинами, холодные, неземные самолеты. Последний вальдшнеп в земных пределах пронзительными высвистами врывался с запоздалой своей страстью в лесную тишину и, невидимый, призрачный, тянул в потемневшем небе над оцепеневшими березами, похрипывая в любовном азарте и резко высвистывая таинственную песнь в молчаливый лес, – один во всем подзвездном мире славящий весну.
А полая вода меж тем скатилась уже в реку, вспучив ее и замутив; перелетные птицы, осев в окрестностях, занялись строительством гнезд и брачными игрищами; перезимовавшая под снегом трава радовала глаз, уставший от зимней белизны; на солнечных припеках светились желтые низкорослые цветочки мать-и-мачехи, а в городских скверах и парках набухли и позеленели на дымчатых ветвях почки сирени.
Круглов надел свой югославский плащ цементного цвета, накинул на короткую шею шелковистый шарф, сунул руки в шелковистые карманы и пошел по улице, поблескивая новыми ботинками.
Ему нужен был почтовый конверт и бумага.
Терпение лопнуло. Он больше не мог скрывать свою тайну и понял, что настало время попроситься в отпуск, махнуть куда-нибудь подальше и, набив карманы деньгами, пожить немножко так, как положено богатому и нестарому человеку. У него имелся заветный адресок, оставленный когда-то человеком с юга, с которым он работал в одной бригаде на арматурном заводе. Он помнил запах железной окалины, игольчатые ее уколы, когда она отскакивала в лицо со сгибаемой в станке проволоки, помнил красные от ржавчины рукавицы, дребезжащий грохот железной арматуры, однообразный запах горячего обеда и тяжелый храп лысого южанина, спавшего рядом. Куда ни посмотришь, всюду зеленели, золотились масляными стволами густые сосны, от запаха которых Круглову делалось тошно. Он не любил вспоминать о том времени и о тех местах, сумев в конце концов сделать так, что вычеркнул из памяти, из жизни те годы, обманул себя и поверил, что ничего этого не было.
Был только южанин, его рассказы о богатой жизни в теплой стороне, о Каспийском море и о терпких, густых винах. Звали его Саша, Александр Борисович Кантонистов, единственный человек, которому Круглов, по старой памяти, мог доверить тайну.
Надежды, правда, было мало, что тот откликнется, приедет, поживет в его комнатенке, но все-таки Круглов, давно не писавший, старательно выводил строчки письма: «Хорошо тебе бичевать, а тебе дело человек предоставляет. Делом пора заняться. Дело такое, в письме не напишешь. Вместе будем в зените славы. Приезжай, сам увидишь. Поживешь в моей лачуге и уедешь довольный. Дело чистое. Даже смешное. Приедешь, увидишь сам. Брось телеграмму, буду ждать. Поговорить надо. Прошу тебя», – писал он, сидя за казенным столиком на почте.
Опустил письмо в ящик с таким чувством, будто сделал что-то не так, очень растерялся, когда услышал, как письмо стукнулось о донышко: теперь уже не вернешь. И стал ждать телеграмму.
Но Александр Борисович неожиданно приехал сам и привез с собой товарища, имя которого было Ибрагим. Когда Круглов увидел Кантонистова, радость его омрачилась – перед ним стоял холеный, подозрительный белолобый мужчина в дорогом кожаном пальто. Сашка, как привык называть его Круглов, не бросился в объятия, не прослезился, а холодно подал руку, на безымянном пальце которой тяжело блеснула золотая печатка.
– Тебе повезло, – сказал он. – А вот мой друг, у него тут сын, скажи ему спасибо, – уговорил. Времени нет! Ну, здравствуй… Нет времени совсем! Тебе повезло!
Круглов обиженно сказал:
– Тебе, может быть, тоже.
– Ах, чудной человек! – воскликнул неузнаваемый Сашка и рассмеялся добродушно. – Извини, но в прошлое дороги нет. Задний ход я не даю. Что у тебя за дело? Где зенит нашей славы? Ну?! Это все, что ты имеешь? – спросил, окидывая взглядом убогое жилище. – Хижина! Вижу, что хижина, а это уже хорошо – не обманул. Ты честный человек.
– Да уж не трепач, – с усмешкой сказал Круглов. – Не пожалеешь, что приехал.
Кантонистов был ошеломлен, когда увидел чародейство Круглова. Ибрагим сидел с пылающими щеками, не веря в чудеса, и долго не мог прийти в себя, ощупывая купюру, принесенную животным. Кантонистов поглядывал на Ибрагима, Ибрагим – на Кантонистова, а вместе они с недоверием смотрели на Круглова, который скромно торжествовал.
Была глубокая ночь, когда все это произошло. Приехали они перед полуночью и, конечно, шумом шагов и разговорами смутили животное, и оно не сразу откликнулось на призывное посвистывание.
– Я готов, – сказал Кантонистов, пронзительно глядя на Круглова, когда на улице стало уже рассветать. – Я согласен. Ибрагим поедет с тобой, а я останусь. Ты хорошо отдохнешь. Договорились? А теперь, – добавил он, постучав ногтем по часам, – теперь зайдем к одной красавице, посмотрим на мальчика и примемся за дело. Времени, товарищи, нет! – воскликнул он, играя роль деятельного распорядителя.
После бессонной ночи они и заявились к Геше, сказав, что нагрянули прямо с аэродрома, с неба, так сказать, на голову. Подозрение Геши, которая заметила странное их поведение, оказалось ложным: они устали и торопились отдохнуть после дороги и всякой чертовщины, от которой гудели их возбужденные головы. Другое дело Ибрагим! Его поведение было, конечно, странным, и Геша имела основания заподозрить его в преступных намерениях. Но вот в каких? Об этом она ничего не знала и даже не догадывалась, пока перед ней не раскрылась тайна, повлекшая за собой, увы, опять трагедию.






