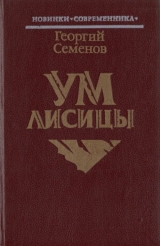
Текст книги "Ум лисицы"
Автор книги: Георгий Семенов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 35 страниц)
Это, конечно, влияние Наварзина, думал я, стараясь развеять ее пасмурное настроение.
– Я не понимаю тебя. Может быть, я состарился? Но я не знаю ни одного человека, который заведомо говорил бы ложь. Разве ты знаешь таких?
– Нет, я тоже не знаю, – соглашалась она. – Но ты не хочешь меня понять. Ты хитрый.
Настроение ее так быстро менялось, что без улыбки я об этом и вспомнить не могу. Только что она говорила о задумавшейся молодежи, имея в виду, вероятно, себя в первую очередь и Наварзина, а уже и следа не осталось от искренней тревоги, с которой она думала о судьбе народа.
– Что-то странное происходит с моим слухом! – восклицала она в необыкновенной радости и даже смеялась. – Я иногда вдруг начинаю слышать, что говорят на первом этаже или на втором, а то и вообще под крышей. Страшно интересно! А другой раз с обонянием: чую вдруг, где что готовят, и даже знаю, вкусно или нет. Удивительная какая-то способность! Вот я иногда думаю: в сказках своих люди учитывали, например, ум лисицы… Вообще каждого зверя награждали такими способностями, которые вполне соперничали со способностями человека. Может быть, раньше люди знали язык животных?
Взволнованная ее речь опять словно бы увядала, трепетала на холодном ветру, когда Мария перескакивала на другую тему.
– Я на работе так устаю! Так изматываюсь! Приходится столько нервов тратить, потому что заставить кого-нибудь что-нибудь сделать – это надо совсем потерять все силы. Так наругаешься за день, придешь домой и даже приятно, что муж командует. Наконец-то, думаешь, опять женщиной стала… Но если б ты знал, как мне скучно жить!
Смотрит на меня тающими глазами и, кажется, испытывает: верю я ей или нет. Я-то хорошо ее знаю, меня ей трудно обмануть, но и то тоже знаю, что ей неважно это. Для нее гораздо важнее придумать что-нибудь такое, во что бы я безусловно поверил или, во всяком случае, сделал вид, что поверил. Иногда мне кажется, она и любит-то меня за то, что я верю во все, о чем она рассказывает мне, играя всякий раз новую роль передо мной.
– Сегодня на заре, – говорит она, например, потупив очи, – я чуть не умерла. У меня остановилось дыхание. Я вдруг забыла, как надо дышать и что для этого нужно делать. Это так страшно! Всегда знала, а вдруг забыла. С тобой бывало такое? – спрашивает она и, не дожидаясь ответа, продолжает: – Мне приснилось, что ты меня целовал, так впился в мои губы, что я перестала дышать, не могла. Проснулась – все равно не могу. Лежу как мертвая.
– Ну что ты говоришь… Я и целоваться-то так не умею. Ты же знаешь.
– А вот выходит, умеешь, – говорит она, поглядывая на меня исподлобья. – Мне было приятно…
С ума меня сводила своими выдумками. А то начнет о муже рассказывать, о Станиславе, которого звала Стасом, и всем своим видом, голосом, взглядом велит мне, чтоб я обязательно верил и не спорил с ней.
– Ты его, Васенька, совсем не знаешь. Он талантлив, как бог. Только не любит об этом распространяться. Ты хоть знаешь, что он физик-теоретик? Вот в том-то и дело. А знаешь, какой он удивительный хозяин? Видит, что я ноги еле волочу – и все хозяйство на себя берет. Я в своей жизни не купила даже кастрюльки какой-нибудь. Это его забота. Он в командировку едет и обязательно домой что-нибудь привезет: то сковородку, то кастрюлю, то чайник со свистком. Ножи какие-нибудь купит или вилки. Не может без этого. Если хозяйственный магазин видит, обязательно зайдет, все осмотрит и непременно что-нибудь купит: клей или наждачную бумагу, а то и молоток или отвертку. «Зачем тебе, Стае?» – «Нужно», – говорит. Как-то притащил электрическую дрель со всякими приставками. Сверлил где надо и не надо, точил ножи, полировал что-то. Потом надоело, опять заскучал: мне, говорит, очень хочется маленький токарный станочек купить. «Вот уж будет красота! – говорю. – Заводской цех вместо квартиры». А он без всякой улыбки смотрит на меня, как будто не слышит, а в глазах такая тоска по этому станочку! «Зачем тебе токарный станок?» – «Нужно». Вот и весь ответ. Я тогда еще не догадывалась, какая у него идея в голове. Сам он никогда ничего толком не расскажет; ты, наверное, заметил, он не улыбается, с ним бывает не так-то просто – очень серьезный. Но ведь знаю, что не нужен ему никакой станок! Что на нем точить?! А он все равно купит, притащит и начнет что-нибудь точить. И это не упрямство. У него великая идея в голове. Потому я и мирюсь со всеми его капризами. Женам великих всегда было трудно. А он великий, я знаю. Я готова у него на побегушках служить. И мне, ты знаешь, это бывает очень приятно. Попробуй мне кто-нибудь на работе сказать: «А ну, Мария, слетай-ка за сигаретами!» Да я такому нахалу… А Стас попросит, я и бегу. Дождь не дождь, знаю, что он «Яву» за сорок копеек курит, ищешь, ищешь эту «Яву» по всей Москве. И удовольствие получаешь, потому что он доволен будет: ждет, волнуется – куда пропала! А я целый блок этой «Явы» притащу, он что-нибудь приятное мне: «У-у-у». А мне больше и не надо ничего… Я ж понимаю, я очень виновата перед ним! Какая уж мне благодарность… На душе так приятно, так радостно! Сижу, смотрю, как он дымит, и чуть не плачу от удовольствия.
Нижняя челюсть у Марии чуточку выпирает, мелкие зубы крепко сидят на изогнутой, крутой дуге розовой десны. Если долго смотреть на ее веселенький ротик, то невольно начинаешь улыбаться, улавливая сходство с ротиком какой-нибудь красавицы газели. Лицо в эти минуты нежно окрашено, как будто над ним колдовали искусные гримеры. А в глазах черт знает какая радость влюбленной женщины. На нескольких человек хватило бы с избытком, а тут вдруг одной досталось, и она не знает, что с ней делать.
Даже во сне лицо ее выражает удовольствие. Все черты его загадочно сплетены в неоконченную улыбку, которая как бы выражает радостный испуг перед жизненной силой, перед всемогуществом этой силы. Перед ней она крохотная частичка, зеленый листик на ветке, но тоже, как этот листик, имеет право на все те радости, какие дарит солнце или лунный свет, дождь или пушистый снег среди зимы. «Я очень люблю! – как бы говорит она всему окружающему миру, зная, что мир этот хороший, а потому и она в нем тоже хорошая. – Люблю! Мне больше ничего не надо. Я очень счастлива».
В этом смысле она похожа на подрастающего ребенка, который только-только стал сознавать себя жителем Земли, приспосабливая мир к себе, маленькому человеку, способному в жестоком и могучем мире выжить, если только все остальные существа будут хорошими, добрыми и любящими его: медведь, волк, баба-яга и кащей бессмертный…
Мария мне рассказывала, что еще девочкой она без тени страха ходила в потемках по безлюдным переулкам, без боязни шла навстречу мрачной кучке парней, если они попадались на пути, и, зная, что они не только не тронут ее, но и не оскорбят грубым словом, проходила мимо, заставляя умолкнуть даже самых бесцеремонных, как если бы шла перед ними в сияющем ореоле.
– Э-э! – услышала она однажды несмелый оклик.
Мария остановилась, плавно повернулась всем корпусом к четверке больших, как баскетболисты, рукастых и ногастых ребят, которые ошеломлены были и обескуражены своим смятением, и с легким, едва заметным полупоклоном улыбнулась им.
– Кто сказал «э-э»? – спросила она и так весело и так громко рассмеялась, что ребята совсем растерялись.
Тьма казалась коричневой в этот час. Под хлипким асфальтом тротуара дышала мокрая, оттаявшая земля, просачивалась сквозь трещины кремовой жижей. Дворы между старыми домами едва светились корявыми стволами спящих еще тополей.
Парень, который окликнул ее, был Станиславом Наварзиным.
Я, признаться, не хотел верить, слушая Марию, хотя вполне реально представлял себе апрельский вечер, московский переулок где-нибудь в районе Самотеки и этих парней… Я даже представлял себе Марию в демисезонном пальтишке, которая смеялась, и мне отчего-то распирало грудь страхом за нее, такую доверчивую и такую смелую, что только диву можно даваться, как она не погубила себя в те юные годы. Уж я и не знаю теперь, что о ней думать. Все ли, о чем я слышал от Марии, она выдумывала или кое-что из ее рассказов было правдой! Иногда мне даже кажется, будто вся ее правда в том и состояла, что она такая фантазерка. Что ж тут поделаешь! Иногда обман, проистекающий от обыденной невнимательности, дороже всякой правды. А я был невнимательным, то есть я не хотел вдаваться в размышления о ней: я просто любовался ею, получая наслаждение, и жаждал только видеть ее и слушать, как музыку, ласкающую слух. Тут уж, конечно, прав Наварзин, сказав, что нет никакого смысла в музыке; я с ним сразу же согласился. Да и кто остановит, нацелит наше внимание, которое торопливо скользит в буднях жизни, ни на чем особенно не задерживаясь! Так, наверное, на судьбе у меня написано – скользить по жизни в поисках эфемерного счастья. И я, признаться, совсем не жалею об этом. Может быть, у меня низкое качество жизни? Может быть, я деревянный, как древний город, который много раз сгорал дотла от пожаров, а потом заново отстраивался?.. Но сердце мое и до сих пор не окаменело, хотя города со временем становились каменными. Наверное, я глуп. Но мне и всей жизни не хватит понять, что я глуп. Вот ведь в чем дело, оказывается! Всей жизни не хватит. А зачем же тогда пытаться думать, что ты глуп? В этом моя маленькая хитрость, и я ее унесу с собой в могилу. Пусть меня считают умным: мне так проще. Это обо мне, наверное, мудрый сказал: мы растем, но не зреем.
Я и теперь плачу, как только вспоминаю о счастье, которое приносила мне эта удивительная женщина!
Впрочем, счастье ли? Оно ведь просто так на голову не падает. Ничем не заслужил я такого положительного внимания. Роюсь теперь в памяти, как погорелец на пожарище, и никак не могу найти малости, которая мне нужна. Так нужна, что тоска гложет душу, будто я в будничной суете забыл имя матери. Не лицо Марии хочу увидеть или слово какое-нибудь вспомнить, не событие восстановить в подробностях – все это пока цепко держит нетерпеливый мозг. Никак не вспомню, не уловлю в памяти благоухание той жизни, таинственный ее аромат, сотканный из множества забытых теперь запахов, которые и составляли мое мимолетное счастье. Словно бы жизнь моя окрашена была пахучими, благовонными веществами, обметана, как крыло бабочки, нежнейшей пыльцой, которая и позволяла мне летать… Теперь пыльца осыпалась, и без нее я беспомощное насекомое, обреченное на гибель. Жизнь посмеивается надо мной, и одна лишь смерть способна избавить меня от мук.
А дни между тем становятся холоднее, опадают листья. Близится зима. На карнизы садятся синицы и заглядывают в окна, постукивают клювами по стеклу, смотрят на меня черными бусинками. Пытаюсь глазами этих пташек сам посмотреть на себя и никак не могу увидеть. Все мне кажется – до старости еще жить да жить; строю планы на будущее, словно живу во сне.
Лес прояснился, запестрел листьями, упавшими на землю, траву, на зеленые замшелые бугры гниющих стволов, проредился, вознес в вечереющее небо полуобнаженные свои ветви. Тихий, он прощается с прожитым днем, который и дождем его посыпал и снежной крупкой и согревал солнцем, озарявшим его зеркальными, холодными лучами. Так и в Москве бывает на закате, когда солнечный свет, отражаясь в стеклах противоположного дома, отбрасывает в погасшие уже окна, входя в восточную мою комнату, нежно-зеркальные блики. Зеркальным отражением мерещится теперь и мокрый лес, блестя зеленой еще листвой лещины, темнея побуревшими листьями черных лип и пронзительно сияя березами в синеве неба. И холодно и тепло.
Из-под ветвей старой ели неслышно выпорхнула нахохлившаяся птичка с пепельно-оранжевой грудкой, посмотрела на меня и так же неслышно спряталась в бурых колючках. «Чего тебе надобно, старче?»
Привиделась мне однажды странная картинка, и я решил предаться фантазии. Сохлый дуб, убитый молнией, стоял на краю деревни, неведомо как и когда выросший тут, а я будто бы взлетел на верхние его сучья, захлопал крыльями и закукарекал на всю деревню. И чувство у меня такое появилось, точно я в ребенка превратился; страх у меня на душе только мистический, а конкретного нет – ни высоты не боюсь, на которую взобрался петухом, ни ножа, которым мне голову отсечь всякий может. Сижу, распеваю, как на дождь, а страх исходит лишь от неизвестности… Что уж потом вышло из всей этой чепухи, я не помню, но только и в жизни я порой напоминал себе этого фантастического петуха на сохлом дереве – так же возбуждался, пылая сердцем и умом, кукарекал что-то на всю округу, не замечая своего лица и той отвратительной самоуверенности, которая, как известно, проистекает от невежества. Так я теперь думаю о себе, ругаю себя, проклиная тот час, когда жизнь свела меня с той, которая убила во мне стереоскопическое зрение: все я стал видеть в одной плоскости, и только Мария сделалась для меня живой природой, заменив собой все прежние радости, все увлечения и все чувства. Я катастрофически быстро старел. Всякое явление в жизни заключает в себе множество разных граней. И надо быть слепцом, чтобы не видеть их блеска… Я же перестал видеть эти грани, мне даже стало казаться, что средневековые схоласты были правы, утверждая, что Земля плоская, а на небесном куполе развешаны звезды-игрушки.
Кстати, когда Мария говорила о хозяйственных способностях мужа и о своем невмешательстве в эти дела, она, конечно же, выдавала желаемое за действительное. Уж кто-кто, а она была при всей кажущейся своей несобранности и расхристанности очень властной и настойчивой проводницей необыкновенных замыслов. Двухкомнатная кооперативная квартира, которую я ощущал, как частичку самой Марии, была, по моим представлениям, вершиной художественного и функционального совершенства. По прошествии времени я переменил свое мнение об этом жилье, но в те годы мое восхищение было беспредельно.
Представьте себе комнату привычной кубатуры с невысоким потолком, из которой при всем желании не сделаешь, кажется, ничего из ряда вон выходящего, потому что дверь и окно крадут сразу две стены. Но Мария сумела обмануть пространственное убожество и сделала из одной комнаты две.
Именно в то время я и услышал от нее, что человек всегда учитывал в своей прошлой действительности ум лисицы. Она не раз повторяла это, уходя взглядом в пустоту и как бы обмирая от загадочного значения сказанного, будто раскрывала мне по секрету очень важную тайну, которую берегла в своей душе и ужасалась содеянному.
Что она имела в виду, говоря про этот ум лисицы, я не знаю, но уж, конечно, не простонародное представление о хитрости, не подвиги в курятнике, а что-то гораздо большее и значительное, как если бы она и в самом деле старалась вспомнить лисий язык, который знала когда-то, уходя теперь всякий раз во тьму времен и пугаясь там, в той пещерной тьме.
Да, так вот представьте себе комнату, одна стена которой оклеена от угла до двери фотообоями и превращена как бы в осенний, золотисто-охристый лес. Обои эти были обрамлены дубовой аркой, создающей перспективу. На передний план вынесены были кашпо с ниспадающими растениями, сиренево-розовые листья которых создавали иллюзию объемности и пространственной глубины сияющего леса. Особенно эффектно смотрелся этот пейзаж вечером, когда из-под потолка направленный луч освещал цветы и осенний лес, журнальный столик и низкие мягкие кресла, подниматься из зеленых объятий которых так не хотелось мне в поздние часы. Эта полукомната отделена была от другой половины тяжелой гардиной шоколадного цвета, косо свисающей с потолка. Гардина напоминала складками огромное знамя, была подобрана в двух местах тесемками, так что при желании можно было чуть ли не полностью перегородить комнату, обособив уютную столовую возле окна, в которой стояли раздвижной стол, стулья с мягкой обивкой и стеклянный буфет, купленный, видимо, в комиссионном магазине, потому что он похож был на терем, возвышающийся почти до потолка. На стене тут висел писанный маслом натюрморт с арбузом, сиреневый абажур над столом и светильники на стенах в виде старинных подсвечников, которые, как мне помнится, зажигались в самых торжественных случаях, в часы званого какого-нибудь ужина.
Словом, комната была обставлена в типично немецком, бюргерском духе, хоть малы ее объемы, а все-таки Мария умудрилась раздвинуть стены всевозможными ухищрениями, и надо было, конечно, побывать в этой комнате и провести там вечерок, чтобы до конца оценить удобство и иллюзорную ее многоплановость, которая умиляла меня и расслабляла, ввергая в состояние полного блаженства. Чувствовал я себя в этом жилище так, как если бы приходил к любимой женщине, чтобы остаться у нее навсегда.
Кухня, ванная комната и бело-розовая спальня ничем особенно не отличались, если не считать многочисленных зеркал, в которых многократно отражались белые египетские кровати или кафель.
Кабы не Мария, разве я запомнил бы обстановку этой разукрашенной квартиры, разве мог бы с умилением уходить взором в фотографические дали леса, сидя в глубоком кресле за чашкой чая, который подавала Мария на журнальный стол. Плиточный шоколад, наломанный в вазочку ее пальцами, был необыкновенно вкусным и источал такой аромат, какой исходит, может быть, только от горячего шоколада.
Что говорить, влюблен я был безумно! Музыкальный ее голосок, так сказать, cantabile… Стоило мне только услышать… Что со мной делалось! Смущался и глупел, становился ослом – ничего не понимал в первые минуты, а только созерцал самого себя, то есть, я хочу сказать, созерцал ее в самом себе. Видел и слышал ее в своем сердце, а потому и чудилось мне, будто я открыт всем взорам и всем ушам. Всяк, кому не лень, мог заглянуть в глубину моей души и все там прочесть до последней буквы. Вот говорят про влюбленных: он с нее глаз не сводит. Чепуха! Я посмотреть на нее боялся, как все равно в глаза смерти заставлял себя взглянуть – приговора ждал. А она это понимала: ей нравилось, что я боюсь ее. Смотрит на меня и словно бы шалеет от нежности. Нос у нее, прямо скажем, немножечко смешной, как приклеенный к лицу, но неправильно, вкривь. Узенький во всей своей продолговатости, он на кончике округлялся картофелинкой, придавая некоторую глуповатость лицу. Но в то же время удивительную приманчивость, какой порой не обладают даже писаные красавицы. Смотрит на меня рыжей дурочкой, глаза нежно-грустные, умные – все понимала.
Вот сидим мы как-то раз… Гостей собралось у Наварзиных человек пять или шесть.
– Я, например, – говорит один, – верю в неизведанные силы человека. Себя, например, считаю приемником. Мне люди почему-то любят исповедоваться, доверяют самые сокровенные тайны, мысли всякие, какие другому, даже близкому человеку, не доверяют никогда. Если я приемник, то другой, например, передатчик. Он передает на расстоянии, может внушить, например…
– Все правильно, – перебивает его невозмутимый Наварзин. – Вы приемник, а перед вами вот – чайник. – И показывает глазами на меня.
Такая уж у него была манера шутить. Сидит, молчит, переводит взгляд с одного говорящего на другого, глаза равнодушные, без единой живой искорки. Был он хорошо натренирован, вся его физиологическая система работала в отлаженном ритме, он мог подолгу сидеть неподвижно, находиться рядом и в то же время как бы отсутствовать, если ему совсем неинтересно слушать наш разговор. И вдруг словно бы выглядывал из своего далека, губы его кривились в усмешке, и он делал шутливые или язвительные замечания, нападая из своей засады на зазевавшегося.
Что тут поделаешь? Смеюсь вместе со всеми над тем, что я чайник, а сам чувствую, что краснею, и не могу справиться с глазами, которые меня выдают с ног до головы. Кажется мне, что неспроста Наварзин назвал меня чайником.
– А что это вы смеетесь? – спрашивает вдруг Наварзин и холодно смотрит на меня. – Почему вам смешно?
– Потому, вероятно, что, – отвечаю ему, а сам не знаю почему, – потому, что я чайник. У чайника крышка есть и ручка, за которую держат его. – Говорю, а у самого взгляд плывет, ничего не могу поделать с собой. – Ведь если я вас как-нибудь назову, вы мне не поверите, конечно, если я вас кофейником, например, назову… Вы ведь не кофейник. Зачем же всерьез принимать это?
– А может быть, я вас оскорбить таким образом хочу? – говорит Наварзин и не сводит с меня испытующего взгляда.
– То есть вы хотите сказать…
– Да, именно… хочу…
Тут уж все за столом примолкли и потупились, не понимая, что все это значит.
– Вы хотите сказать, – говорю, а сам чувствую, как дрожит во мне душа, холодея от одной мысли, что сейчас придется встать и навсегда покинуть этот дом. – Вы хотите оскорбить? Это очень странный способ: пригласить к себе, чтобы оскорбить… И что значит оскорбить? Повергнуть меня в скорбь… Я действительно буду скорбеть, если вы не шутите. Я привык к вашим шуткам и привык не придавать им значения… Однако!
– О боже мой! – сказал Наварзин. – До чего ж все это плоско. Конечно, я пошутил. Сидите, пожалуйста. У меня сегодня слишком хорошее настроение.
В разговор наш вмешивается Мария и взволнованно говорит, обращаясь ко мне на «вы», как всегда на людях, такая уж у нас игра, я ее тоже на людях величаю на «вы».
– Вы не обижайтесь… У него с утра сегодня хорошее настроение. Он меня, знаете, как сегодня назвал? Сказать? – спрашивает она у мужа.
– Нет, – отвечает он без всякого выражения на лице.
– Вот видите, он не разрешает, а то бы вам всем тоже было смешно. Он сегодня в очень хорошем настроении! Господа, – обращается она к нам с улыбкой, – что же никто не притронулся к этому блюду! Это же тресковая печень с луком! Нет, господа, вам придется ее съесть.
Она, кстати, сделала своей привычкой обращаться к гостям с этим устаревшим: «господа», желая, видимо, подчеркнуть свое особое уважение к ним, и у нее это получалось, надо сказать, очень естественно, как если бы иного обращения она и не знала.
Так же бывает, когда смотришь на человека, как он орудует ножом и вилкой, – видишь сразу, что этот с детства приучен, а другой хоть и справляется, а все равно заметно, что науку эту освоил недавно, что ножом пользуется только в гостях или на официальных каких-нибудь обедах, а дома забывает про нож и одной вилкой, одной правой ест и мясо и картошку какую-нибудь, уткнувшись носом в тарелку; так и хочется сказать: да уж ешь, хватай прямо зубами, зачем вилкой-то, брось и вилку.
А я между тем смотрю на Наварзина и не могу понять, о каком таком хорошем его настроении говорит Мария, в чем оно выражается и как мне его разглядеть. Сидит истуканом, сонливо приспустив веки, сжав бесцветные губы. Но вот что странно! Чувствую, что у него и в самом деле хорошее настроение. Но и сомнение гложет: может быть, они оба смеются надо мной, называя мрак светом, велят мне поверить в это и для чего-то ввести в заблуждение.
Впрочем, вся моя жизнь в те годы была сплошным заблуждением. Это я теперь понимаю, но все равно сердцем тянусь к тем счастливым денечкам и рад бы опять заблуждаться, пусть даже Наварзин опять упражняется в странном своем остроумии. Сидит, например, в мертвенном оцепенении, а потом ни с того ни с сего скажет:
– Когда русский человек роняет честь на моих глазах, я этого человека вычеркиваю из сознания, для меня он с этого мгновения труп.
А я опять мучаюсь, опять думаю: «Это по мою душу», – хотя и стараюсь уверить себя, что у него и в самом деле очень хорошее настроение.
Мария тоже любила ставить меня в тупик. Говорит однажды:
– Надо стать развратной, чтобы почувствовать себя святой. Да, Васенька? Все человечество на этом держится. Сколько уже тысячелетий считает себя святым, потому что не отказывает себе в разврате. Ты, наверно, скажешь, это гибельный путь? Но зато какой прекрасный! Да ведь и другого не дано. Или он есть, другой путь? Может быть, есть, но только я не знаю. По-моему, все так думают, как я, что путь, мол, этот есть, но его за всю жизнь не отыскать. Верно, Васенька?
Что я мог ответить ей? Мне, конечно, надо было бы сказать: «А почему бы не попробовать быть святой, чтобы не быть развратной?» Что-нибудь в этом роде, коль уж она затронула такие категории. Но как ей скажешь? Сидит, упершись подбородком в колени, и смотрит на тебя с надеждой, что ты понимаешь ее лучше, чем все люди на свете. Длинные руки ее обхватили голени, скрестились возле щиколоток, а кисти с набухшими венами замерли в страдальческом бессилии. На плечах рассыпаны веснушки…
Наварзин, кажется, не понимал, каким сокровищем одарила его судьба. Мне же было приятно думать, что он этого не понимал, потому что он как бы развязывал мне руки, то есть я словно бы получил право на Марию, совесть моя оставалась чистой перед ее мужем, с которым, по странной прихоти Марии, приходилось встречаться.
– Ты не представляешь, какой он талантливый физик, – говорила о нем Мария. – Тебе трудно понять, ты гуманитарий и ничего не смыслишь в физике. А я понимаю и говорю тебе – это гений. Я тебе рассказывала? Нет?! Господи! Ну так слушай, Васенька. Он изобрел принципиально новый лазер… Ты хоть знаешь, что такое лазер? Слышал… Ну и то ладно. Дело не в этом. Меня обида за него измучила совсем! Он ведь этот лазер собрал из подручного материала, администрация института не пошла навстречу. Просил, умолял: «Дайте мне хоть корпус сделать приличный». А они: «Ничего, и так сойдет!» Лазер решили на выставке экспонировать. А на выставке один американец захотел купить этот лазер. Понимаешь, что получилось? Лазер, конечно, сразу засекретили… Теперь мужу приходится выписывать специальный пропуск, чтоб подойти к своему собственному лазеру. Можешь себе представить, Васенька?! Абсурд! А сколько, ты думаешь, он за свое изобретение получил? Двести рублей! И все… Руки опускаются. Он такой талантливый, а его никто не ценит. Нагрузки такие дают, что работать некогда. Там лекцию прочти, там с людьми поговори, там, глядишь, в обществе «Знание» надо выступать. И все это на него одного нагружают. Это уж у нас такое правило, сам знаешь. Тянет, давай еще один мешок на телегу, еще один, пока не упадет.
Говорит, а у самой чуть ли не слезы на глазах от обиды за мужа: так ей жалко его. Я молчу в полном недоумении, не зная, что и подумать, как себя вести в этой ситуации. Тем более что не верю ни одному ее слову: насколько мне известно, Наварзин никогда не занимался лазерами. Но думаю: раз уж ей так хочется, зачем рушить ее иллюзии. Да и неловко напоминать, что совсем недавно она же говорила мне про Наварзина, будто тот работает с машиной, с ЭВМ… Я-то ведь помню, как она говорила, захлебываясь от восторга:
– Они там заняты своими машинами, ничего не видят и не слышат вокруг, смотрят только на свои машины! Ах-ах! Что-то она молчит?! Почему ничего не выдает? А! Наконец-то! Пошла! Защелкала! Время летит – ужас! Не успевает оглянуться, а уже конец рабочего дня. Кто был рядом, зачем? У них асексуальный институт! Только одни машины. Математическая модель кровеносной системы. И ничего больше. Я у него спрашиваю: а душа есть? Нет, говорит. Во всяком случае, наука об этом ничего не знает. Если завтра душу откроют, тогда я скажу, что душа есть. А пока нет. Пока открыли только гормоны удовольствия в мозге. Ты можешь себе представить, Васенька? Гормоны удовольствия! А зачем их надо было открывать, если каждый и без науки знал, что они есть. Правильно? А души, говорит, нет пока. Есть сердце, кожаный мешок, а души нигде нет. Я говорю, а почему же тогда этот кожаный мешок рвется, зачем бы не рваться, например, желудку или другой какой-нибудь емкости? Рвется-то ведь от горя почему-то сердце! Если это просто кожаный мешок, простой насос, как он говорит, с чего бы ему рваться!
Мария дышит, как после бега, – так она волнуется, рассказывая про мужа, споря с ним, восхищаясь его педантизмом. Неосознанное возмущение рвется из груди, но она словно бы на лету окрашивает его восторженной улыбкой, пытаясь скрепить узами противоборствующие чувства, распирающие ее.
Она меня совсем запутала, и я даже не пытался уточнять, чем занимается в жизни Наварзин. В конце концов, какое мне до этого дело? Хотя с каждым ее рассказом о нем он вырастал в моих глазах, образ его укрупнялся, а тот флер таинственности, которым был окутан Наварзин, придавал каждому его слову многозначительную силу.
Однажды погода испортилась, навалилась вдруг такая буря с грозой, что слышно было сквозь грохот, как вскрикивали сломанные елки в лесу на опушке: «Крах! Крах!» А у меня в душе тоже этот крах, как будто тоже что-то ломается, рушится и грозит катастрофой. Твердил, помнится, себе в тот смутный, ветреный день осени, когда о грозе уже забывают люди, что главное в жизни – идти к одной цели, выбранной раз и навсегда, единственной и неизменной. Продолжал спор с Наварзиным, которого я не сумел убедить в открытом диалоге. Я ему, в общем-то, сказал, вызывая посостязаться в софистике:
– Убеждения можно менять, а цель никогда, – зная, что с этим не согласится Наварзин, и не ошибся.
– Вы путаете два несовместимых понятия. Цель в жизни – одно, а убеждения – другое.
– Нет, это вы не хотите понять меня, – возразил я ему. – С помощью убеждений я выбираю себе цель и стремлюсь к ней. Я убеждаю себя, что именно тем или иным путем я всего надежнее дойду до цели, то есть сделаю свою жизнь осмысленной и сумею чего-то достичь. Если же обстоятельства заставляют поменять убеждения, если вдруг оказывается, что путь выбран неверно и ведет в болото, то почему бы не остановиться и не пойти другим путем? Убеждения, что путь и цель выбраны правильно, оказались ложными. Зачем же мне верить слепо и лезть в болото? Я постараюсь переубедить себя и пойти к цели другим путем.
– То есть вы пойдете против своих убеждений. А это последнее дело.
– Почему же против, почему последнее дело? Мне до цели дойти надо! А если даже против своих убеждений, так что же? Я ведь не изменяю цели. Я убежден, что цель прекрасна и достигнуть ее надо во что бы то ни стало. Но чтобы дойти до нее, нужно уметь менять убеждения… Что-то я не знаю таких счастливчиков, которым сразу бы удалось по ковровой дорожке добраться до цели. Каждый путь надо пройти до предельной возможности, только тогда победишь. Угадать же короткий и единственный – это все из области фантастики.
– Нельзя идти против собственных убеждений, – сказал Наварзин и прищурился.
– А если они ложны? Убеждения всего лишь стимул к поиску кратчайшего пути к цели. Не более того!
– Это называется: цель любыми средствами, – говорил Наварзин, не слушая меня. – В понятие «любые средства» входят и недозволенные, а, значит, ваша цель, как бы прекрасна она ни была, не стоит того, чтобы к ней идти.






