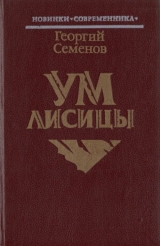
Текст книги "Ум лисицы"
Автор книги: Георгий Семенов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц)
Одно лишь обстоятельство всегда смущало ее: она не знала домашних адресов писателей и отправляла письма в редакцию издательства или журнала, в скобках обязательно приписывая требовательное словечко «лично», и ставила три восклицательных знака. Но все равно не была до конца уверена, что письмо попадет в руки адресата. Это доставляло ей массу волнений, она видела нечистоплотных людей, которые, взяв письмо без обратного адреса, могут распечатать его, прежде чем отсылать автору, прочесть, посмеяться и бросить в корзину. Она заранее возмущалась, кляла девчонок из отделов писем, ругалась, войдя в роль грубоватого героя, чувствовала себя непризнанным борцом. Но всякий раз, мучимая сомнениями, оставляла пустым то место на конверте, где пишется адрес отправителя.
Клавдия Александровна прекрасно знала, что это нехорошо, что всякий уважающий себя человек идет на бой, как она любила высказываться, с открытым забралом, презирая всякие безличные выступления. Но, понимая все это, она испытывала ни с чем не сравнимое наслаждение, скрывая истинное свое лицо, словно отвергала чью-то любовь и выходила из объятий непорочной девственницей, одержав победу над низменным чувством. «Нет, я не могу быть твоею! – как бы говорила она с гордостью. – Я слишком высоко ценю независимость».
Резко очерченные, беспокойные ноздри ее вздрагивали. Глаза, полуприкрытые голубоватыми колпаками век, источали смертельную усталость, точно она и в самом деле только что вышла из борьбы.
Настенное зеркало в раме уже отражало смутный свет, пробивавшийся сквозь плотные гардины. Лунная грозовая ночь кончилась. В овраге льдисто, колко щелкал соловей.
Клавдия Александровна задремала с библиотечной книжкой в руках, зачитанной до жирной грязи, уснула с блаженной улыбкой, вкусив сладость истинной поэзии, небывалой красоты, заключенной в простой и трогательно-нежной обещающей фразе: «Сена еще едва отражала улыбку утра, но на вершине холмов уже серебрился день. Легкий ветерок, веющий с холмов, бирюзовые небеса, синяя река, сияющая, словно огромная змея, – все заставляло его отдаваться мечтам о том, что его так поразило. Перед ним, как живая, стояла m-me д'Этиоль».
– Полнолуние, – жаловалась она на другой день. – К тому же эти грозы… Они меня сведут с ума.
– Хотите, я вас немножечко развеселю? – говорил ей Игорь Степанович, воняя сигарой. – Во время первой империалистической пародировали Вильгельма Второго, кайзера, который был почетным доктором медицины: «Зашел в госпиталь, посмотрел, как ампутируют ногу, – не понравилось. Показал, как надо, – отрезал другую ногу. Спросил у больного, как он себя чувствует, – молчит. Сказали, умер. Что за благодарность!»
Смех Игоря Степановича напоминал свистящее шипение проколотой автомобильной камеры, такой же прерывисто сиплый звук вылетал из его рта.
– Я не понимаю. Что вы имеете в виду? – отвечала Клавдия Александровна. – Ведь не просто так вы это мне рассказали, есть какая-то причина.
– Причина? Что вы, голубушка! Смех без причины, знаете? Вот именно. Я сейчас оттуда, – посмеиваясь, говорил он, снизив голос и показывая сигарой на потолок. – Впрочем, все это детали… Вы знаете, чем я вчера занимался? Изучал устройство домиков для кур. Мечтал о курах и радовался. Можете себе представить? Кто-то строит домики для кур, слушает петушиные песни… Почему бы вам не разводить кур? У вас для этого все условия. Изучал вчера домики и думал о вас: какая вы все-таки непрактичная женщина!
В кабинете у Игоря Степановича стоял аквариум, вода в котором была похожа на зеленый ликер «Шартрез», в котором лениво и маслянисто-упруго передвигались скалярии… Добродушный человек, он достиг такого положения, что ему стало трудно отличать друзей от льстецов, а их при нем было много. Кажется, он очень страдал от такого недоразумения.
– Какие новости? – спрашивал он, но не ждал ответа. – Я бы на вашем месте построил курятник, обзавелся породистыми курами и всю жизнь… А что вы такое сказали про мой юмор? Он не безумен, нет, нет… Вообще, вот что, голубушка, давайте повышать с вами качество жизни. Договорились? Чтобы можно было проявить свои духовные потребности и особенности… Вы говорите, гроза? Как это, наверно, приятно! Кто-то хорошо сказал: жизнь не берегли, но любили наслаждаться ею. Ах, как хорошо! Это и есть качество жизни… У нас оно низкое, надо повышать. Не беречь, но наслаждаться! Бросьте вы все свои страхи, охи, ахи. Вы подсчитывали когда-нибудь, сколько раз пожары сжигали Москву дотла? А сколько раз она отстраивалась? Живем на пепелище – на святом месте! Великие были пожары! Евгеники утверждают, например…
Клавдия Александровна покорно слушала, склонив голову, потупив взгляд, но, улучив момент, холодно сказала:
– Я могу заняться своими делами?
Игорь Степанович осекся, внимательно посмотрел на нее и ворчливо продолжил:
– Евгеники утверждают, что нация, потерявшая в войнах лучших своих сынов, глупеет впоследствии и вырождается. На первый взгляд это так. Вы согласны? Но у лучшего, у самого одаренного, талантливого чаще всего вырастают далеко не лучшие и не талантливые дети – серенькие граждане… По-моему, евгеники ошибаются. Как вы считаете?
– Я так не считаю.
– Напрасно вы не хотите понять меня. Я болтаю всякую чепуху, несу чушь, потому что… Пожалуйста, не сердитесь на меня, голубушка. Я вас понимаю, скучно, конечно, слушать человека, который необъяснимое хочет объяснить необъяснимым… До меня это многие пытались сделать, но безуспешно. Куда уж нам… Это, знаете, еще один знаменитый пример: заднее колесо бежит с такой же скоростью, что и переднее, но отстоит от него на почтительном расстоянии. Вот я и есть то самое заднее колесо. Кстати, еще об евгенике: я вырождаюсь в своих детях – вас это устраивает?
Клавдия Александровна никогда еще не видела шефа в таком растрепанном состоянии. Но она настолько привыкла к дистанции или, иначе говоря, к той нейтральной полосе, которая пролегла между ним и ею, что каждый шаг, сделанный в сторону сближения, казался ей чуть ли не преступным, и она, подчиняясь инстинктивному порыву самосохранения, была холодна и официально строга, хотя и сказала, чтобы не обидеть его:
– О, мой лев, не причиняйте себе забот!
Игорь Степанович вздрогнул и с досадой сказал:
– У нас с вами, Клавдия Александровна, вы замечали? У нас не получается шуток. Какая-то полуправда! Она, конечно, тоже бывает смешна. Но чаще всего отвратительна. Вы согласны? Не умеем шутить.
– Да, – отвечала Клавдия Александровна, – я согласна. – И внимательно пригляделась к Игорю Степановичу, точно он был так пьян, что с ним надо было только соглашаться. – Можно, я вас буду называть Нил Филадельфович?
– В час добрый, – сказал он и грузно пошел от нее боком за свой стол. – У меня был знакомый по фамилии Сиренев, у него спрашивали: а как ваша настоящая фамилия?
Мир и спокойствие были восстановлены: «Нил Филадельфович» засипел в смехе, Клавдия Александровна тоже тихонечко засмеялась и, поигрывая струнными мышцами, коротким энергичным шажочком вышла из кабинета.
В этот день она нежно любила своего шефа, человека мягкого и приятно ироничного, к которому, как она замечала, льнули умные некрасивые женщины, а красотки, зная себе цену, посмеивались над ним.
Именно в этот день Клавдия Александровна почувствовала вдруг прилив крови к голове, закрыла глаза, надавив на виски пальцами, и, боясь подступившей дурноты и слабости, заставила себя думать о прохладном весеннем лесе, о сырой, еще не хоженной тропе, затянутой кожистым слоем прошлогодних листьев, увидела побеги папоротника, напоминавшие коричневых улиток, вспомнила прозрачный крап распускающихся березовых листьев…
«Господи, – подумала она в волнении, – зачем же я поставила эту фамилию? Что же со мной происходит? Мокеев! Разве он мог бы так написать? Впрочем, В. Мокеев! А он Николай. Он Коля… Носик у него, как побег папоротника, улиточкой, а глаза в зеленую крапинку. Н. Мокеев, а не В. Ничего страшного. Мокеев! Вот оно как!»
Страшного ничего не случилось с ней. Она лишь особенно ярко вспомнила вдруг сержанта Мокеева, кургузенький его носик и себя, протягивающую ивовую корзинку с яблоками. Нет, не просто сержанта, а старшего, с одной широкой лычкой мутно-красного цвета на зеленом погоне с голубым кантом и с серебристыми крылышками войск ПВО. Худенького, жилистого тридцатилетнего командира аэростатного поста, ничем, однако, не похожего на командира. Он так же, как и солдаты, бинтовал по утрам икры своих кривоватых ног холщовыми обмотками, обуваясь в разлапистые солдатские бутсы сорок пятого размера. Даже ремень на выгоревшей гимнастерке был солдатский, с простой петлистой пряжкой, в которую Мокеев продергивал промасленный мягкий конец с дырками, стягивал себя до предела и разгонял складки гимнастерки за спину. Так они и торчали утиным хвостом над обвисшей мотней диагоналевых хлопчатобумажных штанов. В подчинении у Мокеева был моторист и восемь девушек, которым в отличие от командира и моториста выдали кирзовые сапоги. Жили они все в небольшом здании поселковой школы, приспособив классные комнаты под спальни, столовую и кухню. Был у них свой огород неподалеку от аэростата, серебрившегося перкалевой рыбьей чешуей под маскировочной сетью. Днем они отсыпались, а ночью работали: во всяком случае, Калачевым казалось, что днем они ничего не делали. Только вечером, перед налетом на Москву, сдавали в небо аэростат, выводя его с балластом из-под сетки. На земле сразу пустело без аэростата, только темно-зеленый прочный газгольдер оставался на бивуаке, а громадный аэростат, освобожденный от мешков с песком, полоскался хвостом над лебедкой, закрывая полнеба брюхом, простеганным резиновыми стежками, гудел, как парус, в воздушных потоках и рвался ввысь, подъемной своей силой подергивая лебедку, установленную на полуторке.
Со временем это зрелище стало привычным, и Калачевы, жившие поблизости, не обращали внимания на аэростат, уплывающий в небо на прочном поблескивающем тросе. Утром аэростат возвращался на землю из своего ночного бдения и опять, отяжеленный балластными мешками, но не угомонившийся, строптивый, непокорный, отрывая от земли вцепившихся в него девушек, уплывал, ведомый ими, под маскировочную сеть и, намертво притянутый крепежной к земле, словно бы засыпал до вечера. Как и те, кто обслуживал его на зорях и дежурил ночью на посту. Впрочем, и днем на биваке оставался часовой – девушка с винтовкой, чуть старше Клавы Калачевой, года на три, на четыре, не больше. Ей в то время было пятнадцать, но по развитию она ничем не отличалась от девушек в пилотках, прятавших короткие, до плеч, волосы в нитяные сетки, похожие на вуалевые мешочки, точно это так полагалось им по уставу, чтоб не ходить растрепанными. Кирзовые голенища солдатских сапог они умудрялись обуживать по ноге и, начистив до глянца, носили эти обновленные сапожки чуть ли не с гусарским щегольством. Рядом с ними старший сержант Мокеев казался нескладным в своих обмотках, кривоногим и старым, особенно если смотреть на него со спины: ноги полусогнутые, коленки пузырятся над обмотками, гимнастерка, расправленная на животе, гармонится сзади и хвостом висит из-под ремня. «Командир, – говорили ему девушки, – давай подошьем гимнастерку, укоротим малость. А то она на вас не то платье, не то фартук». Зеленые, солнечные крапинки сияли в его глазках, носик совсем подворачивался, поблескивая розовой упругостью ноздрей. «Обойдемся, – отвечал он, одергивая полы гимнастерки, – без портных! Ясно? Вот куплю шевиотовый отрез, беж в полосочку, полуботинки тоже беж и шелковую сорочку… А сейчас обойдемся! Война, девушки. Радио надо слушать и газеты читать. Война все ж таки! Слыхали? Никифорова! – обращался он к веснушчатой девушке с выщипанными бровями. – Еще раз замечу, что этот с собакой… на пост к тебе пришел, смотри! Мало ли что военный! Я сказал! Ясно?»
Улыбчивый на вид, он мог быть и гневливым, резким, как старый мужик, у которого в семье восемь девок на выданье, а женихов – один моторист, да и тот ленив и обжорист, зевотой своей раздражавший Мокеева. «А шо я могу поделать? Спать охота, вот и зеваю! Не могу ничего поделать. Можа, какая болесть… не знаю. До войны не замечалось. А теперь сам удивляюся… Зеваю и зеваю. Не обращай внимания, командир. Може, само пройдет. Я как на девушек погляжу, так и зеваю… От нервов, наверно».
Зевал он с хрустом в салазках, со стонущим приглушенным ревом сытого зверя, словно бы и в самом деле страдая от этой привязчивой зевоты, с которой не знал, как бороться. Мокееву слышалось всякий раз, когда зевал моторист, протяжное и заразительное «уй-ё-о!», которое и его тоже тянуло на зевоту и клонило в сон. Уй-ё-о-о…
Над всем этим подсмеивался старший сержант Мокеев, рассказывая Калачевым, когда заглядывал к ним на огонек, на тусклый моргасик, от потрескивающего фитилька которого в комнате попахивало жженым керосином. Клава Калачева с восторгом смотрела на командира аэростатного поста, пока не поняла, что Мокеев приходил к ним не просто так, а с тайной надеждой на внимание несчастной вдовы погибшего Миши, которая и летом и зимой ходила по дому в стеганых бурочках, жалуясь на отеки. Перед сном, снимая бурки, она морщилась, а потом долго смотрела на опухшие ноги, на желтые подушки, из которых торчали короткие плотные пальцы, нажимала на кожу голени, и в ней оставались белые ямочки.
Ей было всего двадцать три года, она гладко причесывала переливчатые темные волосы, светлой ниточкой пробора разделяя на две половины красивую свою голову с двумя большими черными глазами и прямым тонким носом, двумя полукруглыми черными бровями и овальным подбородком. Миша очень любил ее. Сама она тоже знала о своей красоте, позволяя ему подолгу любоваться собою. Она замирала в неясной улыбке перед зеркалом и большим гребнем расчесывала длинные, тяжелые волосы, которые были холодными на ощупь. Но после гибели Миши она остриглась, оборвала плавную линию текучих, тяжелых волос, оголила сзади белую шею, не обласканную солнечным лучом, и стала распухать от водянки, хотя в то время еще казалось, что она просто растолстела. «Кла-а, – говорила она, называя Клавдию одним этим звуком, – когда ты меня похоронишь, то, во-первых, позаботься о мальчике, а во-вторых, постарайся узнать, где лежит Миша, съезди на могилу и привези горсточку земли. Ладно? Потом эту землю высыпи на мою могилу, а в то местечко посади душистый горошек. Миша мне всегда говорил, что душистый горошек его любимый цветок. По-моему, этот цветок принес ему несчастье… Но все равно посади: на могиле ему будет самое подходящее место. Почему-то я всегда пугалась, когда он дарил мне эти цветы. Почему – не знаю. Всякий раз мне делалось нехорошо. Миша, конечно, не замечал, я ничего не говорила ему, не хотела, а он всегда так нежно дарил цветы, заходил сзади, обнимал и подносил цветы к моему лицу, спрашивая: «Это для чего-нибудь пригодится?» А у меня сердце обрывалось. Честное слово! Не могу объяснить, почему так происходило. Я даже вздрагивала, господи, думаю, опять душистый горошек!»
Налеты на Москву прекратились. Аэростатчики снимали урожаи со своего огорода, и Мокеев угощал Калачевых огурчиками, помидорами или морковью. Все это росло и у самих Калачевых. Но вот хлеб…
Хлеб, который приносил иногда Мокеев, завернув буханку в старую газету; хлеб, о появлении которого они сразу догадывались, видя под локтем у старшего сержанта тяжелый кирпичик в газетной обертке, чудесное присутствие большого хлеба, еще не принадлежащего им, но уже вошедшего в их дом; хлеб этот, когда Мокеев разворачивал его и клал на стол, хлеб с подгоревшей верхней корочкой и бледно-серыми ноздреватыми боками – душистый хлеб плавал в возбужденном воображении, заполняя нетронутой своей цельностью весь дом. Хлеб! Черное лезвие кухонного ножа с похрустыванием тонуло в плотной мякоти, которая обметывала лезвие крахмалистой, липкой пленкой. Тяжелый и сырой, он был так вкусен, что казался самым лучшим хлебом, какой когда-либо ела Клава Калачева.
Теперь, если Клавдия Александровна видела в кино или читала в книгах, что люди в ту пору собирали крошки со стола и отправляли их в рот, она очень раздражалась, потому что тот, военный, необыкновенно вкусный, душистый хлеб не крошился: он наполовину был из картошки, был липкий, был увесистый, как глина. Она помнила картофельные кусочки, светлеющие на срезах черного хлеба, помнила его клейкую массу, но вот крошек на столе не было – хлеб не крошился. И никогда не черствел, потому что не успевал подсохнуть: ни у кого не хватило бы терпения ждать, когда хлеб, принесенный в дом, зачерствеет.
Но это все-таки был хлеб! Он так и остался в памяти хлебом Мокеева.
Хотел, как говорится, усладить вдовушку, но она была неприступна. После войны след старшего сержанта Мокеева был потерян. Красавица вдова умерла. Мальчик ушел в артиллерийскую спецшколу, а потом в училище, а после говорил: «Я воин по призванию и воспитанию», – имея виду, наверное, погибшего отца, за которого он должен мстить, и войну, которая вошла в его кровь вместе с млечным светом суетливых прожекторов в московском небе и орудийной стрельбой по самолетам.
Была однажды зима на берегу Черного моря, теплое солнце и шторм. Оливковые волны, ударяясь о камни, с пушечным грохотом вздымались вверх и белоснежной лавиной рушились с плеском на набережную. Ровный ветер гнал и гнал кологривые волны. Их удары о камни с ритмичной постоянностью отсчитывали время, какое выпало на долю Клавдии Александровны в этом прохладно-зеленом краю.
Как-то раз термометр упал ниже нулевой отметки, усилился холодный ветер, резче стала волна. Вечнозеленый кустарник, до которого долетали брызги, оделся в молочно-льдистую, позвякивающую на ветру кольчугу. Солнце освещало море и далекие горы с заснеженными вершинами и падями, зеленые газоны и толщу ударной волны, катящейся вдоль набережной и извергающейся к небу с вулканической мощью и величием.
И страшно было и весело смотреть на взбушевавшееся море, на яркую среди зимы сочную траву, лоснящуюся под солнцем, на черных дроздов и самшитовый кустарник, поблескивающий роговицами жестких листьев.
В этот день Клавдия Александровна купила парниковых огурцов и заглянула в аптеку узнать на всякий случай, не появилось ли косточковое масло. Игорь Степанович, у которого внучка страдала аллергическим диатезом, просил привезти, и она чуть ли не каждый день заходила во все аптеки города в тщетных поисках – детский диатез стал повальным бедствием. Впрочем, Калачева всегда с интересом забегала в аптеки, подолгу разглядывая стеклянные прилавки, словно надеясь на эликсир молодости, который вдруг бы появился на ее счастье в продаже.
Так и теперь она вошла, как ребенок в детский мир, поправляя сбившиеся на ветру волосы, и с любопытством склонилась над стеклянным прилавком, над тем его отделом, где лежали коробки и пакеты с лекарственными травами. Увидела мяту и обрадовалась. Встала в очередь за мужчиной в распахнутом плаще, из-под ворота которого виднелся стоячий воротник офицерского кителя с ярко-голубым кантом, толстым, нашитым уже по изношенному, истершемуся канту неумелой рукой. Шея с двумя высоко расположенными поперечными складками, одна из которых подрезала жирный затылочный бугор на коротко стриженной седой голове. Клавдия Александровна чутьистым своим носом уловила неприятный капустный запах и отстранилась от соседа, который, когда подошла очередь, попросил таблетки пенталгина, на что ему любезная провизорша ответила, что это лекарство отпускается по рецепту.
– А где я возьму рецепт? Зачем такой формализм? Я старый человек, защитник вашего города, а мне даже не дают каких-то таблеток. Надругательство над старым человеком, и ничего больше… С таким неуважением я сталкиваюсь впервые, – скрипучим, скучным голосом говорил мужчина в кителе. – Неужели нельзя без рецепта? Я всегда брал без рецепта… Никакой заботы.
– Нельзя, – отвечала ему провизорша. – Я как раз и забочусь о вашем здоровье. Может, вам вредно. А рецепт в городской поликлинике. Пожалуйста, приходите с рецептом.
– Вы сугубо узко смотрите на жизнь, – продолжал мужчина однотонным, бесцветным голосом, не отходя от прилавка. – Лишь бы мне хорошо, а на остальных наплевать. Это сугубо узкий взгляд. Молодая, а такая формалистка.
– Я не формалистка. Я вас хорошо знаю, вы не первый раз приходите и требуете пенталгин. Я же помню вас! Тратите столько времени! Давно бы уже получили в поликлинике рецепт – и тогда пожалуйста. А то ведь ходите, ходите… Странно, честное слово! Оскорбляет еще, – говорила юная провизорша с тонкой, чувствительной кожей щек, которые зарделись свекольным соком, оттенив белизну лба и шеи, черноту возбужденных глаз. – Мы за это лекарство отчитываемся. Я вас слушаю, – обратилась она к Клавдии Александровне. – Что вам, женщина?
А та, не услышав ее обращения, взглянула на мужчину, отходившего от прилавка, на его лицо, и, спрятав глаза, отлетела мысленно из аптеки, из этого шумного приморского города, растворилась, пропала в мгновенном смущении.
– Я вас слушаю, – повторила провизорша, сдерживая раздражение. – Что за день такой выдался! Злые все, как не знаю кто!
Клавдия Александровна встрепенулась и, протягивая деньги, с мучительно-неловкой вежливостью виновато проговорила:
– Мяту, пожалуйста. Извините.
А сама смотрела вслед уходящему мужчине, на груди у которого под распахнутым плащом увидела металлический блеск многочисленных значков. Да, конечно, коробочку с мятой в сумку, на огурцы.
– Спасибо…
Шаг от прилавка и скорей, скорей, чтобы не потерять, разглядеть, убедиться, что это ошибка, что неприятный тип со складчатым затылком…
Она торопливо вышла, оттолкнув в дверях идущих навстречу, и сразу увидела того, за кем побежала. Он стоял, откинув полу плаща, и что-то искал в кармане брюк. Большие блестящие значки были разбросаны на груди старенького кителя с голубым кантом.
Клавдия Александровна вдруг испугалась, подумав, что это, наверное, все-таки он. Мысли и чувства ее смешались, и она прошла в растерянности мимо, услышав, как в кармане у него бренчат мелкие монеты. Она чувствовала себя так, как если бы спустя много лет случайно наткнулась на бандита, свершившего насилие над ней, и теперь не знала, что ей нужно делать, как поступить: кричать, звать на помощь или попытаться взять его в одиночку, рассчитывая только на свои силы. Это странное ощущение пугало ее, но она все-таки пересилила страх, повернула обратно и увидела, что он идет ей навстречу… Она подняла взгляд, встретившись со взглядом некогда улыбчивых, крапчато-зеленых глаз, которые теперь были полуприкрыты птичьей как будто пленочкой мутных безресничных век. Кургузый нос, обожженный солнцем, загнулся ноздрями над плотно и скорбно сжатыми серыми губами, ввалившимися в беззубую полость рта.
Ничто не дрогнуло в равнодушном его взгляде, он не узнал ее, и тогда она остановилась и, выждав, медленно пошла следом, обдумывая, как ей поступить, как подойти и окликнуть.
Большие коричневые ботинки были то ли велики ему, то ли не крепко зашнурованы – задники скользили по пяткам, и шел он, старчески шаркая каблуками по асфальту. Резиновые каблуки были круто стесаны с внешней стороны, усугубляя кривизну ног. Брюки измятыми складками наползали на ботинки. Он был очень стар на вид и немощен.
«Если это Мокеев, то как изменился! – думала Клавдия Александровна. – Но как же он мог защищать этот город? Ложь. Ну какая разница! Сказал и сказал. В общем-то, каждый защищал, освобождал, строил… каждый… Он тоже. Там и здесь. Не важно. Ах, как жалко его, если это он… А это он! В нем и тогда жил этот старичок, сидел в нем где-то, виден был и тогда. Разве иначе узнала бы через столько лет? Невозможно. Господи, неужели Мокеев? Такой несчастный вид!»
Когда старик присел наконец отдохнуть под кипарисами на краешке скамейки, освещенной солнцем, Клавдия Александровна, пугаясь встречи с прошлым, потерянным навсегда и вдруг возникшим в таком убогом виде, подошла сбоку и негромко, удивленно позвала:
– Николай!
– Что это вы? – встрепенулся тот и, всем корпусом, по-стариковски поворачиваясь на голос, спросил опять: – Что это вы?
– Не узнаете, Николай?
– Что это вы?
– Помните, аэростатный пост, Подмосковье?.. Хлеб, который вы?.. Помните? Я Калачева! – чуть ли не взмолилась она. – Помните? Заходили к нам… Хлеб приносили. Буханку…
– Что это? – капризно проговорил старик. – Какой хлеб? Куда я приносил? Ничего не понимаю. Хлеб. Вы говорите, хлеб? Я хлеб чайкам не кидаю, вы ошиблись. Я хлеб не приносил. Вы меня с кем-то путаете! Да, да… Это какое-то надругательство! Постыдились бы, дамочка! Какой хлеб? Надругательство!
Клавдия Александровна, убежав от старика, долго еще ходила вблизи набережной, гася холодным ветром внутренний жар и судорожную улыбку, которая помимо воли кривила ей губы. В грохотании волн она не стыдилась стонать в голос, переживая недавний свой страх и, как ей казалось, жуткий позор. «Дура, дура, – торопливо проносилось в сознании, и опять улыбка глупо вылезала наружу. – Ах, какая дура! С чего это я вдруг решила?! Ах, дура, дура…»
Со стороны могло показаться, что женщина, подставляя ветру лицо, ходит, любуясь бушующим морем, и не скрывает своего восторга.
«Что вы, Николай, что вы! Зачем, Николай? Не надо. Это слишком. Такое богатство! Это же хлеб, Николай. Что вы с нами делаете! Чем же отдариться? Садитесь, Николай. Сюда, пожалуйста. Или нет, лучше сюда, здесь вам будет удобнее. А если хотите, садитесь на диван. Садитесь, мы самовар раздуем, а вы посидите, пожалуйста. Ой, Николай, какой вы! Чем же вас угостить? У нас – ничего… Ну как это вы не хотите! Что-нибудь придумаем. У нас, кроме фруктового чая… Картошечки отварим! По-домашнему. Как, Николай? Селедочка есть! Отварим картошки, хлеб! Сейчас мы устроим пир!»
Это и в самом деле было пиршество.
В Москве Игорь Степанович, узнав, что косточкового масла Клавдия Александровна не привезла, пошутил, как всегда, неудачно:
– Ну что ж! – сказал он. – Зато привезли обещание, которое обещали.
И началась обычная ее жизнь от понедельника до пятницы или, как еще говорила она, переняв манеру шефа подшучивать над собой, в стиле блюз, то есть неторопливо и пресно, без огонька.
Лишь майское полнолуние выбивало ее из привычного ритма, словно высшие силы врывались и взрывали изнутри размеренную ее жизнь. Даже выражение лица менялось в эти дни, когда в небе царствовала луна. Тяжело и загнанно дыша, Клавдия Александровна была на грани слез, как это бывает с пересмеявшимися людьми, когда смех превратился уже в наказание, в истерическое безумие, отнимающее силы и доводящее до нервного шока, до потрясения, даже до слез.
– Полнолуние, – жаловалась она, тщетно пытаясь найти отклик в душах людей. – Человек не спит два дня до полной луны и два дня после, когда луна идет на ущерб. Я неделю не сплю и очень мучаюсь.
– Может, вы по крышам гуляете? – спросил ее как-то Игорь Степанович.
Они встретились с ним в обеденный перерыв на Центральном рынке возле рядов, заваленных первой зеленью, редиской, драгоценными помидорами и огурцами. На нем была в этот день надета легкая и просторная куртка цементного цвета, с карманами и с кнопочными застежками, кепка, похожая на жокейскую, брюки и замшевые спортивные туфли тоже маскировочного защитного оттенка.
– Все молодитесь, – ответила Калачева, кивая на одежду. – Вам бы еще пробковый шлем. Вместо этого козырька. Похожи на тренера.
– Что ж! – откликнулся он, сипло выдавливая воздух из груди. – Вы не поверите. А я в свое время хорошо прыгал. Особенно в длину. Как разбежишься, как прыгнешь! Летишь и радуешься. Я, наверное, был бы неплохим прыгуном. Прыгал бы во всех странах. Там рекорд, там достижение, там аплодисменты. Жизнь! Никто не подтолкнул в ту сторону, а жаль. Я бы лихо прыгал, у меня ноги так устроены – и легко подпрыгивал и получал удовольствие. Ни с того ни с сего разбежишься и перепрыгнешь лужу. С удовольствием! Удивишь людей и идешь себе дальше. Теперь вспоминаю и не верю: я ли? Легок был на ногу, на пружинах ходил, вприпрыжку. А теперь сижу, курю, толстею, порчу себе нервы, ублажаю дураков. Чуть ли не главное внимание – дуракам. У нас ведь как? Идея не идея, если не способна удовлетворить всех, а в первую очередь дураков. С ними надо считаться. Если идея не понравится дураку, он ее угробит… Наш главный тормоз – дурак. Дурак любит задавать вопросы, вот как я, например, задал вам: не гуляете ли по крышам? – Игорь Степанович медленно шел к припаркованной возле чугунной ограды автомашине. Было жарко, и он вытирал платком шею, посмеиваясь, покашливая, поглядывая красным, воспаленным глазом на свою секретаршу. – Дурак, – продолжал он, остановившись перед лавиной машин, – никогда не знает ответов. Для него главное задать вопрос. У него на все случаи жизни запасены вопросы. Попробуйте решить какое-нибудь дело, если дурак против! Никакая хорошая идея не пойдет, если он не в силах осмыслить ее и понять. Нужно, чтоб дураку обязательно понравилось. Дикари! Знаете, в чем особенность нашего дурака? Вот получил, например, он в хозяйство трактор, а трактор оборудован бочкой для поливки, ножом для уборки снега… А на кой черт?! Сняли, выбросили, погубили, списали… Все в порядке. Приходит уборщица, тряпку просит – нечем полы мыть. А где я тебе тряпку возьму? У меня тряпок нет. Просит лопату, дорожку от снега расчистить. А лопата, знаешь, сколько стоит? Три рубля! Надо еще изыскать, а потом купить лопату – тогда и приходи… На сотни рублей выбрасывает, а трех рублей или тряпку достать не может. Дикарь! С техникой никаких связей нет, он не понимает, не чувствует, не ощущает ее стоимости, не ведает о напряжении народа в производстве того же трактора. А тряпка предмет знакомый – он этот предмет чувствует и знает. И все его усилия, все его дела на уровне половой тряпки. Или метлы. Она ему тоже понятна – родной инструмент. Вот что такое наш дурак… Должность очень выгодная. Заметная!
Клавдия Александровна слушает, задыхаясь едким газом, висящим в разогретом пыльном воздухе, и, страдая от своей безгласности, думает с язвительной иронией, что человек этот тоже, как и все, кого она знала в жизни, не видит себя со стороны. Сейчас он отопрет ключом дверцу своей «Лады», сядет за руль, бросив на заднее сиденье портфель с редисом, накинет ремень безопасности, попросив то же сделать и ее, ворвется в поток машин и будет ворчать на дураков, которые сидят в других машинах и не умеют ездить, а вот он, единственный избранник фортуны, ведет машину так, как полагается на загруженных улицах Москвы. Зимой держит машину в гараже и не ездит на ней, выезжает только в мае, но при этом считает себя виртуозом.






