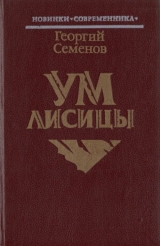
Текст книги "Ум лисицы"
Автор книги: Георгий Семенов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 35 страниц)
Он так обвыкся с безлюдьем и тишиной, что хруст шагов по мерзлому снегу и черная фигурка женщины, появившейся вдруг из-за гранитного парапета вольеры, насторожили и испугали его, как зверя.
Женщина в большой, не по плечу, телогрейке защитного цвета остановилась в нерешительности, увидев Сережу с ружьем, но все-таки решилась и медленно пошла к нему, издалека сказав певучим голоском девушки:
– А я думала, это Саша Федоров. Мне на проходной сказали, что Саша пришел.
– Сашк! – истошно заорал Сережа. – Тебя тут спрашивают.
Саша вынырнул из-за стволов деревьев, где он таился, и, сутулясь, пошел, как голенастый лось, через снежные заносы, растекаясь в улыбке.
– Здорово! – крикнул он, поднимая на воздух убитых ворон, которых держал за черные лапы, отчего они, разбросавши крылья, казались больше, чем были на самом деле. – Здравствуй, – повторил он, склоняясь над маленькой женщиной, утонувшей в валенках и телогрейке.
– Сашк! – воскликнула женщина, как галка. – А ты свое обещание-то помнишь? Забыл небось! Эх ты!
– Почему забыл! Не забыл. А где их взять-то? Я их не видел.
– Да они там, – женщина махнула рукавом телогрейки в сторону насыпной горы за сетчатой оградой. – Где овес, там и они… Чего им тут делать! А это твой товарищ, что ль? Иду, думаю, господи, кто же это такой?
– Помощник, – ответил Сашка и опять поднял взъерошенных ворон. – Во, набил! Сколько мяса каждая сожрала бы? Помощник мой, правда, чего-то это… то-сё… Ничего! – сказал он, бросая ворон под ноги, и Сережа услышал глухой стук их голов об мерзлый снег. Сизые пленки уже затянули мертвенно поблескивающие глаза. – Ничего! – повторил Сашка, похлопывая по плечу своего младшего друга. – Мы сейчас с ним за воробьями двинем. Будь, Маруся, спок! Набьем твоим соболям и куницам деликатесов!
– Не-е, – нытьем откликнулся промерзший насквозь Сережа. – Не-е… Я не пойду! Я еще ни одной, а ты вон сколько!
Вечернее пиршество, о котором мечтал он, представляя себе запах жареного мяса, похожего, как уверял его Саша, на глухариное, превратилось в какую-то очень обидную ошибку, словно его кто-то жестоко разыграл, а он, дурак, поверил…
– Зачем мне воробьи? Я их из рогатки… у себя во дворе… А это… Не-е, я не пойду.
– Не тебе! – гаркнул Саша, разглядывая Сережу, который, как ребенок, чуть ли не плакал от обиды. – Мелким хищникам воробьи, а не тебе. При чем тут ты!
И оба они, Сашка и Маруся, засмеялись, даже не представляя себе, какая тоска легла на сердце Сереже, думавшего о голодных, оборванных братьях, которых он обманул, пообещав им сытный ужин! Он так долго снаряжал патроны, так старался, а теперь вот стоял промерзший, не чуя ног в резиновых, с наклеенными заплатами, сапогах, и с обидой думал о себе, о братьях, об измученной матери…
– Я должен, понимаешь! – сказал он с дрожью в плачущем голосе. – Хотя бы одну ворону…
И свершилось тут чудо! Неосторожная птица, летевшая из-за каменной горы вольеры, вдруг спланировала на растопыренных крыльях и, каркнув, села на дерево, на качнувшуюся ветвь, с которой посыпался иней.
Сережа, как скованный, поднял ружье, вставил приклад в плечо, прицелился и нажал на спуск. Ворона замахала крыльями, но не полетела, а вцепившись лапой в ветвь и продолжая махать крыльями, повисла вниз головой, но стала вдруг медленно падать, стукаясь о ветви и ствол иглистой шеей. На нижней ветви она застряла в развилке и притихла, шевеля черными когтистыми лапами… До нее было так высоко, а ствол старой липы был так гладок и толст, что Сережа, задохнувшийся от радости и побежавший было к дереву, остановился, пораженный этой явной несправедливостью, насмешкой, издевательством и ехидством мертвой вороны, которая не хотела падать дальше, в снег.
– Эй! – крикнул он то ли Сашке, то ли вороне. – А как же теперь? А?!
– Щас! – откликнулся Сашка. – Мы ее снежками или, лучше, ледышками собьем! Щас! Куда она денется!
Ах, какой хороший этот Сашка! Какой прекрасный стрелок! Настоящий охотник! Именно ледышками! Как же он сам-то не догадался сразу?!
И они стали кидать комья смерзшегося снега, целясь в ворону. Саша наконец попал в нее, она вздрогнула и черной мохнатой шапкой мягко упала в снег, взглянув на Сережу сердитым мертвым глазом, когда он поднял ее за крыло, почуяв запах черного пороха, исходивший от рыхлого пера и теплого еще тельца, просвечивающего сквозь перо иссиня-белесой, пупырчатой кожицей.
– Ого-го! – крикнул Сережа, шмыгая носом. – А я уж думал, ружье виновато или патроны. Не-ет! Это я, мазила, виноват.
Радости его не было предела, когда он клал эту первую свою добычу в вещевой мешок, аккуратно сложив шуршащие черные крылья, чтобы не помять.
Маруся ушла. Сашка звал стрелять по воробьям. Сережа спросил:
– Да зачем они нужны?
– Как зачем! Как зачем?! – отвечал ему Сашка, сердито и крикливо. – Маруся за мелкими хищниками ухаживает. Мясом их кормит. Куниц, соболей… Им мясо нужно, понимаешь? А если мы набьем воробьев, Маруся покормит зверей воробьями, а мясо возьмет себе. Не понимаешь? Воробьи для мелких хищников – лакомство. Ну? А мясо им все равно полагается. Она воробьями покормит, а мясо домой унесет. Я обещал. Отношений я портить не хочу – нас не гонят, а наоборот, потому что мы государственное добро бережем. Да что я тебе, как маленькому, объясняю?! Сам должен понимать, то-сё. А мы еще придем сюда. Будь спок! Они нас сами звать будут.
– Я понимаю, Сашк! Только мне бы еще одну птицу! У меня еще восемь патронов осталось. Давай подождем.
– Ладно. Только не уходи никуда, тебя тут никто не знает, стой, пока не приду, – сказал Саша и пошел в сторону каменной горки, где за сеткой паслись горные козлы с крутыми, тяжелыми рогами. Вскоре там раздался негромкий хлопок выстрела, и тут же крикливая галочка вылетела оттуда и села на дерево, до которого было метров сто, не меньше.
Головастенькая, ладная, она звонко покрикивала, словно бы дразнила Сережу, а когда он крадучись пошел к ней, прячась за стволами деревьев и держа ружье наизготовке, умолкла, прыгнула с ветки на ветку, сорвалась и перелетела на дерево, стоящее еще дальше!
Забыв обо всем, Сережа пошел за ней и совсем было приблизился на выстрел, но она опять сорвалась и пересела на другое дерево. Преследование так увлекло Сережу, что он только и видел одну эту галку, не замечая сугробов, через которые лез, не чувствуя снега, набившегося в голенища сапог, и понимал он себя охотником, скрадывающим дичь в глухом лесу.
Он даже и не заметил, как очутился за оградой зоопарка, выйдя каким-то непонятным образом на территорию планетария… Галке наконец надоело преследование, и она, слетев с макушки сияющего под солнцем заиндевелого дерева, с цокающим покрикиванием быстренько промчалась вверх и села на купол планетария. И в это время над Сережей, тяжело махая крыльями, появилась большая ворона, которая летела, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, и не обратила на него никакого внимания.
Сережа приложился, поймал стволом летящую птицу, дал небольшое упреждение и, продолжая вести ружьем за полуугонной птицей, выстрелил, зная, что на этот раз не промахнулся… Ворона споткнулась и, кувыркаясь, свалилась в снег… Он побежал к ней, упал, увязнув в снегу, поднялся и снова побежал, не спуская глаз с вороны, будто она могла исчезнуть.
Она лежала на снегу, распростерши черные крылья и подвернув голову. Сережа алчно увидел на клюве темно-красную кровь, окрасившую снег. Капля за каплей кровь бежала из клюва, навертываясь маленькой ягодкой и, когда он поднял птицу, быстро стала капать ему на сапоги. Птица была горячая и показалась Сереже очень большой и душистой, чуть ли не с курицу величиной.
Сам он тоже был горячий. Пот выползал из-под шапки, собираясь каплей на кончике носа, спина была мокрой. Намокли и портянки: снег, набившийся в сапоги, успел растаять.
Но ничего этого не замечал Сережа. Он видел красные капли на снегу и, тяжко дыша, улыбался, жалея лишь о том, что Сашка не видел выстрела. Радость распирала ему грудь, и он готов был поцеловать ружье.
– Сашка! – закричал он вне себя от счастья. – Сашка!!
И вдруг с ужасом наткнулся взглядом на ограду… За оградой Садовое кольцо, он увидел калитку в этой ограде, а в проеме калитки молодого милиционера в шинели, подпоясанной ремнем с портупеей. Он тоже удивленно смотрел на Сережу и с какой-то хмурой полуулыбкой стал манить его к себе пальцем.
– Вы меня? – громко спросил Сережа.
– Тебя, тебя, – ответил милиционер. В голосе его звучало полное недоумение и даже растерянность, потому что впервые, наверное, на его глазах, за оградой Садового кольца, во дворе планетария, человек стрелял из ружья по вороне, как бы выйдя на охоту.
Сережа с поспешной послушностью, даже как будто с удовольствием, пошел к милиционеру, улыбаясь во все лицо, словно ему было приятно сознавать, что нашлись свидетели его красивого выстрела…
Мгновенный испуг, который он испытал, исчез. Он был уверен, что младший лейтенант сейчас все поймет, как только он расскажет ему, зачем он отстреливает ворон.
Застенчиво и широко улыбаясь, он сказал младшему лейтенанту:
– Я вас понимаю, конечно… Это действительно смешно… Но у нас есть разрешение.
– Что за разрешение? – с выразительной строгостью спросил младший лейтенант.
– На отстрел ворон… Они, понимаете… они у медведей… мясо жрут… Разрешение у моего товарища… Он по воробьям сейчас пошел…
– Куда пошел?
– Воробьев стреляет… для соболей и… этих… ну как их, – Сережа запнулся, потому что младший лейтенант, которого обступили люди, крепко вдруг ухватил ружье рукою, потянул на себя и резко выдернул его из Сережиных рук… Сережа оцепенел и жалостливым голосочком сказал: – У нас же разрешение… Ну, пойдемте… Он ведь там… около козлов… там воробьи…
И вдруг услышал, как женщина с клеенчатой кошелкой шепотом сказала, обращаясь к людям, смотревшим на Сережу насупленно или удивленно, с улыбками.
– Это сумасшедший…
– Да нет! – воскликнул Сережа возмущенно. – Что вы тут… говорите! Мы ворон отстреливали, они у хищников мясо ели… В зоопарке. А сюда я случайно… Увлекся и не заметил… Увлекся просто. Скажете тоже! – И он неуверенно засмеялся, глядя на сурового младшего лейтенанта. – Я вас прошу. Пожалуйста! У моего товарища есть ведь разрешение… – Во рту у него пересохло от волнения, говорить было трудно, мысли путались, потому что он и сам понимал и младшего лейтенанта, и людей, разглядывающих его. – Я вас очень хорошо понимаю… Но, честное слово, я… прошу вас, пойдемте, он там… А воробьи нужны Марусе… Она нас просила…
– Какой такой Марусе? – спросил младший лейтенант как бы между прочим, а сам переломил ружье и вынул стреляную гильзу, от которой донесся до Сережи кисленький запах пистолетного пороха.
– Я ее не знаю… Она Сашку попросила. Работает там… у зверей.
– Вот что, – сказал младший лейтенант, – ты о своем Сашке, о Марусе, о козлах, о воробьях каких-то в отделении расскажешь.
– Как это! – удивленно воскликнул Сережа, чувствуя себя совершенно обескураженным и очень глупым. – Обыкновенные воробьи. Они… эти воробьи… они для соболей – лакомство и для этих…
– Вот и про лакомство… тоже расскажешь…
И он с брезгливостью взял Сережу за рукав телогрейки, в которой мать, работая истопницей, ходила когда-то на фабрику, взял двумя пальцами и потянул за собой… Люди расступились и молча пропустили их… Сережа понял, что дела его плохи и что ружье теперь, конечно, отберут, потому что он даже охотничьего билета не успел получить, и сказал дрожащим голосом:
– Что вы меня держите… Я и сам пойду.
Но младший лейтенант как будто не услышал его.
Сережа помнил лишь, как они пересекли улицу, а куда пошли дальше, никогда потом не мог вспомнить, будто шел с завязанными глазами.
За деревянным барьерчиком тесноватой комнаты сидел старый, как показалось Сереже, и очень усталого вида капитан с лицом солдата Великой Отечественной… Курил махорку, зажав в йодисто-коричневых пальцах цигарку, скрученную из газеты. Щурился от ядовитого дыма, смотрел сквозь этот дым на Сережу и никак не мог взять в толк, что же он делал с ружьем в зоопарке.
– А может, ты какого-нибудь фазана или лебедя убил… откуда я знаю, – говорил он раздумчивым, дребезжащим от прокуренных связок голосом. – Сколько тебе лет?
– Пятнад… нет… вот уже через… раз, два… через восемь дней будет шестнадцать.
– А ружье чье?
– Мое, – еле слышно ответил Сережа.
– Как же это? Я, парень, порядок знаю. Где ты его взял?
– Купил.
– Кто ж тебе продал?
– Я в магазине, на Кузнецком… Мне один старик предложил… записал в свой билет… и купил… Он инвалид… Я и обрадовался.
– «Обрадовался»! – передразнил его капитан, что-то записывая на бланке. – Инвалид, говоришь? Ладно, пошли дальше… И часто ты там охотишься? Хе! Охотник! Нет, слушай… ты меня просто удивляешь, парень… Ну, я понимаю, поехал бы за город, походил бы там, может, зайчика поднял… Я и сам охотник! А то ведь куда? В зоопарк! Даже не знаю, как это расценить.
– Так у нас же это… разрешение… Я бы не пошел просто так. Мой товарищ там часто рисует всяких зверей. Его там хорошо знают. Его и попросили, а он меня позвал….
– Кто его попросил?
– Не знаю. Кажется, Мантейфель.
– Кто такой?
– Кажется, профессор, биолог. Я не знаю точно.
– Вот видишь: «не знаю», «кажется»… А пошел все-таки. Разве так можно? И главное – ружье не оформлено. – Он скосился на запотевшее ружье, стоящее там, за барьером, уже как будто бы чужое для Сережи. – Какого калибра? Шестнадцатого?
– Да, – вибрирующим вздохом ответил Сережа…
Капитан вдруг разозлился почему-то и крикнул злобно:
– Ну чего ты в ворону-то эту вцепился?! В мешке тоже ворона! Зачем они тебе?
Сережа не удержался от слез и заплакал, корча лицо в мучительных, обидных слезах, крепясь что есть силы, но уже не владея собой…
Капитан, как будто не замечая слез, все так же грозно крикнул опять:
– Что тебе в этих воронах?! Есть, что ли, собрался? Говори!
Сережа звонко, сквозь слезы, жалобно выкрикнул:
– Да!
Капитан загремел стулом, пристально вгляделся в плачущего парнишку, нахмурился и поднял доску на петлях, молча вышел из-за барьера. Глухим голосом тихо спросил:
– Отец-то где?
Сереже стало вдруг так жалко себя, что он разрыдался, размазывая окровавленной рукой слезы по лицу, не выпуская при этом из другой руки ворону… А когда капитан положил на потную его голову горячую, сухую свою ладонь, он даже вскрикнул, как от боли, и крик этот получился писклявым, как визг.
– Он без… без… без… – никак не мог выговорить он это страшное «без вести пропал».
– А мать? Ты один у нее? – спросил чуть ли не шепотом капитан, задумчиво поглаживая его по голове.
– Два младших… два брата еще… – сдерживая рыдания, хлюпая мокрым носом, еле-еле выговорил Сережа, обливаясь слезами. – А мама… она истопницей работает… А Сашка… сказал, что вороны… что вкусные они и их можно… есть… Я и пошел. Простите меня, пожалуйста, я больше не буду, – сказал он и закрыл глаза, из которых никак не переставали течь слезы.
Капитан вдруг тоже как будто вскрикнул на вздохе.
– Ах ты, господи, – сказал он с мучительной горечью в охрипшем сразу голосе и, с треском откинув опять доску на петлях, взял ружье и вынес его. – Вот что, Сережка. Давай-ка сейчас мы с тобой так сделаем… У тебя чехла-то нету? Не купил еще? Ничего, купишь… Как ружье-то? Я знаю, у них бой отличный, – говорил он, разбирая ружье и заворачивая его в тряпку. – Придешь домой, протри как следует маслом. Масло купил?
– Да, – ответил Сережа.
– Это правильно. Щелочным протри канал ствола, подержи, а потом протри насухо и нейтральным смажь. Оно тогда послужит тебе верой и правдой. Вообще-то вот еще что! Никогда не забывай: зимой охотишься, поставь сначала ружье где-нибудь в сенях, а уж потом вноси в дом, чтобы оно не потело с мороза. Кидай ворону свою в мешок. На охоту-то настоящую ходил?
– Нет еще…
– Да что ты говоришь! Первая добыча?! Поздравляю. А жарить их можно, это точно. Мы и то, бывало, на фронте, из винтовки двух-трех и в котел… Грач, конечно, вкуснее, но и ее тоже можно. Вот так, сынок ты мой хороший. И не плачь! Иди домой. Не поминай лихом. Придет время, вспомнишь про это и улыбнешься. Станешь рассказывать – не поверят. А жизнь наша наладится со временем. Не сразу, но наладится… Все будет! Иди, сынок. И прости ты меня, старого, что до слез довел… Но вот тебе мой совет: не ходи, ты больше в зоопарк на охоту. И вот еще: в общество обязательно вступи и ружье зарегистрируй. Это обязательно. Когда, говоришь, шестнадцать? Ага, через восемь дней… Ясно. Может, еще посидишь немножко, обсохнешь? Не тороплю… А то потный выйдешь – прохватит морозцем… Свалишься. Нет? Ну смотри!
– Большое спасибо, – говорил Сережа. – Большое вам спасибо.
Капитан, на груди которого Сережа разглядел орден Красной Звезды, проводил его до входной двери, пожелал ни пуха ни пера, подмигнул лукаво и помахал рукой.
День был в разгаре. Февральское солнце слепило глаза, и после полутьмы казалось, что на улице весна.
Сережа ликовал. Он торопливо шел по тротуару Садового кольца, забыв про троллейбус. Пешком дошел до Крымского моста и, когда шел по мосту, увидел на заснеженном льду Москвы-реки разгуливающих ворон… В парке играла музыка, а отсюда, с моста, видны были скользящие на коньках по изрезанному льду люди. Звона коньков не было слышно, но он хорошо себе представил этот приглушенно-хрустящий металлический звук.
Он был очень голоден. Хотелось есть. Он представлял себе горячий, острый запах жареного мяса и никак не мог отвлечься от этого запаха, как будто февральский воздух стал пахнуть жареным мясом.
С тех пор как он поступил в училище, мать не кормила его в будни, зная, что он обедает в столовой. Но в воскресенье, хотя он и съедал в субботу сразу два обеда, как думала мать, она готовила на четверых, варила в большой-большой кастрюле жидкий овсяный суп. Из сухого омлета пекла вкусные поджаристые лепешки, с которыми все они пили чай, подслащенный сахарином.
А сегодня они полакомятся жареным мясом! Если не думать, что это воронье мясо, будет, наверное, очень вкусно. А зачем думать? Да и не какие-нибудь помоешницы эти вороны! Как-никак, сами ели мясо, воруя его у медведей и тигров. Значит, должны быть вкуснее всех других ворон.
Он вспомнил, что сегодня надо еще напилить и наколоть дров и что вряд ли сумеет вечером сходить в парк на каток, потому что сон уже сейчас казался ему очень приятным и радостным, сейчас уже голова кружилась от усталости и перевозбуждения.
Скоро весна, скоро поедет он на охоту… Надо готовить патроны. Надо купить чехол, патронташ. Достать бы где-нибудь настоящей дроби! И черного пороха. Настоящего черного пороха, дым которого пахнет убитой вороной или, может быть, даже приятнее. Опять придется продавать обеденные талоны, скрывать это от матери и делать вид, что ему совсем не хочется есть, когда будут уплетать овсяный суп его братья-иждивенцы.
Зато впереди будет весна, будет охота, грохот выстрелов и пение дроздов на вечерней зорьке… Говорят, дрозды очень вкусные. Даже Аксаков их ел… Надо будет обязательно настрелять. Только вот где достать мелкой дроби? С рук, конечно, можно купить самодельной… Хоть и дорого, но придется…
Большая Калужская улица, которой теперь нет в Москве, Первая градская больница, где родились его дед и мать и он сам с братьями, двухэтажный домик, которого тоже нет и в помине. Три окошка на втором этаже по фасаду. Темно-зеленые листья лилий, оранжевые их цветы… Столетник… Их тоже давно уже нет.
Приятная привычка

Легко ли в наш век представить себе луг, обметанный туманом, бронзовый проблеск воды меж кустов, купола пятиглавой церкви, чернеющие в желтом небе, кряковых уток, тяжело несущих вытянутые тела над безмолвной речкой, и услышать пересвист их крыльев, упруго вьющийся в недвижимом воздухе? Увидеть темные купы деревьев на бугре, коричневые в закатно тлеющем небе, и светлую на отлогом склоне тропинку, разбежавшуюся рукавами в смутной зелени травы, ведущую вверх, где во тьме деревьев светятся два окна невидимого дома?
Легко ли с помощью воображения перенестись в патриархальную эту картину? Давайте же остановимся, замрем перед живой тропкой и, вдохнув воздух, пропахший цветущей пижмой, поздним этим цветком Подмосковья, который называют еще дикой рябинкой, потому что ярко-желтые его корзинки, собранные в плотный щиток, напоминают соплодия рябины; вглядимся в таинственный свет окон, похожих на две дыры, сквозь которые в их тьме виднеется зарево заката, и попытаемся представить себе с помощью все того же воображения этот дом-невидимку и живущих в нем людей…
Смею уверить вас, что сделать это довольно просто, потому что картинка, которую я кое-как изобразил, не моя фантазия и не в прошлом веке, не на краю земли, а всего лишь в тридцати километрах от Москвы протекает речка, нарисованная мною, а церковь без крестов давно превращена в промышленный склад, и на красном кирпиче рельефного ее фасада белыми буквами выведено: «Не курить». Утки же, летящие на вечерней заре, – настоящие кряквы, которые теперь охотнее гнездятся в самой Москве, где их не тревожат люди, и которые так хорошо приспособились к жизни рядом с человеком, так хорошо знают закрытые для охоты территории Подмосковья, что безбоязненно выводят птенцов и поднимают их в середине лета на крыло в самых что ни на есть дачных местах, забросив излюбленные свои угодья, где когда-то гнездились гордые их предки.
Впрочем, все это вы знаете и без меня, потому что кто же из вас не видел заката над речкой, затуманенных кустов на лугу, похожих на копны сена! Все, конечно, видели и если не останавливались в изумлении, то это лишь потому, что заняты были самими собою или детьми, а может быть, так устали за день, что вам уже не до красот было, а лишь бы поскорее добраться до станции, сесть на переполненный воскресный электропоезд, а потом на метро или троллейбус, подняться на свой этаж, отпереть темную квартиру, включить свет, зажечь газ, согреть чайник и напиться чаю перед сном, который уже так сморил вас к тому времени, что большего наслаждения, чем лечь в прохладную постель и утонуть в мягкой подушке, вам уже трудно представить.
И правильно! Даже львы и те спят большую часть суток, оставаясь при этом царями зверей. Все хотят спать. И это славно, когда от усталости человек крепко-крепко засыпает и спит до утра. Ни снотворных таблеток, ничего не надо здоровому человеку для того, чтобы уснуть, кроме, может быть, хорошей усталости, накопленной за день.
Итак, да здравствует крепкий сон с красивыми видениями, и пусть мой дальнейший рассказ станет для вас сном, посмотреть который будет, может быть, интересно кому-нибудь. Во всяком случае, я постараюсь, а вы, как говорится, закройте глазки и, засыпая, представьте себе на миг туманный луг, прилегающий к речке, летящих уток и два освещенных окна – два из восьми окон большого рубленого дома, вознесшегося вместе с вековыми деревьями над узенькой речкой.
А зачем мне это нужно, спросит настороженный читатель, много раз уже листавший ветхие страницы, где писалось про тихие закаты, луга и речки в тумане, про церквушки и летящих в небе диких уток!
И будет несомненно прав, потому что нельзя, наверное, в наш век начинать рассказ с такого вот привычного и легко вообразимого пейзажа, в надежде завлечь читателя лирической благостью и убаюкать его бдительность.
Нет, уважаемый читатель, я вовсе не хочу вводить тебя в заблуждение. А в оправдание могу сказать, что пейзаж, написанный мною, вовсе не патриархален, каким он может показаться на первый взгляд, ибо вдалеке, поперек широкого луга, перекрывая его перспективу, насыпана земляная дамба, обросшая белым и желтым донником, а через речонку перекинут тяжелый бетонный мост.
По этой дамбе, валом возвышающейся над туманным лугом, по мосту проносятся, пошумливая, автомашины, скользя в потемках горящими углями габаритных огней, а через речку тянутся с берега на берег провисшие провода электропередачи, перечеркивающие размашистыми штрихами церквушку. В темнеющем небе, кроме уток, гудят, гася все звуки, далекие в небесном просторе самолеты с аэронавигационными огоньками на крыльях и фюзеляже. Ажурная телевышка тоже обозначена красными огнями, чтобы самолеты случайно не столкнулись с ней.
Катятся с горки на горку автомашины, гудят пролетающие в высоте самолеты. И лишь в редкие передышки между этими шумами до слуха доносится пружинистый свист острых крыльев летящих уток…
Может быть, я и сам бы рад увлечься прозрачным туманом, таинственным светом в окнах бревенчатого дома, зайти в который так порой хочется, когда одиноко и грустно на душе, когда тянешься к людям, мечтая встретить в них отзывчивость, и доброту, и сострадание. Это ведь так заманчиво – встретить красивых людей, умеющих сочувствовать ближнему!
Их не так уж и много осталось на свете. Но как зайдешь? Да и те ли это люди, о которых мечтаешь в минуты тоскливого одиночества? Не нарвешься ли на холодное равнодушие, на унизительную подозрительность?
Остается мне войти в этот дом с помощью испытанного средства – воображения – и представить себе, что живут в нем приятные и, как говорили в старину, деликатные люди. На большом столе, накрытом скатертью, сипит самовар, пахнет в комнате сгоревшим древесным углем и домашними пирогами… Но прихотливое мое воображение подвело меня на этот раз. В доме этом, оказывается, живет не молодая, но и не стареющая женщина, про таких говорят – загадочная… Так оно, разумеется, и должно было быть, потому что за таинственными окнами скрывается, конечно же, загадочная женщина! Кто же еще?! Загадочная, красивая, одинокая, окруженная любовью легкомысленных молодых людей, обожающих ее… Как же я сразу не догадался!
Жанна Купреич. Дочь известного в прошлом режиссера, свободная художница, пейзажистка, на полотнах которой бесконечная весна: ранняя и в разгаре цветения, с заснеженными оврагами под блеклым небом и с бледной дымкой лопнувших почек. Жалуется на плохое качество масляных красок, выпускаемых химической промышленностью, и, каждодневно борясь с морщинами на лице, мучая себя всевозможными косметическими масками, говорит своим близким, меланхолически улыбаясь:
– Жизнь – приятная привычка! Не более того.
Фразу эту она где-то услышала и незаметно для себя самой присвоила, произнося ее с явным удовольствием, будто увидела в краткой формуле сущность своего собственного бытия, находя и оправдание в ней и в то же время скрываясь за ней, как за вуалевой дымкой, наброшенной на лицо; прячется за этой фразой и нападает с ее же помощью, оставляя за собой право быть такой, какая она есть и будет до скончания века.
Очень хочется попристальнее вглядеться в эту женщину и, помня условия игры, которую мы затеяли с тобой, уважаемый мой читатель, незаметно понаблюдать за ней в минуты, когда она остается наедине с собой, перед зеркалом, в которое может очень долго и внимательно смотреться, в змеином оцепенении разглядывая незнакомое свое лицо… «Кто ты, старуха?» – как бы спрашивает она, обращаясь к этому пеплом подернутому, поблекшему лицу, кожа которого день ото дня теряет эластичность, зависая над глазами паутинно-легкими горькими складками, меняя взгляд озабоченных, потухших глаз. Словно измученная бессонницей, смотрит она на безжалостное разрушение, пытаясь понять причину происходящего. Но не в силах этого сделать, потому что вопрос: «Кто ты, старуха?» – искусно прячется на донышке души, и она снова видит себя такой, какой привыкла быть в своем игривом воображении, которое во много раз сильнее жалкой и ничтожной реальности. Тем более у нее, у Жанны Купреич, художницы, обладающей даром повышенной чувствительности и артистизма.
Почему Жанна? А потому, что у матери была подруга – Жанна, и когда родилась дочь, она назвала ее в честь подруги, доказав таким образом свою верность ей. Фамилия осталась от мужа. По отцу она Емцова. С мужем развелась, но фамилию менять не стала.
Ей нравится быть Жанной Купреич. Единственная выставка, которая прошла с успехом, принеся ей довольно ощутимый гонорар от проданных картин, называлась: «Пейзажи Жанны Купреич». Так было написано сухой кистью на суровом полотне при входе в зал. Одна картина даже уплыла за океан, чем не устает до сих пор гордиться Жанна Николаевна, расценивая это как мировое признание ее таланта.
Дом, в котором она живет, похож на старинный, усадебной архитектуры, особняк, хотя он и построен из дерева, пропитанного когда-то горячей олифой, и ни разу еще не обновлялся. Участок размером в два гектара обнесен покосившимся глухим забором из подгнивших досок, который приходится время от времени ремонтировать, чтобы кое-как залатать провалы и проломы или просто поднять повалившуюся часть забора, укрепив его новыми столбами. Ремонт дома и забора стоит так дорого, что Жанна Николаевна Купреич только усмехается, когда кто-нибудь говорит про это.
– У нас всегда в таких случаях отделывались каламбуром, – отвечает она с усмешкой. – Купишь уехал в Париж!..
Участок просторен и светел. Дом стоит под столетними дубами, а за домом, на поляне, окруженной лиственницами и елками, Жанна Купреич, увлекающаяся с некоторых пор теннисом, построила корт. Металлических сеток нет, но играть все-таки можно, елки и лиственницы задерживают мячи. Любители тенниса, которых в поселке много, приходят, играют, чувствуя себя тут хозяевами, потому что корт построен в складчину, на кооперативных началах, Жанна Николаевна лишь хозяйка земли, но не корта, который стал местом сбора очень приятных ей, спортивных и умных, интеллигентных молодых людей, относящихся к хозяйке как к одной из партнерш по игре, хотя играет она из рук вон плохо. Но ей все прощается, ее все любят, приходят пить чай, легкое вино, благо, места для этого в доме много, а в хорошую погоду и вообще не надо заходить в дом, потому что по фасаду опоясывает его широкий балкон, отделанный резьбой. Он еще достаточно прочен, чтобы принимать на нем гостей, усаживая их в плетеные креслица, на диванчик, а то и просто на стулья, если собралось больше шести человек.
Жанна Николаевна боится поверить в свое счастье, когда она, раскрасневшаяся и разгоряченная, в коротенькой юбочке, в мягких полукедах, в блузке, похожей на матроску, вся в белом, смуглая, возбужденная и радостная среди таких же радостных и от игры возбужденных молодых людей и юных женщин, смеется, хлопочет, угощает, показывает свои новые работы, с трепетом ждет оценки, зная, что работы понравятся, догадываясь, что молодые люди будут хвалить ее, называя, как свою подружку, Жанночкой, Жаннетой или просто Жан, что ей почему-то очень нравится. А потом будут сумерки, будет самовар, кто-то будет его разжигать в саду, кто-то принесет вина, конфет, печенья, кто-то магнитофон, и начнутся танцы, и кто-то вдруг пригласит и ее, какой-нибудь красавец в белых брюках и в рубашке-«сафари», высокий, стройный, пахнущий силой и молодостью, и у нее закружится голова, и ей станет так хорошо, как только и было в ранней юности.






