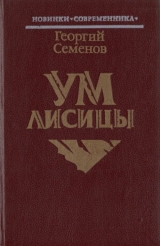
Текст книги "Ум лисицы"
Автор книги: Георгий Семенов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц)
Я уже стал думать о нем как о человеке, который сознает себя таковым только в тех случаях, когда причиняет вольно или невольно страдания другим. Невидимыми слезами людей орошается тогда душа его и прорастают в ней семена лютой ненависти к людям и небывалой любви к самому себе, истинному страдальцу, невинно осужденному, бедняге Калманку.
– Слушай, Калманок! – с мольбой в голосе и ужасом в сердце обратился я к нему. – Но ведь люди-то погибли! Молодые люди! Может быть, очень добрые, умные люди… Ведь они тоже хотели жить! Ты ведь должен понять…
– Чего мне понимать!
– Ты ведь должен понять, Калманок! Если бы ты не бросил на дороге трактор, они бы остались в живых. Неужели у тебя сердце не болит? Совесть-то у тебя есть?
– Хочешь дело пришить? Все шьют! Ну что ж, пострадаем…
– Подожди ты об этом! Тебе людей-то жалко? Матерей? Ты представляешь, что сейчас с ними?
– А меня кто-нибудь пожалел? – озлобленно спросил Калманок, задышав в лицо душным, неистребимым перегаром.
– За что ж тебя жалеть?
– А нужда у меня такая! – хрипло крикнул он, белея взглядом. – Нужда. Чтоб меня тоже жалели! Вот так! Меня чего ж жалеть! За что? А что же я, не человек, что ли?
Горе мне с моим характером! Не такой уж я хороший и примерный, а бываю просто плохим человеком, о котором спустя время так и хочется сказать: встретил бы себя вчерашнего – убил бы! Но все-таки сострадание и чувство причастия к человеческому горю или счастию заложены во мне семенем, брошенным, видимо, в добрую почву. Во всяком случае, боль чужого человека отзывается во мне только болью, и ничем другим, а счастье – радостью.
Я никак не могу избавиться от взгляда на людей как на моих кровных братьев, которые тоже, как и я, способны брать на себя боль или клясть себя за поступок, принесший другому человеку страдание. Мне кажется все время, что люди в этом смысле очень похожи друг на друга, и, как правило, не ошибаюсь в такой оценке – этим живу.
А тут я обманулся так жестоко, что никак не мог примириться, не с Калманком, нет, а с самим собою! Какой-то нервный срыв, болезненное недоумение, тоску испытывал я, притянутый внутренним магнитом к этому непонятному мне человеку, к его несоответствию с моими представлениями о человеке вообще. Словно мне обязательно нужно было понять – человек предо мною или оборотень под личиной человека?
Я спросил:
– Ты когда-нибудь плакал, Калманок?
Тот от неожиданности улыбнулся, ощерив желтые, похожие на куриные клювы зубы, и хохотнул, мотнув при этом головой, как будто я хотел его рассмешить.
– Плакал, конечно, – ответил он уверенно. – Что ж я, не человек, что ли? Я как выпью, мне сначала весело, а потом обидно почему-то. Ох, я плачу! А потом драться лезу. А что?
– А плакал на трезвую голову? – допытывался я, глядя в беспородные, туманно-глухие, неглубокие глаза, которые он удивленно таращил на меня, не понимая вопроса.
– Ты что ж думаешь, я с детства пью? Ошибаешься, командир! В детстве плакал, а как же! А что тебе нужно-то от меня? Непонятно чего-то! Ну, если не плакал, ну и что? Плохо, что ль, это? Я же не баба какая-нибудь.
– На твоем месте я бы заплакал, – сказал я с безнадежной тоской в сердце. – Жалко мне тебя, Калманок.
Хотел я ему сказать, что он не человек, но мне стало страшно за себя, потому что бездушное это явление природы могло себя повести непредсказуемо опасно, могло вдруг сбросить с себя личину человека и обратиться в нелюдь, явив себя в истинном облике.
Тем более что в сторонке от нас остановились две маленькие девочки, одна из которых, сунув пальчики в рот, с опаской поглядывала на Калманка. И такой страх цепенил все ее хрупкое тельце! Мне и подумать было жутко, что с ней стало бы, если бы Калманок ощерил вдруг свои куриные клювы и, задрожав, скинул с себя человечью кожу, явившись бурым, щетинистым зверем перед детьми.
– Себя пожалей, – сказал мне Калманок угрожающе тихо и протянул руку.
Я смотрел на его бурую, одеревеневшую, опухшую от алкоголя пятерню, которая, как я понимал, требовала без слов очередную сигарету «погреть зубы», и, когда я, вопреки своей воле, достал из пачки и сунул ему в эту пятерню сигарету, руку мою обжег сухой и яростный жар, исходящий от его пальцев.
– Себя пожалей, – повторил Калманок с задумчивой угрозой. – У тебя нужды в правде нет, а у меня она, нужда эта, вот тут, – и он сильно, как разъяренная обезьяна, стукнул себя кулаком по гулкой груди.
Ему не надо было это говорить. Я очень жалел себя, жалел, что не нашел человека, хотя и очень старался, страдая от того, что впервые в жизни натолкнулся на существо, которое своей непостижимостью отстояло гораздо дальше, чем пойманная мною рыба.
Я подумал об этих рыбах как о мудрых и таинственно-прекрасных подводных жителях, способных безмолвно страдать и радоваться, выпрыгивать из золотистой реки на утренней или вечерней заре, громким плеском веселя сердца людей, и надолго исчезать в глубинах, переживая тяжелые для себя времена.
Был однажды в моей жизни хороший, добрый дождь…
Вальс

Маленький, щуплый человечек лет семидесяти пяти надевал весной старенькое пальто темно-зеленого цвета, однобортное, реглан, с вытертыми обшлагами и засалившимся воротником; надевал темно-зеленую фетровую шляпу с короткими полями, тоже старую и грязноватую, с заострившимся заломом на тулье; накидывал на сухонькую, морщинистую шею красный шарфик с замутившейся бежевой клеткой и шел гулять по подсохшим тротуарам, легкомысленно заговаривая с женщинами. По какому-то наитию он безошибочно угадывал тех из них, которым его внимание не будет в тягость и которые шли по тротуару не очень быстро, но были при этом не старые и приятные на вид.
С затуманенной весенним воздухом головой он подравнивался в шаге к такой женщине и вежливо заглядывал снизу вверх в ее глаза.
– Вы меня извините, конечно, – начинал он разговор с ней, мелко вышагивая рядом. – Вот, говорят, вальс, вальс! А кто сейчас умеет по-настоящему вальсировать? – спрашивал он и сам себе же отвечал: – Никто! – настораживая женщину, которая с любопытством смотрела на смешного старичка. – Вы мне поверьте, уж я-то знаю. Никто не умеет! А я в свое время вальсировал в левую сторону… Я и сейчас… А вы знаете, что это такое? А-а-а… Вот вы дама, я бы мог вас пригласить, и вы тогда поразились бы… Да! В левую сторону, вот так, – говорил он, взмахивая короткими ручками и как бы кидая тело свое влево. – Это я не пустое говорю, уж вы мне поверьте, это не каждый умеет. И даже дамы, бывало, смущались. Но ничего! Это уж дар от бога. Лишь супруга моя покойная… и то, я скажу вам, не сразу!.. Лишь она одна научилась вальсировать таким-то вот образом. Не без моей, конечно, помощи, как вы, наверное, догадываетесь, – говорил он с хитрецой в голосе, как щеголь подстраиваясь в шажочке к шагу своей случайной спутницы и чувствуя себя кавалером. – Это уж так! – восклицал он, то и дело меняя ногу и шаркая при этом в торопливой припрыжечке по асфальту, точно пританцовывал всякий раз.
Он был похож в эти минуты на маленького, ярко расцвеченного самечика аквариумной рыбки гуппи, волнующегося возле степенной, серенькой, большой самочки.
Когда же он видел, что его дама сворачивала к дверям продовольственного магазина, он смущенной скороговоркой успевал ей сказать на прощанье:
– Вы дама, вы поймете, я вас приглашаю, приходите ко мне… И больше ничего! Я еще и не то умею… Жду вас! Вы меня извините, конечно.
И, легонько тронув шляпу, кивнув улыбнувшейся женщине, шел дальше, молодцевато оглядываясь по сторонам.
Походка у него была торопливая, но он шел при этом медленно, словно не шагал по тротуару, а как бы брал дорогу крохотными щепоточками, помаленьку продвигаясь вперед незнамо куда. Лицо его светилось; грязноватенькие, непромытые морщины как бы все время меняли свои извилистые и прихотливые линии; счастливые глазки смеялись от удовольствия, точно он и в самом деле назначил свидание молодой еще женщине и жил теперь надеждой.
На нем были короткие брючки, из-под которых виднелись красные, под цвет шарфа, бугристые и сползающие на ботинки носки, натянутые на полотняные кальсоны. Ботинки на микропористой резине никогда не знали сапожной щетки, и только мыски их были кое-как очищены, смутно чернея среди лишаисто-белесой кожи.
Он семенил по тротуару в толпе нарядных людей, которые невольно оглядывали его и улыбались, но он эти улыбки воспринимал как обыкновенную весеннюю радость молодых людей, влюбленных во все и во всех, какую испытывал и сам он, дождавшись новой весны. И жизнь ему казалась прекрасной!
Весна была еще пыльная, не умытая ливнями. Снег еще чернел в затененных домами северных углах. Но светило солнце, дули порывистые ветерки, завихряясь вдруг в игривом набеге и увлекая за собой прошлогодние сухие листья, которые бурой стайкой с птичьим крылатым шорохом взметывались с запыленных газонов, но опадали тут же, как только уносился вихревой ветерок, ползли с царапающим шумочком по асфальту и замирали, похрустывая под ногами прохожих, как скорлупки. На коричнево-пыльных газонах без умолку чирикали такие же коричнево-пыльные воробьи, похожие на прошлогодние листья. Все вокруг двигалось, шумело, пело, веселилось, и даже дома, казалось, ожили, помахивая со своих балконов сохнущим на веревках бельем.
– Вы меня извините, конечно, – говорил он в другой раз другой какой-нибудь женщине, с которой оказывался рядом в людском потоке на тротуаре. – Вы, разумеется, слышали сегодня по радио объявление? Ах, не слышали! Ну так я вам вкратце расскажу, в чем дело. Очень правильное решение! Я в прошлом рыбак, и такой заядлый, что просто, знаете… Ах! Я это о том, что теперь в местах нерестилищ запретили на два месяца всякую ловлю. И правильно! Даже граждан, которые выезжают отдохнуть на природу… Сейчас ведь, знаете, у многих собственные машины… Даже их просили не нарушать тишину, чтоб рыба могла спокойно отнереститься. Что такое нерест, не знаете? Это место, где рыба мечет икру: заливы, речки, которые в какой-нибудь водоем впадают или в озеро, – одним словом, рыбий роддом, вы меня извините, конечно, за такое сравнение. Вот я, например, заядлый рыбак, а скажу вам, и я даже духом воспрянул от такого правильного решения. Весной все радуются, влюбляются, надеются на разные радости… Вот вы, например, очень красивая дама, вам должно быть понятно это чувство. Не только ведь человек радуется! А другие что же? Они тоже радуются весной. Им тоже не надо мешать. Пусть весной все танцуют! Вальсируют в любовных своих играх. Вон, видите, воробушки, вот там, на газоне… Вон что выделывает, вон как пляшет, и прыгает, и кружится, и крылышками трепещет… А кружится-то в левую сторону, обратите, пожалуйста, внимание. Вон тот, в черном фартучке. Он самец, петушок, так сказать, а вон та, серенькая, самочка. Видите, видите? Вальс вытанцовывает! Люди теперь другие танцы танцуют, а вальс, хоть и говорят: вальс, вальс! – вальс никто не умеет. Это вы мне поверьте! Не говоря уж о том, что в левую-то сторону вальс никто теперь совсем не танцует. Раньше тоже, конечно, редко кто умел. Но ваш покорный слуга кружил свою даму в вальсе только в левую сторону, – говорил он, шаркая ножками и подстраиваясь под шаг любезной женщины, слушающей его. – Вы, кончено, можете не поверить, но… Одна лишь покойная моя супруга легко подчинялась мне, а другие дамы терялись, и я всегда выходил победителем. Нескромно хвастаться, я знаю, вы уж извините, но таков мой талант. – И он застенчиво взглядывал украдкой в глаза насмешливой и, как ему чудилось в эти минуты, кокетливой спутницы. – Мы с супругой, можно сказать, были королями вальса. Никто не мог потягаться с нами. Да! Так и было. Я и сейчас могу вызвать кого угодно. Ни один молодец не сравняется со мной. Между прочим, я сегодня такой разговорчивый и, извините, приставучий, потому что услышал про это решение. Душа радуется! И хочется с другими поделиться радостью. Очень правильное, я вам скажу, решение. Раньше на берегах речек, в которых нерестилась рыба, не то чтобы ловить ее, а даже если, например, церковь стояла, то в это время в колокола даже не звонили, чтоб не пугать ее. Вообще-то моя супруга всегда была против рыбной ловли. Я думаю, она ревновала меня. Перед выходным, когда я на рыбалку ездил, накупит рыбы в магазине, нажарит, наварит. Ну зачем нам, спрашивает, еще какая-то рыба нужна? Разве тебе не достаточно? А ведь ездил-то я из чисто спортивного интереса! Она этого не понимала. Думала, что я к каким-нибудь знакомым дамам, знаете… Да. Не понимала. А я упрямый был. Однажды зимой запрятала перед выходом все мои теплые вещи. То ли к соседям отнесла, то ли еще куда, не знаю, только найти своих валенок, тулупчика, шапки я так и не смог и, можете себе представить, все-таки поехал. Мороз был изрядный, градусов двадцать, а я в прорезиненном плащишке, в брючках, в кепочке собрался чуть свет, пока супруга спала, и тихонечко уехал. Не ловля была, а беготня сплошная, еле живой остался на льду-то, да ветерок еще поднялся с поземкой, а я в ботиночках и в кепочке. Но домой раньше времени не вернулся… Ох-хо-хо! Доказать хотел супруге, что она в данном случае не права. А вот теперь думаю, – говорил он, опустив голову и погрустнев, – теперь вот обидно. Выходной-то у нас с ней вместе один на двоих был. А может, ей в гости куда-нибудь хотелось сходить, потанцевать, повеселиться. Ведь это я ее к танцам-то приучил! Супруга моя до замужества танцевала, конечно, но уж вальс, извините… Вот все говорят: вальс, вальс. Немудреная штука – покружиться под раз-два-три, раз-два-три. Это вон и воробушек кружится, а вот так станцевать, как мы с покойной супругой, бывало, так никто не то что не умел, а просто не мог, потому что вальс, когда его танцуешь с поворотом в левую сторону, не только голову, но и сердце кружит, сердце в груди будто радуется, будто ты ему польстил, что в его сторону повел даму и сам тоже в его сторону кружишься, кружишься…
Но опять любезная дама, послушав и поулыбавшись странному старичку, оставляла его, садясь в троллейбус или уходя в метро. Но он и ей тоже успевал сказать на прощанье с вежливой и игривой торопцой в голосе:
– Вот увидимся как-нибудь на балу, непременно приглашу вас на вальс! А то, милости просим, приходите, я вам и не то еще покажу, жалеть не будете, могу и свидание назначить! Вы дама, вам и решать, будьте счастливы, приятно было познакомиться. Вот и все, и больше ничего, – говорил он уже в спину обожаемой даме, поигрывая всеми своими морщинками, совершенно уверенный, что доставил даме удовольствие, считая вообще женщин существами особенными, которые любят, когда мужчины на что-то интимное намекают им, и, удовлетворенный, продолжал свое таинственное путешествие по бесконечным тротуарам, пребывая в блаженном состоянии духа.
Была однажды затяжная, поздняя весна. В ветреную и холодную погоду не хотелось выходить на улицу, и он подолгу просиживал у окна, в отрешенности глядя с высоты пятого этажа на раскинувшиеся окрест каменные дали. Сидел и ждал погоды, видя сквозь верхние ветви голого тополя, качавшегося на ветру перед окном его комнаты, в которой он прожил без малого двадцать лет, до мелочей знакомую картину громоздящихся до самого горизонта и пропадающих в дымке безликих людских жилищ, и как бы сердцем слышал из далеких этих каменных башенок детский плач или смех, стон умирающих стариков, любовный шепот или брань, и ему даже казалось в эти хмурые дни, что все люди, живущие в кирпичных и бетонных домах, тоже скучают, сидя у своих окон, и в унынии смотрят на небо, из которого то и дело порошит на холодную землю сырой снежок, и тоже, как и он, ждут хорошей погоды.
За окном уже сумерки. В мутном небе ворона еле справляется с ветром, летя зачем-то навстречу ему, останавливается в бессилии, ныряет, словно хороший пловец под гребень волны, и, выныривая за потоком, опять летит. Ветви тополя с ждущими тепла медового цвета почками рогато топорщатся на ветру, раскачиваясь сурово и неохотно…
Скоро этот тополь украсится клюквенно-красными сережками, набухнет в брачном наряде, точно готовясь к битвам с себе подобными, побагровеет, сбрасывая на землю побуревшие сережки, и, умиротворенный, спрячется в густеющей зелени. Листья на ветвях обметаются душистым липким клеем и прозрачно засветятся в солнечных лучах. Гулко и весело зазвучат, как весенние школьные звонки, голоса драчливых и потерявших всякий страх воробьев, а чириканье их, стократно отражаясь в глянцевых листьях, будет с утра до вечера греметь в зеленых чертогах старого тополя. Но все это только будет…
А пока за мутным стеклом качаются в сумерках голые рога тополя, вершинные его ветви, заглядывающие в окна пятого этажа; дует ветер со снегом; летит взъерошенная ворона, копошась в ветреном потоке, который мешает ей лететь.
В один из таких сумеречных дней, когда лопнуло терпение ждать настоящую весну, пришла к нему мысль пойти и посидеть вечерок в каком-нибудь ресторане. Подумав об этом, он и сам очень удивился, невольно взглянув на фотографический портрет жены, висящий в золоченой рамке на стене, и тут же вспомнил, что девятнадцатого апреля у нее день рождения. В этот день она, как бывало подшучивали друг над другом, догоняла его и сравнивалась в летах. Ему вдруг показалось, что она улыбнулась ему с портрета, как бы сказав с добродушной ворчливостью в голосе: «Ах ты, гуляка ты эдакий, ишь ты придумал чего». А он в ответ тоже улыбнулся и, вспомнив молодые годы, решил поступить по-своему.
В парикмахерской, когда молоденькая мастерица касалась своими душистыми пальцами его головы, он не утерпел и стал говорить с ней, обращаясь к ее отражению в большом зеркале.
– Вы уж меня извините, старика, но вот гляжу на вас и просто любуюсь. Такая вы красивая, стройная! Дай-то вам бог никогда не стариться, а главное – не толстеть. Чего в жизни нажил, от того уже не избавишься. Вот вам пример: картошечка с мясом – кто не любит? А мало кто знает, что это вредно. Потому что для картошки свой желудочный сок нужен, а для мяса свой. Картошка переварилась, например, а мясо еще нет. Вот вам и парадокс! Это я не пустое говорю… Или вот вам еще пример. Пообедал человек, а ему попить хочется, он и попил чайку. А ничего вреднее этого нет. Я, конечно, сам этих правил не соблюдаю и всю жизнь любил картошечку с мясом, а потом и чай пил, но вот недавно узнал: вредно, говорят, это. А я считаю самым вредным лишний вес. Сам никогда толстым не был, гляжу на толстых и думаю, как же они живут на белом свете. Вот вы, например, красавица, и тут уж чего говорить, вам и решать, вам любой мужчина подчинится. С вашей-то красотой да с вашей фигурой! Был бы я молодой, уж я бы… Ничего, конечно, но на вальс при случае непременно бы пригласил! Вот тогда бы мы поспорили, чей верх, тогда бы вы на меня другими глазами взглянули. Вы извините, не расслышал, что вы сказали? Ах, одеколон! Да уж, думаю, да… Оросите!
И он зажмурился, потеряв из виду зеркальное отражение красавицы, ласковое прикосновение которой вызывало в нем столько добрых чувств к ней, что ему жалко стало, когда она про одеколон спросила. А она быстренько расчесала его влажные волосы, сняла простынку с плеч и велела платить деньги в кассу.
– Вы меня извините, конечно, вы дама, вам и решать, – сказал он смущенным бормоточком, – но уж вы разрешите вас поблагодарить за хорошую работу. Вон какого из меня красавца сделали! Я свою благодарность не только устно, но и письменно могу засвидетельствовать, если желаете…
И он с удовольствием увидел улыбку на лице молоденькой красавицы.
А потом был вечер. Он сидел за столиком в переполненном ресторане, за которым вместе с ним сидели еще два молодых человека и девушка. И были они так красивы, что ему все время хотелось сказать им об этом, но из деликатности не решался, потому что они были заняты только самими собою, а его, тоже, наверное, из деликатности, старались не замечать. И лишь когда поднимал рюмку с красным болгарским вином, он поглядывал на них с вежливой улыбкой и, кивая им, делал маленький глоточек, как бы выказывая тем самым свою симпатию к ним. Но они почему-то не замечали этого. Он смущался, и в голове его начинало звучать нелепое словечко: чавыча. «Чавыча, чавыча, чавыча, – бессмысленно повторял он, оглушенный-то ли оркестром, то ли вином. – Чавыча! И кто это такое слово придумал? Чавыча… Что бы оно значило?»
Гремел оркестр, а посредине зала, возле эстрады, в ярком свете танцевали веселые люди. Он смотрел с улыбкой на них и был очень доволен собой. Он так редко бывал в ресторанах, что забыл и не мог бы вспомнить, когда это было в его жизни. Может, и не было никогда? Нет, он, конечно, бывал, но как-то всегда получалось, что… Нет, он, конечно, помнил, как много лет тому назад их с женой пригласил племянник на свадьбу в ресторан. Было весело. Он опьянел. На другой день ему было плохо. Он и так-то никогда не пил ни вина, ни водки, а с той поры вообще перестал даже думать об этом, не понимая, чего хорошего люди находят в пьянстве. Тогда тоже была музыка, он это помнил, но играли не так громко и мелодии были другие. Но это его не смущало теперь, когда он сидел один, по глоточку отхлебывая темно-красное, багряно посвечивающее в рюмке вино, потому что видел, как радуются люди, танцующие под эту новую музыку, хлопая всякий раз в ладошки оркестрантам, кончавшим играть.
Ему было очень хорошо в этом шуме-веселье и все время хотелось сказать кому-нибудь, как ему хорошо. Под музыку ноги его притопывали в такт, и он с какой-то счастливой завистью смотрел на танцующих. Однажды даже сказал молодым людям и девушке, которые танцевали втроем и которые вернулись за столик смеющиеся и утомленные:
– Браво.
Поднял рюмочку, сияя всеми своими морщинками, протянул ее через стол в сторону девушки и, как бы чокнувшись с ней, выпил вино до дна.
Красавица с подведенными глазами, губы у которой блестели, как красное вино, усмехнулась в ответ, и все трое напряженно переглянулись.
«Чавыча, – опять зазвучало в его голове. – Чавыча».
Тем временем музыканты ушли отдохнуть, танцующие люди расселись за столики, в зале сразу все стихло, хотя людские голоса на все лады звучали вокруг, звенели рюмки, ножи, вилки.
Официант уже несколько раз строго спрашивал, не желает ли он заказать еще чего-нибудь, но ему не надо было ничего, ему и так было вполне достаточно на весь вечер графинчика вина, салата и порции чавычи.
Ему лишь одного хотелось: разговориться со своими соседями, рассказать им что-нибудь интересное, и особенно девушке, которой он бы сказал, как она красива и какое гибкое у нее тело, как легко она танцует и как бы хотелось ему самому быть молодым и пригласить ее на танец… Пускай это будет не вальс, но уж он бы не подкачал, он бы сумел доставить ей удовольствие, потому что танцы, какие он видел в этот вечер, не шли ни в какое сравнение с вальсом, который он…
– Между прочим, – вежливо сказал он неожиданно для самого себя, – я вам хотел сказать…
– Не на-до, – с холодной улыбкой перебил его один из молодых людей и выставил вперед руку ладонью в его сторону.
– Извините.
«Чавыча, чавыча…»
Этот молодой человек тоже был красивый и, наверно, очень добрый человек, потому что у него глаза были хорошие, а взгляд, хоть он и постарался охладить его, был теплый и мягкий.
Музыканты в малиновых сюртуках с черными лацканами стали возвращаться после передышки на эстраду и наконец уселись на свои места, приготовились, взяв инструменты, и вдруг…
Нет! Он не поверил своим ушам! Он вздрогнул, как от выстрела, отпихнул свой стул, пружинисто поднявшись из-за стола, и, ничего не понимая, не чувствуя себя, но влекомый какой-то странной силой, устремился на освещенное пространство, которое словно бы ослепило его. Раскинул свои ручки и, легко поймав такт знакомой до боли в сердце музыки, закружился, прижмурив глаза в наслаждении, закружился, вальсируя в левую сторону, один на огромной и, как ему показалось вдруг, вращающейся арене. Вокруг была тьма, была музыка, были люди, которые останавливались, не входя в этот огненно-яркий круг, с недоуменными улыбками разглядывая танцующего старика, кружащегося в какой-то неуловимо-загадочной страсти, словно он танцевал не один, а был галантным кавалером. Левая рука его то поддерживала талию невидимой дамы, то возносилась над ее головой, словно таинственная невидимка, подчиняясь ему, кружилась перед ним, перебирая свои пальцы в его пальцах. То сам он кружился вместе с ней, очарованный ею. Ноги его, хоть и были обуты в ботинки на резине, успевали в стремительном кружении чеканно улавливать такт. Лицо его, отуманенное страстью, было исполнено такого блаженства, так высоко были вздернуты брови, так мечтательно полуприкрыты глаза, такую страдальческую улыбку источало это удивительное лицо, иссушенное морщинами, что никто не посмел войти в круг и тоже танцевать.
Люди стояли полукружием и с удивлением, с нежданной радостью смотрели на танцующего, а к ним подходили, поднимаясь из-за столиков, другие и тоже, играя неуверенными улыбками, останавливались и, не совсем понимая еще, что происходит, то посмеивались, то умилялись, то переглядывались, покачивая восхищенно головами, то опять посмеивались, точно боялись показаться излишне чувствительными.
Музыканты, видавшие виды за годы вечерних своих программ в ресторане, и те, вытянув шеи, привстав, смотрели на танцующего старика, играя лишь для него одного, замедляя специально для него темп музыки, видя усталость на лице вальсирующего со своей невидимкой кавалера.
Но сам он не видел никого вокруг, запрокинув голову и томно прикрыв глаза. Лицо его изображало такую сладостную муку, так оно было прекрасно в забытьи вальса, что казалось, будто он может так танцевать до бесконечности.
Музыканты пощадили его.
Он неуверенно остановился и, покачиваясь от изнеможения, медленно опустил руки, открыл усталые и испуганные глаза, увидев и услышав вдруг людей, которые, смеясь, восторженно хлопали в ладоши, глядя на него. Он тяжело и часто дышал, открыв пересохший рот, горло его ходуном ходило в глотательных движениях, он старался улыбнуться, поняв наконец, что люди ему хлопают, жмут его ослабевшие руки, его поздравляют. Даже музыканты хлопали, кивая ему, как своему собрату. Он старался улыбнуться людям, но, стоя среди них, окруживших его, вдруг жалко всхлипнул, лицо его сморщилось, глаза налились слезами, он зажмурил их и, опустив голову, торопливо пошел, покачиваясь, к своему столику, услышав за спиной новый всплеск музыки.
Застольные его соседи ушли танцевать, он ухватился рукой за спинку стула и, ища глазами официанта, позвал его. Тот кивнул ему и понимающе улыбнулся, появившись вскоре с подносом, на котором стояла бутылка с минеральной водой.
Он с жадностью выпил целый фужер и, все еще тяжело дыша, робко сказал официанту, который выжидательно смотрел на него:
– Вот как неловко получилось! Взял да расплакался. Спасибо вам, милый… Я еще тут чуток посижу, отдышусь и уж тогда уйду. Ничего, что я так вот сижу здесь? Соседи мои что-то обижаются…
Официант поднял брови и пожал плечами, ничего не ответив.
– Ну, если нельзя, я уйду. А вам спасибо, спасибо большое.
Он шел домой, чувствуя легкое кружение в голове. Было уже поздно. Дул холодный ветер. Было по-зимнему светло от снега. Но свет разливался какой-то особенный, светился как будто сам воздух. И когда он взглянул вверх, то увидел в темно-синей голубизне неба яркую луну. И сердце его возликовало.
Утром он проснулся от дробного перестука капели. Светило солнце, отовсюду капала талая вода, было мокро, грязно и блестко на улице.
Он взглянул на портрет жены, виновато потупился, вспомнив вчерашнее, и на цыпочках пошел доставать из шкафа зеленое свое пальто, зеленую шляпу и красненький шарфик.






