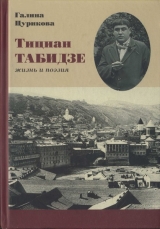
Текст книги "Тициан Табидзе: жизнь и поэзия"
Автор книги: Галина Цурикова
Соавторы: Тициан Табидзе
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц)
«А потом мы мечтали и много говорили о людях далекого социалистического будущего, которое я представлял себе по описаниям Маркса и Бебеля, а иногда рисовал и с помощью собственного воображения, – вспоминал Тициан. – И я писал стихи, которые мечтал напечатать в революционной газете маленького формата, похожей на прокламацию».
Маркса и Бебеля читал уже гимназист.
В пятом классе гимназии он проштудировал «безбожное» сочинение Дарвина «Происхождение видов».
Первые стихи («революционные») относятся, вероятно, к 1906 или 1907 году, ни один из них не сохранился, – это было, наверное, что-то вроде тех стихотворных воззваний, о которых пишет в автобиографии и Маяковский.
Революционный дух держался в классической кутаисской гимназии долго: «Мы писали прокламации, точно классные сочинения», – вспоминал Тициан.
Это было гораздо позже – в 1913 году. Ему хорошо запомнился этот рискованный случай: «В романовские юбилейные дни я написал грозную прокламацию, где со всем пылом обрушился на династию. Скоро через кого-то из наших товарищей это стало известно гимназическому начальству, – директор резко упрекнул меня в крамоле. Заинтересовались и в Попечительстве Округа, начали следствие, меня ждал арест, но директор не выдал. Спасал ли он честь своей гимназии или молодого поэта, не знаю, но он мужественно выгородил меня из этого дела».
Революция 1905 года была жестоко подавлена на Кавказе. И здесь, как повсюду, наступили годы реакции, общественной смуты, духовной опустошенности и распада. В искусстве – цветение декаданса. Запах тлена и ладана.
Упаднические настроения среди молодежи…
И сюда приходила поэзия смерти, страдания, ночной тьмы.
Поэтическое очарование смерти.
Сологубовщина.
Печальная фигура Сологуба в годы политического ренегатства и безверия – следствия поражения первой русской революции – возросла болезненно-непомерно. «Его тоскующая мысль все с большей и большей убедительностью приподымает покров очарования, которым оказывается вся действительность, – пишет о Сологубе Андрей Белый. – Он воспевает смерть всею нежностью молитвы, всем жаром страсти; он говорит о смерти, как страстно влюбленный о возлюбленной» («Истлевающие личины»).
В русской литературе трудно найти образ более жуткий и, вместе с тем, ощутимо реальный, чем Передонов, герой сологубовского «Мелкого беса», – учитель провинциальной гимназии, мелкое, пакостное, въедливое существо, вобравшее в себя всю мерзость и душевную гниль ренегатства.
Успевшая хлебнуть революционного воздуха молодежь не утратила полностью дух протеста, – было в ней некое противоядие против растленных влияний черного десятилетия. «Революционный дух» держался в стенах классической кутаисской гимназии, несмотря на царивший в ней, «как везде почти в бывшей империи», суровый режим; «много было у нас Передоновых, но были и преподаватели, которым я навсегда остался признателен», – писал в автобиографии Тициан.
Менялись формы протеста, принимая подчас неожиданные, странные очертания: в подпольных кружках гимназисты изучали грузинский язык, и одновременно шло широкое проникновение иноязычной культуры в их сознание – увлечение «новейшей литературой», так и не включенной в гимназические программы, «левым» искусством.
«Наша гимназия отдала свою дань и революции, и новейшей поэзии», – подчеркивал Тициан. Вслед за «революционными» Табидзе пишет «символистские» стихи – это взаимосвязано. Еще будучи гимназистом, он переводит на грузинский язык стихи Александра Блока, Валерия Брюсова, Федора Сологуба, Иннокентия Анненского; он переводит «Легенду о Великом Инквизиторе» Достоевского и французских поэтов. Его оригинальные стихи и переводы печатаются в кутаисских газетах, а потом и в Тифлисе. В его представлении это – начало другой «революции»: в грузинской литературе. «Еще подростками мы мечтали о перевороте в грузинской поэзии», – скажет он позже.
Тициан Табидзе печататься начал с шестого класса гимназии.
Шестой класс гимназии – предпоследний. В шестом классе Паоло Яшвили, тогда еще Павле Яшвили (он стал Паоло потом, когда и Титэ стал Тицианом), редактировал печатный журнал «Стрелы Колхиды» и сам его оформлял как художник.
Табидзе и Яшвили уже тогда были неразлучны, «как сиамские близнецы», по их собственному определению. Тициан писал: «Я вспоминаю (вместе с Паоло Яшвили) Маяковского-гимназиста. Это был рослый, худощавый мальчик. От многих своих сверстников он отличался тем, что прекрасно плавал в Рионе и в случае необходимости не отступал в драке; он явно был непохож на выхоленных и избалованных чиновничьих детей», – у них были общие с Паоло воспоминания.
Паоло Яшвили, сын провизора из Чиатуры, был, как и Маяковский, с детства по натуре трибун. Яшвили был разносторонне и ярко талантлив: учился впоследствии живописи в Париже, играл ведущие роли на любительской сцене, был отличный организатор, творец воинственных манифестов.
«Рядом с Паоло Яшвили, уже и тогда замечательным мастером поэтической импровизации, блистательным юношей, который, подобно фейерверку, сверкал экспромтами и остроумными поэтическими находками, Тициан Табидзе как бы оставался в тени, – вспоминает Симон Чиковани, – в обществе он не мог произвести такого внезапного поэтического эффекта, какой выпадал на долю его друга. Он был застенчив и казался скромным участником товарищеских интимных бесед на поэтических тайных вечерах».
Вследствие каких-то неприятностей, которые грозили исключением из гимназии, Яшвили был вынужден перед самым ее окончанием уехать из Кутаиса в Анапу к родственникам, якобы для поправки здоровья…
* * *
В старших классах гимназии (1911–1912) Табидзе был уже признанным в кругу товарищей поэтом. Кроме стихов, он писал прозаические «новеллы», своего рода «стихотворения в прозе». Они романтичны, подчеркнуто антинатуралистичны, поэтически абстрагированы от быта:
«…По умолкнувшей лире Грузии скорбит небо Колхиды. Последняя мелодия порванной струны заставляет рыдать горы Колхиды. Потому и застыли они в скорбном молчании.
Исчезнувшую под небом Колхиды свободу оплакивает с распущенными волосами колхидская дева.
Ты спрашиваешь, почему люблю я небо Колхиды?
– Потому что под ним должен быть погребен пепел моей грешной души.
Ты спрашиваешь, почему люблю я небо Колхиды?
– Потому что здесь стоит гроб моей первой любви…»
«Новеллы» – наивны, пронизаны грустью и… разочарованием.
В них много – о смерти.
Газеты писали об эпидемии самоубийств среди учащихся.
Один из бывших кутаисских гимназистов рассказывал, как в классической гимназии служили панихиду по кому-то из добровольно ушедших из жизни (там и Табидзе присутствовал). Учитель богословия, было похоже, сочувственно говорил последнее слово: он, в сущности, поощрял поступок мальчика, который сам ушел от грешной сей жизни, нашел в лучшем мире вечное себе пристанище…
– Кто мог подумать, что он таил в себе эту великую тайну!?
В напряженной атмосфере, во время самой панихиды, застрелился еще один, русский пятнадцатилетний гимназист, а спустя несколько дней покончила с собою ученица епархиальной школы, где учились младшие сестры Тициана, – ей не позволили выйти замуж за того, которого она любила, – назавтра и ее избранник последовал за нею. Весь город говорил об этом. В гимназии спорили, в спорах принимал участие и Табидзе. Он казался грустным. Он был взволнован и озабочен.
Светловолосый, стройный, с нежным, по-детски пухлым лицом, всегда аккуратно, не без щегольства одетый, Табидзе выделялся своей серьезностью, своей глубокой сосредоточенностью, он производил впечатление человека, не привыкшего тратить время впустую; его было бы странно видеть слоняющимся без дела или скучающим. Всегда у него в руках была книга. Он даже знакомство с девушкой начинал обычно с какого-нибудь серьезного литературного разговора, с вопроса, – например:
– Вам нравится Гедда Габлер?.. Вы читали д’Аннунцио?.. Мне интересно, что вы скажете об этой книге…
Друзья обращали внимание: он ходит очень задумчивый и печальный; выжидающе на него посматривали; о нем говорили, что он безнадежно влюблен в одну девушку из хорошей семьи, – его грусть приписывали переживаниям.
И будто бы вскоре после самоубийства девушки из епархиальной школы он сказал одному из своих друзей, что решил никогда больше не видеться с той, которую любит, – больше к ней не подойдет; и будто бы он сдержал свое слово.
Не тогда ли было написано это стихотворение?
Нет, моя хорошая, не говори, что я любил тебя.
Не могут эти слова снять с души моей сети печали.
Как будто без этого мало мучений
в мучениях выросшей моей несчастной душе!
То было бредом, что звал я прежде любовью…
В этом краю ты найдешь другого, счастливого:
может ли в мире иссякнуть радость?
Его полюби – он поймет твою ласку…
Что общего, скажи, с тобой у моего горюющего стиха?
Нет, не пой! Я не вынесу звуки гитары…
Воскресает, видишь, что предал волнам забвенья, —
гроза времени того чувства не стерла, —
напрасно старался забыть: все же ее люблю!
Я привожу подстрочный перевод, потому что в нем очевидней сквозящая среди банальных «поэтичностей» истинность переживания.
Мотивы прощанья с «похороненной» любовью устойчивы и в прозаических «новеллах», и в стихах Табидзе, написанных в эту пору.
Они звучат в стихотворении «Ноктюрн»: повторяя мотивы новеллы «Под небом Колхиды», стихотворение рисует колхидскую светлую ночь – ночь родины, которая «качала колыбель моей любви» и теперь «смотрит грустью в глаза» и рассказывает «были минувшего», от которых у души вырастают крылья:
Раненый лебедь оплакивает прошлое,
хочет вызвать из могилы весну
рано похороненных чувств.
Забыл, что времени ливень
не терпит никаких повторений;
забыл, что ласки возлюбленной
не вернет уже и сатана…
Воспоминания «пережитого» облекаются в романтические одежды, раз от раза все более условные – «символические». Постепенно они отдаляются от земного прообраза и превращаются в красивую поэтическую «легенду».
Табидзе пробует себя в разных жанрах. Среди них есть психологическая новелла о роковой любви «Отрывки из дневника», в которой попадаются автобиографические детали; но самый сюжет ее к «пережитому» отношения не имеет: в новелле исследуется душевное состояние человека, одержимого любовью, убившего мужа своей возлюбленной, – в дневнике он подробно описывает свои мучительные переживания. Тонкости психологизма уличают семнадцатилетнего автора в том, что он прилежно читал Достоевского, но что ему еще ближе Кнут Гамсун, знаменитый норвежский писатель, с его романтикой современной любви, изломанной и капризной.
«Что такое любовь? Ветерок, шелестящий в розах; нет, – золотое свечение крови. Любовь – это адская музыка, заставляющая плясать даже сердца стариков…»
Кнут Гамсун много писал о любви, и его романы были чрезвычайно популярны среди молодежи. В 1910 году приложением к «Ниве» вышло в переводе на русский язык Полное собрание сочинений Кнута Гамсуна, оно дошла и до Кутаиса, и тамошние гимназисты им тоже зачитывались.
«Стихи Ал. Блока и романы Кнута Гамсуна завершают круг моих тогдашних исканий и настроений», – писал Тициан Табидзе в черновом наброске автобиографии; в ее окончательный текст имя Кнута Гамсуна не вошло. Философия Гамсуна в сложном плетении ницшеанских идей, прославляющих сильную личность вне категорий добра и зла, «белокурую бестию германца», в тридцатые годы вышла навстречу фашизму: от писателя отвернулись.
Прозаические «новеллы» Табидзе писались под непосредственным впечатлением от сочинений Кнута Гамсуна.
Однако их романтичность, их книжность не исключают искренности. Они – свидетельство душевной взволнованности, остроты ощущения мира. Как и стихи, эти прозаические миниатюры – меланхоличны, пронизаны юношеским скептицизмом.
Порой обратит на себя внимание живая подробность или «пейзаж с настроением»:
«Вечер. Туман печальности застилает окрестность. Подобно недавно овдовевшей женщине, оделись в черное деревья. На свинцовом небе белое облако вздрагивает, словно улыбка на горюющих губах. Земля молится, вопрошая к небу и прося отпущения грехов, и буря поет упокойную пожелтевшим листьям, сорванным листьям засохшего дерева.
Тик… тик… падают на окно капли…»
Грузинская поздняя осень – в траурных черных силуэтах деревьев, в свинцово-подвижных, нависающих облаках, в графической устремленности к небу, в порывах ветра, несущего ливни желтой, сухо шелестящей листвы, в характерности жеста, в этой невольно представляемой пластически четкой фигуре воздевшей к небу руки женщины в черном, – она возникает как символ, как силуэт.
В цикле «На грустный лад», из которого взят отрывок, есть своего рода психологическая непосредственность: герою хотелось, очень сильно хотелось выпрыгнуть из окна и целовать углубленья в земле – оставленные ею следы, – их смывал дождь; «как горьки, как горьки воспоминания о том, что любимая женщина, которая вчера была с тобой, ушла навсегда и никогда не вернется»; «в руке дрожит бокал вина» – красивая дань литературной банальности; «тик… тик… падают на стекло дождевые капли, словно повторяя произнесенное тобою имя; холодный поцелуй бури и ее тоскливый крик еще сильнее холодят душу».
Осенний, ветреный, дождливый Кутаис…
«Уй, уй, уй!.. – квакают лягушки. Потоп ожидает вселенную, и кому же если не им оплакать ее…»
«Задумывались ли вы когда-нибудь, о чем поет буря в холодную осеннюю ночь, когда затворены ставни, чтобы не слышать ее стоны, но все же вы слышите пляску высохших ветвей деревьев на крыше дома; их чародейка-буря втянула в хоровод.
Задумывались ли вы…
Хоть и слышите, но не хотите слушать, ибо она поет о той великой дикой страсти, в сравнении с которой наша страсть выглядит ребяческой…
Песня бури – отголосок затерянного где-то в веках римского полководца, который после выигранной битвы с чашей фалернского вина распевает песни Анакреона. В ожидании ласки дрожит рабыня и расплескивает вино…
Песня бури – отголосок песни возвращающихся с войны амазонок, это их окровавленных скакунов шафранные лучи месяца накрыли воздушным покрывалом.
Песня бури – дыхание на грешном ложе дрожащей от страсти Клеопатры и голос затерянного в окрестностях Израиля жениха Суламиты…
Прислушайтесь… Разве не слышите?.. В мрачную ночь как душераздирающе зовет Язона Медея. Знает, что он далеко, но все же зовет, ибо сердце не вмещает потока чувств.
В мрачную ночь жена Потифара ждет раба Иосифа в нильских плавнях…
Буря будит миф, чтобы опьянить человека снами великих страстей прошлого. Дикая песня бури хранит мистерии Диониса».
Разбуженные однажды ноябрьским вечером, они долго будут сопровождать Тициана, эти многоголосые тени: амазонки на окровавленных скакунах; жена египетского сановника Потифара, ждущая раба Иосифа в нильских тростниках; обманутая дочь колхидского царя Медея… Библия, античные мифы, страницы школьной истории – станут частью его собственной жизни; с юношеской щедростью одарит он хрестоматийно бесплотные тени животрепещущим пылом своей души, телесностью почти осязаемой, чувством, томлением, беспокойством.
Богатая фантазия порождает в его творениях мир преувеличенно, пышно эмоциональный. Его завораживает свобода поэтического полета, открытая символизмом: «Твори, что хочешь, ибо этот мир принадлежит тебе», – слова Блока он понимает буквально, не чувствуя в них иронической горечи. Его влечет абсолют – любовь в ее идеальном, в ее максимальном воплощении. И он создает свой рассказ-легенду о «древней великой страсти, подобной фонтану, исторгнутому из сердца первобытного человека» (потом она «превратилась в детскую шутку»!).
Свою легенду он строит наивно-последовательно, по рецепту Федора Сологуба: «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду, ибо я – поэт. Косней во тьме тусклая, бытовая, или бушуй яростным потоком над тобою жизнь, – я, поэт, воздвигну творимую легенду об очаровательном и прекрасном». Она так и названа по-сологубовски – «Созданная легенда» (можно перевести и «Творимая легенда»); «легенда» имеет многозначительный подзаголовок: «Воспоминания прошлого».
«О! Сколь прекрасна царица амазонок Иезавель! Ее глаза – зажженный в полночь у спящего озера факел. Роза увяла и утратила всякое желание цвести, увидев грудь амазонки. Луком казались брови, ресницы – стрелами. Густые дебри ее волос черны, как проклятый богом ворон!
И вот она, страсть, дикая до сумасшествия, животная страсть богов, ненасытная, невиданная. На огне этой страсти сгорела безжалостно Иезавель. Месяц в небе таял от вожделения и рыскал по усеянному жемчужинами небу. Он бледнел, он стыдился своей страсти, а она была лишь бледною тенью огня, сжигавшего Иезавель. Мир для нее стал пустыней. Так иногда гиена, заблудившаяся в пещерах, от голода пожирает сама себя. На нее похожа Иезавель, предводительница храбрых амазонок!
И какой же воин мог бы забыть сумасшедшую деву, растрепанное видение на окровавленном жеребце! Потоки крови… Долго ночами успокаивали жены воинов, избежавших меча Иезавель, когда рвали они на себе одежду, вспоминая, как их преследовали амазонки.
И еще был сгоревший от страсти греческий царь Александр. Он любил нежиться в водах Ганга, очищающих от греха. Александр – всемогущий царь, которому сам Язон присылал в дар девушек из Колхиды, при виде которых однажды ночью отравился евнух персидского шаха. Александра полюбила Иезавель…
Кто теперь вспомнит об Александре?
Умирая, он звал в бреду Иезавель, а она в это время вспоминала по пути на Кавказ рассказанную ей Александром легенду об Амиране – богатыре, который похитил огонь у Зевса.
Она уже мечтала об Амиране».
Жизнь шла, чередуя будни и праздники.
Случалось, что городская газета помещала стихи молодых грузинских поэтов, – такой случай торжественно отмечали: шумной компанией шли к Лагидзе, осаждали столик – пили там лимонад.
Впрочем, раз кто-то из них стащил дома бурдюк вина, привезенный родственниками из деревни. Они захватили с собой хлеб и немного сыра, – отправились за город кутить. Было очень весело, только вина слишком много – столько не выпить! Они надули бурдюк с недопитым вином и пустили в Рион, привязали записочку к тем, кто поймает – пусть выпьют за их здоровье! И пошли домой, распевая песни.
Часто они встречались. Бывали серьезные литературные разговоры, споры. Всего охотнее собирались они у Табидзе: он жил независимо, самостоятельно, без родителей, снимал комнату; вместе с ним жили младшие братья. Собравшись, обязательно читали стихи. И свои, и чужие.
Друзей поражала эрудиция Табидзе, его незаурядный литературный кругозор: Бальзак и Метерлинк, Шекспир и Тютчев, Оскар Уайльд, Кнут Гамсун, французские и русские символисты, Иннокентий Анненский и Михаил Кузмин, особенно его «Александрийские песни», и, разумеется, Достоевский, Блок. Но и Надсон, и Брюсов, и Сологуб…
Сологуб приезжал в Кутаис, когда Тициан Табидзе был еще гимназистом. С ним вместе приехала Анастасия Чеботаревская, его жена, и покровительствуемый ими, тогда еще малоизвестный – Игорь Северянин. Об их вечере в городском театре вспоминает Сергей Давидович Клдиашвили, в ту пору ученик дворянской гимназии, один из друзей Тициана. Он был на вечере вместе с Табидзе, которому гимназическое начальство в тот раз почему-то не разрешило пойти в театр, и он, всегда довольно послушный, весьма успевающий в учебе, вынужден был пойти без разрешения, потому что не пойти он, конечно, не мог.
Сначала Чеботаревская прочитала доклад об Игоре Северянине: потом Северянин читал стихи, – кажется, без большого успеха.
Потом читал Сологуб.
Он был до странности мало похож на поэта. Пожилой, с чиновничьим скучным лицом, угрюмый. Сологуб сошел бы за учителя провинциальной гимназии. Его появление на сцене казалось неуместным.
Сологуб читал певучие, живописующие звуком стихи:
Затхлый запах старых книг
Оживил в душе былое,
В злой тоске пережитое,
В тихом звяканье вериг,
Дни, когда, смиренный инок,
Я молился, окружен
Тучей пляшущих пылинок,
И славянскую печать, —
Прихотливые узоры, —
Отуманенные взоры
Ухищрялись разбирать.
Было что-то отрешенное, веющее стариной и забвением, в самих произносимых им звуках: луч света пронизывал узкую келью, падал пятном на серое рубище, тихо звенели вериги, шуршали ветхие страницы, пахло пылью… Взрывался ненужными аплодисментами зал, а поэт смотрел невидяще и удивленно, хмурился… Пока вдруг откуда-то сверху, из полумрака галерки не послышался звонкий мальчишеский голос: кто-то, захлебываясь, выкрикнул с характерным туземным акцентом:
– Пожалуйста, прочитайте «Чертовы качели»!
Поэт был поражен, прервал чтение и, заметно волнуясь, сказал:
– Как? Меня знают здесь?
Сологуб просил крикнувшего с галерки спуститься вниз и назвать себя, – поэт хотел видеть юношу, который знает его стихи…
Увы, если бы даже гимназист, попросивший Сологуба прочитать стихотворение про чертовы качели, не очень стеснялся, он бы все равно не посмел, придя без разрешения в театр, выйти на сцену и назвать себя. Табидзе подумать об этом не мог, хотя было бы лестно познакомиться с Сологубом и, может быть, даже прочитать ему переводы его стихов на грузинский.
…В тени косматой ели
Визжат, кружась гурьбой:
– Попался на качели.
Качайся, черт с тобой!..
Это двусмысленное «черт с тобой» ему особенно нравилось, и нравились дерзкие стихи, такие отчаянные – как жизнь:
Взлечу я выше ели,
И лбом о землю – трах.
Качай же, черт, качели,
Всё выше, выше… Ах!
Кончился вечер, но два гимназиста долго топтались у входа, поджидая поэтов, потом шли за ними по улице, но подойти и представиться не решились, только незаметно подталкивали друг друга; в конце концов, Игорь Северянин их заметил, подозвал и, как ни в чем не бывало, спросил: не знают ли они, где бы сейчас можно выпить чаю? У Серго Клдиашвили мелькнула мысль пригласить поэтов к себе, угостить их, но было позднее время, и он не решился; подумав, они сказали, что можно пойти на вокзал, там в буфете чай всю ночь подают…
«Новейшая литература», в особенности поэзия символистов, им представлялась отдушиной в той тусклой бытовой, казенной, провинциальной атмосфере, которая их окружала. Это был способ уйти от скучной повседневности кутаисских будней.
«Серая мещанская среда мелкой буржуазии заполнила для нас общественную среду, легко вызывая нас на оппозицию и на все оплеухи общественному вкусу», – напишет, годы спустя, об этом времени Тициан в черновом наброске автобиографии. Потом он поправил стиль – станет; «Город обнищавших мелкопоместных дворян, давно спустивших свои имения, какой-то „аристократической богемы“, изощренных в хитрых выдумках праздных тунеядцев и остряков легко настраивал нас на оппозицию мещанству и „пощечину общественному вкусу“…».
Здесь еще и символизм был пощечиной, хотя в России на смену символизму шел уже более решительный футуризм! «Пощечина общественному вкусу» – название первого поэтического сборника футуристов (1912).
Их соблазняли, их влекли за собой литературные призраки – обманчиво живые, – в противовес мертвящей, тупой и беспробудной повседневности.
«Литературные призраки» приходили осенними тучами из-за моря.
Не только поэтические, но и жизненные ассоциации молодых кутаисских поэтов были литературны.
«Кутаис представлялся нам „мертвым Брюгге“ Роденбаха, – писал Табидзе в автобиографии. – На фоне этого мертвого города оживали галлюцинирующие призраки, и мы были в плену литературных образов».
Блистательный «мертвый Брюгге», этот некогда пышный фламандский город времен Возрожденья, вот уже несколько веков погруженный в сон, похожий на забытье, на затянувшуюся агонию, – что общего было у него с Кутаисом?
Печальный, монастырский, живущий как бы под сурдинку Брюгге – объект меланхолических творений бельгийского писателя-символиста, жившего и умершего в Париже, Жоржа Роденбаха; не просто место действия – центральный персонаж его романа «Мертвый Брюгге» и лирического очерка «Брюгге» из книги «Агонии городов».
Роденбах писал о старом Брюгге как о своей минувшей, но не забытой любви, о неизбывной печали воспоминаний.
«Красота печали выше, чем красота жизни!» – утверждал Жорж Роденбах.
Выступая на Первом Всесоюзном съезде писателей, Тициан Табидзе скажет о «поколении, зачатом до войны и революции – в капиталистической агонии», о молодом человеке, которого двадцатый век застал стариком, о «замечательных французских поэтах», павших в патриотическом угаре Первой мировой войны, в предсмертных судорогах вспоминая Бодлера и Малларме: они «видели заходящее, черное солнце декаданса, хоть умирали за возрождение родины».
Их символом был «мертвый Брюгге».
С новейшей французской поэзией Табидзе и его друзья с гимназических лет были знакомы основательно. Они читали «Цветы зла» Бодлера с их извращенной чувственностью, с их эстетикой ужаса, пластической образностью ночного кошмара. Они знали толк в импрессионизме и экспрессионизме (разбирались и в живописи). Ценили Верлена, его образ – музыкально текучий, изменчивый, подвластный настроению, интонацию интимного разговора, нарочитую антисоциальность. Артюр Рембо и Жюль Лафорг были ими вдвойне почитаемы и любимы: непохожесть, особенность, отдельность Рембо и гейневский скептицизм, ироничность Лафорга: смятенность души, трагизм и безмятежность, чудовищность гипербол и подчеркнутый антиэстетизм, риторичность в сочетании с доверительностью… А зыбкая иносказательность метафоры Малларме, ее скрытая эмоциональность! А трагический лиризм безумного Лотреамона, рано умершего и почти неизвестного… Все это входило в их плоть и кровь, бралось на вооружение, должно было содействовать глубинному перевороту в недрах грузинской поэзии, дабы поставить ее в один ряд с европейской лирикой нового века.
Они были молоды, смелы, уверенны в своих силах.
Французских поэтов они читали по-русски, предпочитая брюсовские переводы.
В 1913 году в переводе на русский язык вышла «Книга масок» французского критика, теоретика символизма Реми де Гурмона, – эта книга оказала серьезное влияние на формирование их теоретических убеждений. Табидзе читал ее внимательно и неоднократно, отмечая важнейшие, отвечающие его собственным представлениям строки (в его домашней библиотеке сохранился этот экземпляр): впоследствии он часто ссылался на авторитет Реми де Гурмона.
Крупнейший французский теоретик символизма авторитетно заявлял, что творчество поэта должно быть увеличенным отражением его личности; что нет другого оправдания для человека, пишущего стихи, кроме того, что он пишет себя самого, раскрывает перед другими людьми тот особенный и единственный в своем роде мир, который отражается в зеркале его индивидуальности; его оправдание в том, чтобы быть оригинальным, он должен говорить вещи, никем не сказанные, и делать это в форме, до него не существовавшей.
Со времени первых поэтических опытов прошло несколько лет – разительно изменились за это время стихи Табидзе.
Кто скажет, что это написано вчерашним гимназистом, еще не студентом, пожалуй? Вот это стихотворение – «На маскараде» (1913):
Темно в глазах. А всё кругом горит —
Сгорает. Запах платьев ядовит.
Зал дышит алым бархатом и черным.
Звук скрипки небывало удрученным
Ко мне приходит, чтоб во мне открыть
Мне самому неведомые раны.
Как странно… Всё, что было, – всё в году
Бог весть каком уплыло, стало дальним…
Нет имени тому, чего я жду
Сейчас смертельно сладким ожиданьем.
Но впереди – мертвец, суров и светел,
Под смертною рубашкою простой, —
Так некогда, оставшись сиротой,
Моя душа скончалась на рассвете…
…Зурна рыдает. Дикий танец гор
Показывают иностранцам. Скор
И медлен танец. И пищит дудук.
И звук зурны – всё тот же скорбный звук.
Звук реквиема моего. Я знаю;
Нельзя мне вспоминать. И вспоминаю
И май, и яблоню. Ее цветы —
Постелью белой по двору. И ты,
Невозвратимая как время…
Темно в глазах. Но всё кругом горит —
Сгорает. Запах платьев ядовит.
А мертвый зал, и шумный, и немой,
Танцует реквием печальный мой.
Перевод Ю. Ряшенцева
Если в первых мало самостоятельных стихотворных опытах Табидзе прозаический дословный пересказ полнее сохранял внутренний смысл и душу оригинала, то в новых его стихах подстрочник бессилен, он – лишь намек на некое поэтическое содержание, – в нем пропадает главное: вкус живого, звучащего слова. Поневоле вспоминаешь слова русского философа и теоретика раннего символизма Вл. Соловьева о том, что «в истинно лирическом стихотворении нет вовсе содержания, отдельного от формы… Стихотворение, которого содержание может быть толково и связно рассказано своими словами в прозе, или не принадлежит к чистой лирике, или никуда не годится» («О лирике»).
Пересказ – вялая тень лирического сюжета: «Если спросите меня, чего я хочу, ожидание чего меня убивает? Сам не знаю… Прошлое умерло, а в будущее открывается дверь… Душа моя умерла серым утром… Ушедшее время не вернуть, не затрепещет больше душа, ожидая возлюбленную…».
Стихи – прощание с прошлым, тревожное ожидание будущего.
Интонация оригинала несколько иная, чем в переводе Юрия Ряшенцева, – она интимнее, в ней меньше рисовки, несмотря на некоторую велеречивость.
…Мелодичность, текучесть фразы, подвижность образа, смятенность чувства, его неопределенность; и несочетаемость представлений, и неожиданность поворотов мысли. Почти болезненная обостренность мироощущения, и при этом – ни преувеличений, ни выспренности. Психологическая достоверность: напряженное душевное состояние человека в момент глубокого и скрытого внутреннего перелома.
Трагический колорит…
То же – на примере другого стихотворения: «Принц Магог» (1915), близкого по характеру, – те же свойства представлены в нем еще более интенсивно. Перевод Ю. Ряшенцева не передает, может быть, в полной мере гибкость словесного построения, частично утрачивает звучность аллитераций, но зато характерную сложносплетенность лирического сюжета, образную фактуру стиха воспроизводит с большой степенью поэтической точности, не теряя при этом художественной выразительности оригинала:
Ноябрьский бес приходил с бокалом вина
И подергивал челюстью, коротенькой и смешной,
И потягивался, и поглядывал на меня,
И спрашивал: «Ты ведь пойдешь со мной?..»
Куда мы шли… Мы не шли – метались во мгле
Жеребенком напуганным. За нами на полном скаку
Тишина летела – темный всадник на высоком седле, —
Тишина летела и к груди прижимала тоску.
Казались седые вершины далеких скал
Сломанными крыльями усталого божества.
Небо ли умерло или земля, кто по кому горевал —
Горьким и медленным черным снегом покрывалась трава.
Стонала сова. Нетопырь ей вторил вдали.
Шакал глядел с амбара у схлеста дорог.
И табуном, словно туча, кентавры шли
По черной земле, где властвовал принц Магог.
Стихотворение зиждется на субъективном, «внутреннем» видении, конкретном и зыбком одновременно. Смутность пейзажного образа психологически насыщена и закреплена в словесной структуре, оценить которую в переводе почти невозможно, потому что немалую роль здесь играют стилевые оттенки, не передаваемые по-русски: разнохарактерные и просто разноязыкие элементы, поэтические мотивы, возникшие в различной мифологической, литературной и бытовой среде – здесь сплавленные воедино.








