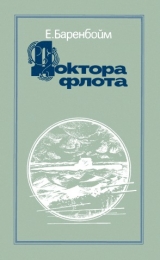
Текст книги "Доктора флота"
Автор книги: Евсей Баренбойм
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 40 страниц)
– Исключения лишь подтверждают правила, – говорил он. – Есть немало областей хирургии, куда гораздо рациональнее направить наши усилия, наши ресурсы, где отдача реальна, а результат очевиден, чем в погоне за Западом тратить огромные средства на области сомнительные.
Два года назад, вернувшись из Хьюстона, он уже пытался убедить главного хирурга в необходимости делать и у нас такие операции. Но услышал в ответ:
– Не понимаю вас, Василий Прокофьевич. Решительно не понимаю. Что вы уперлись в эти пересадки? Не в моем же разрешении дело. Вы бы давно занялись ими без всякого разрешения. Но вам нужны новые штаты, деньги, аппаратура. Поэтому вы и пришли ко мне. Ведь так?
– Конечно, – подтвердил он. – Без этого новым делом серьезно не займешься.
– Денег и штатов я вам не дам! – решительно заявил главный хирург. – Моя задача экономно расходовать государственные ассигнования и я не могу тратить их на сугубо сенсационные идеи.
– А я вас никак не пойму! – вспылил он, чувствуя, что разговор с главным хирургом начинает бесить его. – Откуда у вас такая уверенность, что правы всегда только вы, а другие ошибаются? Ваш пост руководителя обязывает видеть новое и поддерживать его. Вы же своим консерватизмом уже принесли хирургии немало вреда.
Возможно, ему не следовало так говорить. Но когда он чувствует свою правоту, то забывает о необходимости парламентарных выражений.
– Ах, даже так! – взвился главный хирург. – Не намерены ли вы сменить меня на моей должности?
– Сдалась мне ваша должность, – с досадой сказал он. – Я о деле пекусь, поймите, только о деле. И если оно потребует, дойду до министра, до ЦК партии. Этого требуют интересы больных, интересы будущего кардиохирургии.
Он вышел тогда из кабинета главного хирурга, даже не попрощавшись.
Ни он, ни Василий Прокофьевич не знала тогда, да и не могли знать, что пройдет всего несколько лет и врачи из Станфорда разработают стандартную технику пересадки сердца, что ими будет произведено сто восемьдесят пересадок, после которых семьдесят два человека останутся живы к 1980 году, что одногодичную выживаемость удастся увеличить до шестидесяти девяти процентов, а пятьдесят процентов оперированных проживут с пересаженным, сердцем пять и более лет. И все это будет достигнуто без значительных открытий в иммунологии, только благодаря чувствительному методу, позволяющему определить момент самого начала отторжения трансплантированного сердца…
Но в отношении средств главный хирург был, конечно, прав. Такие операции потребуют в масштабе страны создания целой службы. Разумеется, понадобятся новые штаты, ассигнования. По американским данным одна пересадка стоит от пятнадцати до двадцати тысяч долларов. И все же Василий Прокофьевич возвращался домой в еще большей уверенности, что дальше медлить нельзя, что главный хирург ошибается и наступил момент, когда следует решительно попытаться убедить его.
В его институте должна быть безотлагательно создана специальная группа, которая будет заниматься подготовкой к проведению таких операций. Иммунология в любой момент может совершить решающий шаг, а служба пересадок сердца, организационные, материальные и технические аспекты операции не будут отработаны. Он вспомнил слова Филиппа Блайберга, прожившего с пересаженным сердцем больше года: «Я уже получил несколько месяцев сверх положенного мне срока и если даже умру на следующей неделе от реакции отторжения, буду считать, что меня оперировали удачно».
Мысленно он стал перебирать своих помощников, кого из них он включил бы в такую группу. Котяну и Бурундукова были включены в нее одними из первых. Восстановил в памяти все операционные и остановился на двух, самых удобных.
За стеклом иллюминатора было темно. Где-то там, внизу, намного севернее, омываемый водами Тихого океана, над которым они сейчас летели, лежит остров Рюкатан. Он прослужил на нем три с половиной года. Пожалуй, не самые плохие годы своей жизни. В 1952 году на берега Курильской гряды налетел опустошительный цунами, разрушивший многие прибрежные поселки, унесший немало человеческих жизней. Уцелел ли его домик? У Анюты сохранилась фотография этого домика – они стоят, взявшись за руки, на крохотном крылечке и океанский ветер развевает их волосы. Она хранит это фото в особой коробочке среди немногочисленных, но самых дорогих семейных реликвий. В минуты размолвок и ссор жена извлекает фотографию, и Василию Прокофьевичу кажется, что вид домика действует на нее лучше самого сильного успокоительного лекарства.
Незаметно он задремал. Он открыл глаза, когда самолет летел над Гималаями, В иллюминатор были видны вздыбленные высоко в синее небо остроконечные белые шапки гор. Какая-то нарочитая исковерканность, разломанность была в этих острых пиках, притиснутых друг к другу. Неприкрытая облаками, неясно просматривалась земля.
Спать больше не хотелось. Он щелкнул замком дипломата, достал отпечатанные листки – наброски своей актовой речи. В этом году он удостоен большой чести – прочесть в первый день учебного года актовую речь для вновь поступивших студентов медицинского института. Что он должен сказать им, будущей смене, только начинающим свой путь в медицине? Рассказать, как он сам пришел в науку, поведать о сложности избранной профессии или призвать всегда любить больных, свято соблюдать клятву Гиппократа? Хотя до первого сентября оставалось еще много времени, мысли о предстоящей речи преследовали его почти неотступно. Он пробежал глазами наброски.
«Все более в медицину вторгаются достижения других наук, в том числе недавно далеких от нее – математики, техники. Ежегодно появляются новые методы, о которых люди моего поколения не могли даже мечтать. Эхокардиорование…»
Василий Прокофьевич недовольно нахмурился, перечеркнул это место карандашом. «Об этом они узнают позже. В первой лекции не стоит говорить об успехах».
«Да и болезни стали не такими, как раньше, – продолжал читать он. – Атипичными, часто не поддаются старым методам лечения. Должна быть при данном заболевании высокая температура, а ее нет. Должно у пациента болеть сердце, а у него болит зуб. Симптомы раньше появлялись к пятидесяти годам, а нашему больному только двадцать пять. Врачу стало работать труднее. Да и сам пациент сильно переменился. Раньше верил врачу, как богу. Ловил каждое слово и послушно выполнял все рекомендации. Теперь больной пошел сомневающийся. От одного врача идет к другому, к третьему. Подавай ему доцента, профессора. Но и этого часто мало. Как грибы появляются всякого рода травники-самоучки, обладающие «сверхъестественной силой» экстрасенсы, «специалисты» тибетской медицины, у которых от пациентов нет отбоя.
Медицина – наука не из числа очень точных. Мнения врачей относительно диагноза, лечения могут разойтись. Вот вам и причина для недовольства, для недоверия. «Один говорит – надо оперировать, другой – не надо. А как поступить мне?»
Пожалуй, об этом сказать нужно. Но как бы у молодых не развился опасный скепсис к своей профессии».
Василий Прокофьевич спрятал листки в дипломат, взглянул на часы. Лететь еще предстояло долго – почти двенадцать часов. Он откинулся на спинку кресла, снова попытался задремать. Неожиданно он вспомнил свой последний разговор с Мишей, его вопрос, почему он не выступил в защиту Савкина. Мишка спросил его об этом, конечно, неспроста. Наверняка в душе он осуждал его.
А ведь все было именно так, все было чистой правдой. О некоторых подробностях он просто не успел рассказать. Не рассказал, как провожал Савкина, когда тот уезжал в Караганду. Как окруженный немногочисленной группой родственников и знакомых, профессор вдруг увидел его. «Вы что, тоже едете этим поездом?» – спросил он. «Я вас пришел проводить, Всеволод Семенович». Савкин пожал ему руку. «Спасибо, снайпер, – сказал он. В тот день он выглядел лучше, был оживлен, шутил с родственниками. – В науке, молодой человек, истина всегда добывается в борьбе, – проговорил он. – Не сомневаюсь, что она восторжествует и на этот раз».
Он не сказал Мише, что до сих пор не подает руки бывшему ассистенту Всеволода Семеновича, выступившему на том заседании с «разоблачениями» своего шефа. И хотя ему будто бы не в чем обвинять себя, нет да нет, как, например, сегодня, из закоулков памяти выплывает тог жаркий августовский день сорок восьмого, тревожное ожидание конца заседания, известие, что Савкин лишен кафедры, а он так и не выступил в его защиту, и тогда возникает чувство беспокойства, неловкости, словно начал операцию, не вымыв предварительно рук…
Пожалуй, именно он, Всеволод Семенович, сделал больше других для его становления как хирурга. Когда, несколько лет назад, он бродил по территории бывшей Академии и предавался воспоминаниям, ноги сами занесли его на кафедру нейрохирургии. На первый взгляд там мало что изменилось. Как и много лет назад, в коридоре выстроились массивные стулья с высокими спинками, тускло блестел паркет, на прежнем месте стояли столик дежурной сестры, каталки для перевозки больных, в аккуратной рамке висел нарисованный еще до войны пациентом-художником портрет Пирогова, только в простенке окон вместо пальмы теперь красовался новенький телевизор. Все было, как и прежде. Не было лишь души кафедры и ее основателя профессора Савкина. Он умер в начале шестидесятых годов, умер так же, как и жил – весь в делах и планах, окруженный учениками, на лекции, запнувшись на полуслове. Всеволод Семенович часто любил повторять слова Хемингуэя, что настоящий мужчина не должен умирать на больничной койке. Он должен умирать на войне, в странствиях и путешествиях, в объятьях любимой женщины. Сейчас на кафедре о нем напоминала лишь скромная мемориальная доска: «Здесь с 1940 по 1962 год работал выдающийся нейрохирург профессор Всеволод Семенович Савкин».
Именно Савкин на этой кафедре преподал ему урок, который он запомнил на всю жизнь. Это произошло весной 1947 года, когда после нашумевшей операции на сердце, его зачислили на курсы усовершенствования и он приехал с острова Рюкатан в Ленинград.
– А, снайпер, здравствуй, здравствуй, – сказал Всеволод Семенович при первой встрече в ответ на приветствие, сразу узнав его. – Слышал о твоих успехах. Ну что ж, изучай топическую диагностику, ассистируй, набирайся ума.
Прошло больше полутора месяцев, пока после очередного обхода профессор неожиданно не предложил:
– Подбери себе подходящего больного, с которым справишься. Только не зарывайся, я тебя знаю. Общая хирургия и нейрохирургия совсем не одно и то же. Операция должна быть на периферической нервной системе.
– Есть! – обрадовался он и уже через два дня показал Савкину выбранного пациента. Это был бывший сержант, немолодой, усатый, раненный в бедро в самом конце войны, прошедший через десяток госпиталей и больниц и, в конце концов, попавший для лечения в Академию. По характеру нарушений, данным электродиагностики у больного вокруг седалищного нерва образовались плотные рубцы. Вся клиника – свисающая, так называемая «конская» стопа, отсутствие рефлексов, подтверждала диагноз. Предстоящая операция не казалась ему особенно сложной. Следовало лишь освободить нерв от рубцов, сделать для него новое ложе и зашить рану. Операция называлась невролиз.
Она была назначена на понедельник, день, в который оперировал сам шеф. Этому факту поначалу он не придал значения. К десяти утра операционная заполнилась гостями. Пришли нейрохирурги многих больниц города понаблюдать за ювелирной техникой знаменитого Савкина, но, узнав, что оперировать будет молодой врач, разочарованно поворчали и разошлись. Несколько человек все же остались. Он не любил оперировать, когда за ним наблюдают десятки посторонних глаз. Это волновало, мешало спокойному течению операции. Будь его воля, обязательно сказал бы оставшимся:
– Что у вас, товарищи, других дел нет? Ей богу смотреть будет не на что.
Вначале все шло нормально. Он сделал большой разрез, раздвинул края мощных мышц и увидел в глубине раны толстый белесоватый шнур. Но стоило его немного освободить от спаек, как стало ясно, что нерв перебит полностью и одним невролизом здесь не обойтись. Операция сильно осложнялась. Теперь следовало иссечь рубцы, освободить поврежденные концы нерва и соединить их швами.
Он посмотрел на Савкина. Судя по всему, тот не обращал на него ни малейшего внимания и целиком был поглощен разговором с молодой хорошенькой ординаторшей. Только на днях она жаловалась на грубость шефа. Савкин спросил ее: «Сколько у вас, Ирочка, зубов?» – «У меня? – удивилась она и стала считать вполголоса: – Два зуба мудрости вырвали, два коренных тоже… Двадцать пять наверняка остались, Всеволод Семенович». – «То-то у вас, голубушка, язык вываливается. Болтаете слишком много на занятиях». Она была оскорблена. А сейчас, игриво улыбаясь, слушала шефа.
Он приказал ассистенту, молодому врачу с курсов усовершенствования, крепко держать концы нерва, а сам решительно рассек рубец. И вдруг, о ужас, дистальный конец нерва резко сократился, вырвался из рук ассистента со свистом исчез в толще мышц. Рану залило кровью. Он попробовал нащупать конец нерва, чтобы вывести его в рану, но нерва не было.
Он снова посмотрел на Савкина, ожидая если не помощи, то хотя бы совета, но в этот драматический момент профессор, ни слова не говоря, повернулся и вышел из операционной. «Куда он?» – тревожно мелькнуло в голове. Некоторое время он еще пытался найти конец нерва, расширил разрез, но тот исчез бесследно.
– Зоя, – обратился он к санитарке. – Попросите профессора в операционную.
Санитарка вышла и вскоре вернулась.
– Всеволода Семеновича в клинике нет, – сообщила она.
«Ах так! – с внезапной злостью подумал он. – Ушел. Ну и ладно».
Как сквозь туман услышал чей-то сочувственный голос:
– Ничего страшного, коллега. Расширьте разрез еще больше.
– Не мешайте, – огрызнулся он. – Разберемся сами.
Странно, но он успокоился. Запустил руку в глубину мышц и начал снова, но уже сосредоточенно, не торопясь, в определенном порядке искать нерв и вскоре нащупал его гладкий край.
– Держи крепко и не упускай больше, – сказал он ассистенту, сразу повеселев.
Уверенно стянул края перебитого нерва, оставив между ними небольшое расстояние, чтобы могли прорастать фибриллы, наложил два шва и зашил рану.
Уже потом он узнал, что шеф не уходил из клиники, сидел в кабинете, а санитарке сказал: «Что, испугался, запросил помощи? Скажи, что я вышел», О ходе операции его информировала ординаторша.
Бывший сержант стал понемногу поправляться, а он по совету Савкина сдал вступительные экзамены в адъюнктуру и вернулся на Курилы. Занятия в адъюнктуре должны были начаться лишь осенью будущего года.
«Ах, Всеволод Семенович, Всеволод Семенович», – с грустью подумал он и вздохнул…
Через десять дней у него день рождения. Исполнится сорок семь. Обычно этот день он отмечал на даче. Гости сидели в саду за большим грубо сколоченным столом, пили коньяк, хвалили все подряд – и именинника, и его жену, и стоявшую на столе еду, а потом через лесок шли на озеро купаться.
Как-то незаметно получилось, что с годами звать на дни рождения стало некого. Слишком мало времени оставалось для внеслужебного общения. Даже на проводимые раз в пять лет юбилеи выпуска он не ходил, хотя и слышал, что там бывало весело и интересно. Ему прислали доклад, сделанный на последней встрече. В разделе «Курсантский путь длиною в пять лет» были приведены забавные цифры. Он даже переписал их и листок положил в записную книжку. Сейчас он вытащил его и стал читать: «С августа 1940 года по 30 июня 1945 года прожито 1824 дня. Из них в стенах Алма матер – 1573, светлых дней отпуска – 40, на практике – 211. За время обучения покорено женских сердец – 1027. За пять лет: пройдено 100000 миль, помылись в бане – 250 раз, пробежали на зарядке – 8472 километра, отсидели на гауптвахте – 4756 дней…»
«Молодцы ребята, – засмеялся он, пряча листок. – На калькуляторе считали».
Из-за вечной спешки Анюта называла его «масса дел». Но не только отсутствие времени было причиной. Одна за другой отпадали его давние связи с бывшими однокурсниками. Одних он отвадил потому, что они хотели от него протекции как от главного хирурга флота, полагая, что давнее знакомство будет принято во внимание. Другие отсеялись сами, потому что знали, как он постоянно занят. Третьи опасались, что, стремясь к дружбе с ним, внушат мысль будто за нею кроются иные цели и расчеты. А новых настоящих друзей так и не приобрел.
Конечно, при желании всегда можно было найти кого пригласить. Анюта сразу перечислит десятка два возможных кандидатов. Но гости эти какие-то необязательные, с которыми его не связывает ни большая дружба, ни особая приязнь, а так себе – хорошие знакомые или сослуживцы. Два его заместителя по институту, в том числе всезнающий Шумаков, директор завода, с которым подружился в санатории, еще парочка Анютиных приятельниц с мужьями-учеными.
«А что если на этот раз собрать своих однокашников, живущих в Ленинграде? – внезапно подумал он и рассмеялся собственной мысли. – С Анютой обморок будет. Ведь в городе живет человек пятьдесят. Ну, сколько-то не придет – в отъезде, лето же сейчас, сезон отпусков. Но все равно соберется много. Без жен, конечно. Устроить мальчишник. Перед началом выстроить всех в две шеренги, учинить перекличку, как когда-то учинял Акопян, пусть каждый расскажет о себе. А потом обратится к ним с речью. Конечно, не на правах генерала и флагманского хирурга, а просто именинника и хозяина дома. «Дорогие ребята! – сказал бы он им. – Помните, как назвал нас начальник Академии на выпускном вечере? Он назвал нас «докторами флота». Где бы мы ни служили, в Ленинграде или Североморске, в океанских эскадрах или на атомных подводных лодках, в морских госпиталях или гражданских больницах – мы всегда остаемся докторами флота. За наш славный флот я и предлагаю первый тост!» Представляю какой поднимется после этого тоста шум. И обязательно попеть старые курсантские песни под гитару – «Софочку», «Джеймса Кеннеди» или «Турка»… Он повертелся в кресле, выбрав положение поудобнее, снова прикрыл глаза.
Нет, эта идея собрать всех однокашников-ленинградцев на день рождения у себя на даче явно не лишена смысла. Давно ни с кем он не разговаривал так откровенно, не чувствовал себя так легко и непринужденно, как недавно в Симферополе с Мишей. И с Алешей Сикорским он говорил откровенно, даже с Юркой Гуровичем, которого не видел бог знает сколько лет.
«Интересно, почему это так? – подумал он и сам попытался ответить на этот вопрос. – Эта дружба возникла тогда, когда мы были юны, чисты душой, одинаково бедны и равны. К ней не примешивалось ничто, что могло ее испортить – ни подхалимство, ни зависть, ни соображения карьеры. Уже потом, в процессе жизни, он часто из-за этого разочаровывался в новых друзьях. А юношеская дружба такой и осталась в памяти – чистой, ничем незамутненной…»
– Эх, Васька, Васька, обалдуй же ты, – пробормотал он, испытывая странное беспокойство от этих внезапно нахлынувших мыслей, от ощущения утраты того, что казалось вечным, неистребимым, само собой разумеющимся.
– Вы что-то сказали, Василий Прокофьевич? – спросил дремавший рядом Чистихин, открывая глаза.
– Да нет. Вспомнил кое-что. Когда летишь, о чем только не передумаешь.
В Москве прямо из Шереметьева он позвонил в Симферополь. Миши дома не было. К телефону подошел Антон, Он сообщил, что мама поправляется и уже понемногу гуляет по клинике.
– Привет родителям передай, – сказал Василий Прокофьевич, – Скажи, Васятка звонил. Вернулся из Австралии.
Он хотел сказать что-то еще, но подумал, что Антон неверно поймет его, и повесил трубку.








