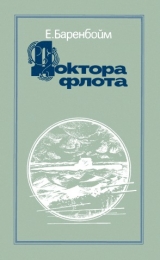
Текст книги "Доктора флота"
Автор книги: Евсей Баренбойм
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 40 страниц)
Вскоре мать вернулась, сняла жакет, сообщила:
– Сейчас прибежит. Услышала про тебя, все бросила, к зеркалу кинулась. – Она подошла к сыну, обняла его за шею, потеребила аккуратно зачесанные назад волнистые мягкие волосы, добавила: – Не пойму только, откуда у людей такое богатство? Весь буфет в хрустале, стены в картинах, люстры тряпьем обернуты. Будто и войны нету. Стояла на пороге, смотрела, открыв рот, как последняя дура.
– Значит жулики ловкие, воспользовались обстановкой, – философски заметил Пашка.
Он услышал стук в дверь, поднялся навстречу. Это была Помидора. За считанные минуты она успела нарядиться – на ней были туфли на высоком каблуке, синяя юбка выше колен, пышные рыжие волосы распущены поверх красного свитера.
– Привет, Помидора, – сказал Пашка.
– Здорово, Косой, – в тон ему ответила девушка.
Помидора выглядела хорошо. Восточную смуглость ее лица покрывал румянец. Она смотрела на мать, но чувствовала, что Пашка не сводит с нее глаз.
– На тебе и следов нету, что блокаду перенесла, – не удержалась мать.
– А что мне сделается? – засмеялась девушка. – Папа муку в Ленинград возил. Подкармливал нас с мамой.
– Вот оно как получается, – снова проговорила мать, и Пашка заметил, что за минувшие годы изменился ее голос – приобрел ворчливые, будто всегда недовольные интонации. – А мы с сестрой уже и гроб себе из досок сколотили. Один на двоих. Кто первый помрет, значит, в гробу похоронить, по-людски, а кто второй – того рядышком положить. Прихорон вроде. А потом в самые морозы порубили тот гроб на дрова, чтоб не стоял в комнате и не напоминал, проклятый, о смерти.
– Я и не знала, что вы в городе остались.
– В самые трудные месяцы здесь была. Силой директор заставил уехать. До последней минуты отказывалась. – Она вздохнула. – Чего уж теперь говорить об этом. То время прошло. Восемьсот граммов хлебушка получаю. А ты где работаешь?
– Машинисткой в воинской части.
Паша знал, что еще в «малине» нравился Помидоре, но она боялась Валентина и никогда не показывала этого. И ему она нравилась – девчонка яркая, веселая, заводная. Бывало, как начнет плясать цыганочку, искры из глаз сыплются и весь чердак ходуном ходит.
– Правильно Валентин подсказал тебе насчет учебы, – сказала Помидора. – Без него ни за что бы не пошел. Ведь правда?
– За это я ему благодарен, – сдержанно ответил Пашка.
Около трех часов дня пришла мамина сестра тетя Лида. Она была одинокая, бездетная. И сразу же сами собой начались воспоминания. Немыслимо трудная зима 1942 года. Она отпечаталась в памяти ленинградцев навечно. Все у них мерилось этой зимой – человеческое мужество, порядочность, любовь к Родине. Сейчас разговор только и шел об этой зиме. Кто из знакомых и соседей как себя вел, кто оказался мерзавцем, кто наоборот, человеком благородным, большой души. Паша рассказал об окружении Сталинграда. Внезапно начался обстрел. Мать и тетя Лида вслух считали разрывы снарядов. Они рвались довольно близко, по направлению к Варшавскому вокзалу. Иногда было слышно, как с треском ломаются крыши, с дребезгом падают на тротуары оконные стекла, как глухо ухают пробитые снарядами кирпичные стены.
– Четырнадцать, – сказала мать, после чего стало тихо.
Пашка щелкнул крышкой своих золотых часов: обстрел продолжался всего пятнадцать минут.
– Узнаешь? – спросил Паша у Помидоры, показывая часы.
– Сохранил. Какой молодец, – удивилась она. – Я бы уже сто раз потеряла.
Когда начало темнеть и Помидора собралась домой, Пашка пошел ее проводить. Они шли и вспоминали, казалось, такой бесконечно далекий довоенный 1940 год, их «малину», свою развеселую жизнь, японскую ширму с крадущимися тиграми, похищенную у известного профессора.
– Эти тигры мне еще долго снились, – задумчиво сказала Помидора.
Почти все их отпетые мальчишки были на фронте, многие погибли. Валентин окончил курсы интендантов, стал лейтенантом, но попросил перевести его в разведку. Почти год он храбро воевал, был ранен, снова вернулся на фронт. В середине сорок второго попал в плен, бежал, приведя с собой немецкого гауптмана с ценными документами, получил орден. А еще месяц спустя пьяным оскорбил старшего офицера, был разжалован, послан в штрафбат. Обо всем этом Помидора знала из его писем, которые он изредка писал ей.
– Недавно меня потянуло туда, в нашу бывшую «малину», – призналась Помидора. – Знаешь, как в прошлое тянет. И я пошла. Увидела обыкновенный грязный чердак, заваленный всякой дрянью – разбитыми раковинами, ржавыми кроватями, битой посудой. Лучше бы и не ходила.
Они подошли к ее дому, остановились. Снова начался обстрел. Теперь снаряды рвались где-то далеко.
– Зайдешь, Косой? – спросила Помидора. – У меня своя комната.
Даже после рассказа матери его поразило великолепие их квартиры. Одни картины в тяжелых золоченых рамах стоили баснословно дорого.
– Оригиналы, – с гордостью сказала Помидора, заметив его восхищенный взгляд. – А это настоящий мейсенский фарфор.
– Богатая ты невеста, Помидора, – сказал он. – На всю жизнь хватит.
– Факт, хватит. А ты не тушуйся, Косой, сватайся. Я подумаю.
Пашка вернулся домой около трех часов ночи, нарушив комендантский час. К счастью, его никто не заметил. Мать не спала, лежала на кушетке, ждала.
– Чего не спишь, мама?
– Ненавижу я этих клопов, Пашенька. На людском горе, слезах нажились. Передушила бы их собственными руками.
– Зато богатая, – рассмеялся Пашка. – Между прочим, в невесты себя предлагала.
– Да ты с ума сошел, сынок! И не думай об этом.
– Не простой это вопрос, мама. Совсем не простой. Давай спать.
Утром, по пути в экипаж, его застал очередной обстрел. Сначала снаряды рвались в стороне, потом над головой раздался знакомый, режущий душу свист, послышался грохот. Прохожий сообщил, что крупный снаряд попал в цех расположенного неподалеку завода. Пронеслись мимо одна за другой три санитарные машины, пожарная команда. Пашка тоже побежал туда. Он увидел огромную пробоину в стене здания, зарево пожара, услышал стоны. Среди рабочих цеха, а их составляли преимущественно женщины и подростки, было много раненых. Почти два часа Паша помогал освобождать их из-под обломков, носил к санитарным машинам. Только когда раненые были отправлены, он сел в трамвай и поехал на площадь Труда.
Пайля он застал в экипаже в полном отчаянии – половина его уникальной библиотеки сгорела. Правда, вторую половину сохранила у себя соседка по лестничной площадке Дина Анатольевна, дама, которую они с женой до войны терпеть не могли и за ядовитый нрав называли «сколопендра». Эта «сколопендра» буквально из огня вытаскивала его книги. На ней даже загорелась одежда.
– Благодарю вас, – растроганно сказал ей Пайль, роясь в аккуратно сложенных в углу ее комнаты книгах и обнаруживая среди них дорогие для себя экземпляры. – Вы сделали мне неоценимый подарок. – Он выбрался, наконец, к столу и церемонно поцеловал Дине Анатольевне руку. – А ведь, скажу откровенно, мы с женой не очень-то жаловали вас.
– Я знала это, – ответила Дина Анатольевна и вдруг огорошила его неожиданным признанием: – Просто я завидовала вашей жене, что ей попался такой муж, как вы.
«Оказывается, делала пакости потому что я ей нравился, – с удивлением подумал Пайль. – Кто их поймет, этих женщин».
Выслушав сетованья Пайля, Пашка заметил:
– Скажите еще спасибо, что половина сохранилась. Запросто могли бы сгореть все.
– В этом вы, конечно, правы, – согласился Пайль, чуть успокоившись. – Я нашел среди них много ценного…
Щекина расписали на эскадренный миноносец «Свирепый». Большую часть времени корабль стоял на рейде, обстреливая из орудий немецкие позиции. За полтора месяца в городе удалось побывать только пять раз. В один из свободных дней Пашка навестил своего старого знакомого, известного музыковеда Моссе. Тот встретил его с радостью. Долго расспрашивал о боях под Сталинградом, о жизни в Кирове, поил чаем, интересовался вокальными успехами.
– Я великолепно помню то удовольствие, которое вы доставили мне своим пением, – на правах гостеприимного хозяина говорил он. – Вам, милый юноша, нужно обязательно учиться. У вас не сильный, но удивительно приятного тембра голос. Я убежден, что хороший педагог сможет развить его.
– Зашлют на корабль в какую-нибудь глушь, – пожаловался Пашка и придал своему лицу скорбное выражение. – Где не только педагога, а даже пианино нет. Там поучишься.
Моссе молчал. Его бледное худое лицо с гривой седых волос стало задумчивым.
– Я напишу письмо начальнику Академии с просьбой оставить вас после окончания в Ленинграде. Как вы думаете, Павел, моя просьба будет иметь значение?
– Конечно. Большое спасибо, профессор, – прочувствованно сказал Пашка.
Он подумал, что просьбу такого известного человека, как Моссе, начальнику Академии трудно будет не уважить. Письмо Бакрадзе тоже хранится в чемодане и в нужный момент будет предъявлено. И все же этого может оказаться недостаточно.
Паша побывал в Академии, побродил по ее двору, поднялся и посмотрел на квартиру Черняевых. Она была цела.
В конце ноября вместе со всей группой он благополучно вернулся в Киров.
Глава 3
ТРИ МУШКЕТЕРА
Как не любить эти волны, повторы
Вечных мелодий: волна и гранит,
Как не любить этот город, который —
Тронутый ветром – как песня звенит.
С. Ботвинник
В четверг шестнадцатого октября военный трибунал Кировского гарнизона начал судебное разбирательство по делу младшего лейтенанта Сикорского.
Обстоятельства дела были столь очевидны, что следователь Чепраков, близорукий молодой человек с толстыми стеклами роговых очков, закончил следствие за одну неделю.
– На этих трибунальских делах можно совершенно потерять квалификацию, – жаловался он за обедом офицеру из отдела военных сообщений. – Редкое однообразие. Либо нарушители дисциплины, либо дезертиры. Элемент расследования сводится лишь к бюрократическому оформлению бумаг.
Когда Чепракову позвонил прокурор и сообщил, что поручает ему дело о попытке убийства, следователь обрадовался. Преступник – интеллигент, будущий врач. Ему уже рисовались подробности: ловкие запирательства, попытки увести следствие в сторону, тот психологический поединок двух сторон, который больше всего привлекал Чепракова в его профессии. Но после первого же допроса все оказалось предельно ясным. Состояние сильного душевного потрясения. Выстрел отчаяния. Неудачная попытка покончить с собой. Явка с повинной в милицию. Единственное, чего не мог понять следователь, это упорного нежелания подсудимого рассказывать подробности отношений с пострадавшей. «Я увидел ее с другим и выстрелил». Вот и весь сказ.
– Поймите, Сикорский, эти подробности необходимы в ваших собственных интересах, – убеждал подсудимого Чепраков. – Повторяю – необходимы. Неужели я выражаюсь непонятно?
– Абсолютно понятно, товарищ капитан, – сказал Алексей, и Чепракову показалось, что он поймал на себе его насмешливый взгляд. – Я уже обо всем написал и добавить мне нечего.
«Упрямый, черт, – с раздражением подумал следователь. Он почувствовал, что начинает злиться и потому поднялся и стал ходить по кабинету. – Играет, дурачок, в благородство. Эта особа поступила с ним гнуснейшим, чтоб не сказать больше, образом. А он о ней ни одного дурного слова».
– Вот что, Сикорский, – сердился следователь, останавливаясь возле сидящего на табурете Алексея. – Будем говорить начистоту. Я на вашей стороне. Или вы сообщите следствию, как все было и суд учтет ваши показания как смягчающие вину обстоятельства, или этих обстоятельств не будет, и вы получите полный срок.
– Я сказал все, – твердо повторил Алексей.
Свидетель Геннадий Якимов, брат потерпевшей, бывший военный летчик, находящийся в отпуске по болезни, подробно поведал, что произошло после выстрела. Как он выскочил в коридор, как мимо него один за другим пробежали Алексей Сикорский и Павел Щекин, как он увидел сестру, лежавшую на полу без чувств. Как наложил ей повязку и дал понюхать нашатырного спирта.
– Все у вас? – спросил Чепраков, собираясь протянуть свидетелю для подписи протокол.
И тогда Якимов неожиданно сказал:
– Во всем происшедшем считаю виновной свою сестру.
Дважды Чепраков ездил к потерпевшей Якимовой в больницу. Она встречала его в тугой косыночке и зеленой выцветшей пижаме, похудевшая, бледная, по-монашески строгая. И холостяк Чепраков при первом же свидании подумал, что она очень красива, женственна, и что можно еще понять того, кто стрелялся из-за такой девушки, но стрелять в нее – все равно, что покушаться на произведение искусства.
Потерпевшая чувствовала себя хорошо, лечащий врач сообщил, что надеется выписать пациентку на следующей неделе.
– Конечно, она сможет присутствовать на суде, – заверил он следователя.
Ни Паша Щекин, ни Миша Зайцев не были допрошены в качестве свидетелей, так как находились далеко на боевых флотах, и трибунал не счел нужным из-за этого откладывать судебное заседание. Обстоятельства и без того были ясны. Трофейный немецкий пистолет, из которого стрелял Алексей, Геннадий принес следователю и трибунал приобщил его к делу.
Зал был почти пуст. Сидели лишь блистающий золотом погон бритоголовый полковник Дмитриев, начальник курса майор Анохин, брат Лины Геннадий и еще две посторонние женщины. За время заседания Алексей ни разу не поднял головы, не посмотрел в зал. Так и сидел, опустив голову.
Тихим голосом, но четко и внятно, Лина поведала суду обстоятельства дела.
– Я должна была в тот день идти с Алексеем в загс. Так мы договорились накануне. Он ждал меня дома… – Она внезапно умолкла и председатель трибунала произнес:
– Продолжайте.
– Случилось так, что в этот день я встретила другого человека, с которым давно была знакома, и передумала.
– Что передумали? – не понял судья. – Вступать в брак с обвиняемым?
– Да, – сказала Лина. – Мне следовало, конечно, его предупредить. Но я этого не сделала.
– И из-за этого Сикорский стрелял в вас и в себя? Он увидел вас с тем, другим человеком?
– Да, – сказала Лина. – Он пришел и застал его у меня.
Трибунал приговорил Алексея Сикорского в двум годам лишения свободы. Но, принимая во внимание многие смягчающие обстоятельства, заменил наказание условным.
На следующий день Алексей узнал, что начальник Академии после доклада Дмитриева принял решение не отчислять его, а оставить слушателем для продолжения учебы. Он лег на койку в офицерском кубрике и проспал до вечера. После событий последних недель – счастливого ожидания свадьбы с Линой, выстрела в нее, безмерного отчаяния в милицейской камере, ожидания приговора, – наконец, наступила разрядка. Никто не мешал ему спать. В помещениях курса было непривычно тихо, пустынно.
В семь часов он проснулся и долго лежал, закинув руки за голову. Вставать не хотелось. Навязчиво лезли воспоминания: Лисий Нос, дежурство на дамбе, первая встреча с Линой и ее отцом, смутные очертания девичьей фигуры в толстом свитере на носу яхты, низкий голос, смех… О черт, опять Лина! Как отделаться от нее? Было же в Лисьем Носу еще что-то кроме нее? Тревоги каждую ночь, бесконечная муштра, марш-броски в деревню Дубки во главе с полковником Дмитриевым, а по вечерам его рассказы о парадах на Красной площади, в которых он участвовал. Когда Дмитриев вел речь о парадах, он воодушевлялся, рыжие брови его топорщились, глаза весело блестели. И весь парад выглядел так красочно и смачно, словно речь шла о вкусном обеде с выпивкой. Больше ни разу Алексею не удалось встретить человека, который бы так обожал строй и его атрибуты, как полковник Дмитриев…
Наконец Алексей встал, ополоснул в умывальнике заспанное лицо, мельком глянул в зеркало. И не узнал себя. Чужой человек смотрел на него – впалые щеки, окаймленные синевой глаза. Он даже свистнул от удивления, внимательно, с интересом рассматривая себя, потом оделся и вышел на улицу.
Было безветренно, тепло. У невысоких домов, на лавочках сидели старухи и лузгали семечки, провожая глазами редких прохожих. Лениво лаяли во дворах собаки.
По тихому переулку Алексей дошел до обрыва, нашел узкую, заросшую лопухами и репейником, тропинку и сбежал к реке. Вятка текла неторопливо, степенно. Посреди реки плыл плот. Несколько женщин-плотовщиц ужинали. Запахи жареной рыбы, печеной картошки растекались по берегу, щекотали ноздри. Алексей выбрал покрытую травой площадку у самой воды, сел на трухлявое, высушенное солнцем бревно, закурил.
Он подумал о том, что по существу должен радоваться – все закончилось на редкость благополучно: он на свободе, не разжалован, начальник Академии даже разрешил ему продолжать учебу. Но никакой радости на душе не было. Была лишь постоянная боль внутри, словно чья-то горячая рука все время сжимала сердце. И полное равнодушие к своей судьбе. Не разреши ему генерал Иванов заниматься, и он бы нисколечко не огорчился, поехал бы на фронт. Наверное, там бы скорее все притупилось, забылось…
Быстро стемнело. С реки потянуло влажным туманом, прохладой.
«Почему я стрелял в нее? – спрашивал себя Алексей. – Потому, что она любила не меня, а Пашку? Я ведь чувствовал это. Но так хотелось верить ей. – Туман забирался в рукава кителя, оседал на лице. Пора было уходить. – Через месяц с практики вернутся ребята. Смогу ли я нормально учиться с ними? Для этого прежде всего следует обрести душевный покой. А где его взять?»
Неделю спустя из маленького казахского городка Уил, впитавшего в свои узкие пыльные улочки сотни эвакуированных, неожиданно приехала мама.
Когда Алексей увидел ее возле проходной в длинном черном жакете и нелепой, еще довоенной шляпке с полями, он не поверил собственным глазам. Его мама, солдатская жена, скитавшаяся с мужем по всем окраинам страны, так и не приобрела житейской практичности. В детстве Алексею не верилось, что мама, прожив в городе несколько месяцев, совершенно не ориентировалась в его главных улицах и легко могла заблудиться. Это было так невероятно, что он считал – она притворяется. По выражению папы, мать постоянно «витала в облаках». Она обожала стихи и, уходя на базар, часто забывала взять с собой кошелек с деньгами, зато всегда носила в сумке томик стихов Блока или Брюсова.
И эта непрактичная, плохо ориентирующаяся женщина пустилась в длинное и тяжелое путешествие через всю страну! Поистине, для нее это был подвиг! Директор ни за что не хотел отпускать ее в начале учебного года. Страшно было оставлять на чужих людей дочь. Не было денег, а для такого путешествия их требовалось немало. Но мама преодолела все и приехала. До Актюбинска она добиралась по ковыльной степи на арбе, запряженной верблюдом!
Почтальон принес ей то ужасное письмо в первых числах октября. Она запомнила его наизусть. «Не удивляйтесь, получив письмо от незнакомого человека. С вашим сыном произошло большое несчастье. Он стрелял из пистолета в девушку и ранил ее. Его будут судить. Если можете – приезжайте».
Ее уже давно беспокоило отсутствие вестей от Алеши. Это письмо разъяснило все. Она отвела Зою к учительнице географии, продала последнюю драгоценность, подарок мужа, золотую брошь и отправилась в путь.
Алексей относился к матери с нежностью, как к большому ребенку. Она не была похожа на других женщин в гарнизонах, где они жили, – тоненькая, бледная, одетая во все черное, с вуалеткой на полях экстравагантной шляпки, мать вызывала множество всяких пересудов и сплетен. Но ее уважали ученики, коллеги признавали ее педагогический талант, а папа любил ее, всегда советовался с нею и называл странным прозвищем «гусык».
За дорогу ее черный жакет так запылился, что, когда Алексей обнял ее, его обдало облаком пыли. Мать засмеялась.
– Вдыхай, вдыхай, – сказала она Алексею. – Это наша едучая, всюду проникающая азиатская пыль.
Алексей поместил мать в комнатке, которую снял для себя с Линой. По требованию хозяйки было уплачено за три месяца вперед. Каждое утро мама жарила сыну на хлопковом масле его любимые деруны из картошки. Если не было дождя, они отправлялись гулять – сидели в пустом Халтуринском саду, спускались к реке и без конца разговаривали. За те несколько дней, что мать провела в Кирове, Алексей заметно отошел, стал спокойнее. Таково было всегда свойство общения с нею.
– Тебе бы, Маруся, в церкви грехи отпускать, – любил шутить отец. – Вид у тебя соответствующий, голос тоже. Покаешься и легче становится.
Накануне ее отъезда Алексей дежурил. Мать легла пораньше. Выключила свет. Вдруг услышала: кто-то тихонько стучал в окно. Набросила жакет, отворила калитку, вышла на улицу. Около дома стояла девушка. В темноте лица не разобрать, но видно, тоненькая, стройная. Почему-то сразу решила: «Она это, та самая».
– Здравствуйте, – тихо сказала девушка. – Вы Алешина мама?
– Да, – подтвердила она, чувствуя внезапно озноб во всем теле и плотнее кутаясь в жакет. – А вы кто?
Девушка стояла неподвижно, как изваяние, и молчала.
– Вы Лина?
– Да.
Теперь молчали обе женщины.
– Зачем вы пришли? – первой нарушила молчание мать.
– Не знаю. – И вдруг, торопясь, словно стремясь быстрее выговориться, начала: – Во всем виновата я. Только я одна. Знаю, что Алеша меня никогда не простит. И правильно сделает. Но все же не хочу, чтоб он думал обо мне слишком плохо.
Она умолкла, и мать поняла, что девушка плачет. Что-то похожее на жалость метнулось в душе матери, она сделала шаг вперед, чтобы обнять ее, успокоить, но тотчас, вспомнив Алешу и все то, что выпало на его долю, отшатнулась.
– Очень жаль, что вы слишком поздно поняли это, – помолчав, тихо сказала она. – Выслушайте меня, Лиина. Алеша очень много пережил. С большим трудом он обретает сейчас душевное равновесие. Пожалуйста, не мешайте ему. Я прошу вас об этом, как мать.
– Хорошо, – едва слышно проговорила Лина. – Я обещаю.
Некоторое время мать смотрела, как тает в темноте ее фигура. Затем, осененная внезапной догадкой, крикнула:
– А письмо в Уил вы мне написали?
Уже издалека, приглушенное расстоянием, донеслось едва слышно:
– Да.
Мать недолго постояла одна, отворила калитку и вошла в дом.
Из писем Миши Зайцева к себе.
10 января 1944 года.
В Кирове мы узнали, что наши надежды получить звания лейтенантов и продолжать учебу на четвертом и пятом курсах офицерами рухнули словно карточный домик. В Москве, видимо, решили, что нам следует быть курсантами до глубокой старости и украсить весь рукав от плеча до кисти серебряными уголками.
Когда в день возвращения в Киров я вновь увидел наши трехэтажные нары, дневального с неизменной дудкой на шее и своего младшего командира Митю Бескова, всегда наблюдавшего за мной с тайной надеждой лишить за какой-нибудь проступок увольнения, комок подступил к моему горлу и я едва не заплакал от разочарования. В тот же день наш курс послали за тридцать километров расчищать от снежных заносов железнодорожные пути. Правда, перед отъездом полковник Дмитриев вручил нам медали «За оборону Ленинграда». Это немного скрасило первые отрицательные эмоции. И я, и все ребята очень гордимся наградой. Вся страна знает, что пережил и продолжает переживать многострадальный и героический Ленинград. Теперь и мы признаны участниками его обороны.
Первый месяц занятий прошел незаметно. Вчера сдавали зачет по венерологии и вспоминали, как Федя Акопян, в обязанности которого входило наблюдение за поведением курсантов на занятиях, всем лекциям предпочитал лекции по венерическим болезням. Где он сейчас, наш доблестный командир роты? Возможно, тогда под Сталинградом у него была лишь минутная слабость и в дальнейшем он научился подавлять в себе страх? И все же мне кажется, что никто во время войны, а особенно офицер, не имеет права на такую слабость. Ведь она может стоить жизни десятков, а то и сотен людей. Другой вопрос – как воспитать в себе мужество, пренебрежение к опасности. Проблема эта совсем не проста.
11 января.
Наша любовь с Тосей напоминает Febris hectica[3]3
Гектическая лихорадка (лат.)
[Закрыть]. Она вспыхивает ярким пламенем, огнем нежности и я шлю ей письма едва ли не два раза в день, то внезапно замирает словно в зимней спячке. Тося пишет сейчас часто, но письма ее до крайности коротки и деловиты. Вот передо мной последнее: «Стоим в Сызрани и сдаем в госпитали раненых. Завтра снова на фронт. Новостей никаких. Спасибо за присланную фотографию. Ты на ней такой симпатичный, ну прямо пупсик. Я показывала ее всему поезду. Целую тебя. Антонина».
Сейчас у нас курация по терапии. Попался очень тяжелый печеночный больной, над которым я больше недели ломал голову. Решил, что либо опухоль, либо люэс. Сегодня больного осмотрел преподаватель.
– Можно интерпретировать этот случай и как люэс и как опухоль, – сказал он. – В любом случае я поставлю вам пятерку.
Хорошенькое дело. Что же у больного на самом деле? Все больше убеждаюсь, что, несмотря на тысячелетнюю историю, медицина многого не знает и не умеет. Описания десятков болезней в учебниках кончаются словами: «Prognosis pessima. Больные погибают. Лечение симптоматическое».
Мне это кажется странным. Многие гораздо более молодые науки достигли в своем развитии большего, чем медицина. На эту тему в нашем кубрике то и дело вспыхивают споры. Большинство считают причиной несовершенства медицины сложность человеческого организма. Конечно, во многом это так. Ничто не может сравниться по сложности с человеком. Но все же я уверен, что и внимания медицине во все времена уделялось в тысячу раз меньше, чем, например, военному делу или другим, так сказать «выгодным» отраслям науки. Смешно, но едва ли не всеми внутренними болезнями (сердца, желудка, почек, печени и т, д.) занимается у нас в стране пока один головной институт терапии!
12 января.
Вчера вечером долго хохотали перед отбоем, пока в кубрик не заглянул встревоженный дежурный по курсу. В нашей роте есть два курсанта – Генрих Глезер и Александр Розенберг. Пару месяцев назад в сводках Совинформбюро промелькнула фраза: «Пленный немецкий ефрейтор Генрих Глезер показал…» Ребята стали подшучивать над Генрихом, подсовывали ему газету, спрашивали с напускной серьезностью, не о нем ли написано в сводке. Больше всех веселился Сашка Розенберг. А во вчерашнем номере «Известий» появилась карикатура Бориса Ефимова: два украинских изменника родины несли плакат с надписью «Хай живе унзер батько Розенберг!» Теперь уже Генрих приставал к обескураженному Сашке, не он ли автор расовой теории и «Мифа XX века».
13 января.
Получил письмо от мамы. Папа лежит в госпитале в Саратове. У него что-то с сердцем. Подробно мама не пишет. Я отправил им большое письмо.
27 января.
Давно не писал себе писем. Было некогда да и не было особенных событий. Итак, ура! Ура! Ура! Наши сердца переполнены восторгом. Сегодня по радио сообщили, что войска Ленинградского и Волховского фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом в результате тяжелых боев разгромили вражескую группировку под Ленинградом и полностью освободили город от блокады! Эта новость никого не оставила равнодушным. Ведь по сути дела все мы ленинградцы. Такого салюта, как в честь этой победы, кажется, еще не было – двадцать четыре залпа из трехсот двадцати четырех орудий!
А чуть позже, вечером, по курсу, словно электрический ток, прошел слух – в марте мы возвращаемся в Ленинград. Называют даже точную дату – девятого марта. Все ходят радостно возбужденные, немного обалдевшие. Я пробовал заниматься, но не смог. На курсе занимается только один человек – Васятка Петров. Он и мне предложил уйти подальше от шума и читать нервные болезни. Но я с негодованием отверг его предложение.
28 января.
Первый семестр четвертого курса проходит удивительно быстро. Кажется только вчера, переполненные впечатлениями, вернулись с практики, а через месяц уже сдаем экзамены. Их три – дерматовенерология, нервные болезни и английский язык.
Вероятно, для того, чтобы умерить наши восторги и прочно поставить на земную твердь, ночью курс снова послали на расчистки железнодорожных путей от снега. Удивительно снежная нынче зима. Вот уже неделю, как метет, не переставая.
Вышел очередной номер популярного на курсе «Крокодила». Шутки в нем хотя и грубоватые, но ребятам нравятся и каждый номер ждут с нетерпением. Некоторые из этих шуток я запомнил:
«Курсант Максименко диагностировал у семилетнего ребенка гонорею. Это открытие, по мнению «Крокодила», можно объяснить либо ранним половым развитием ребенка, либо поздним умственным развитием курсанта».
«Курсант Петров, осматривая старую женщину, поинтересовался: «Как ваш кишечно-желудочный тракт?» На что бабка ответила: «Какой там в деревне тракт? Дорогу и ту по осени на подводе не проедешь».
Курсовой поэт Семен Ботвинник откликнулся на предстоящий в недалеком будущем отъезд из Кирова:
Дни пройдут, стает снег,
И весенней порой
Я покину навек
Киров мой областной.
На морях, на фронтах,
На глухом берегу
Грязь твоих мостовых
Я забыть не смогу.
Не забыть нежный взгляд,
Ни Халтуринский сад,
Ни морозной зимы,
Ни египетской тьмы…
15 марта.
Выдался свободный час, и я опишу нашу обратную дорогу в Ленинград. Давно известно, что хорошая дорога – это прежде всего еда и сон. Пока мы ехали по местам, где не было оккупации, на каждой остановке, а поезд шел медленно и стоял подолгу, по бешеным ценам, но можно было купить молоко и лепешки. Кто-то пустил слух, что впереди на станции Галич неслыханная дешевизна и изобилие. Все с нетерпением ждали эту манну, но Галич проехали без остановки. Утром больше часа простояли на станции Ефимовская. От нее до Ленинграда всего двести восемьдесят километров, но как мучительно долго и трудно преодолевали мы их после Ладожской эпопеи! В вагон заглянули женщины.
– Земляков-то нету? – спросили они моряков.
– Каких? – поинтересовался Пашка Щекин.
– Вологодских.
– Вологодских? – засмеялся Пашка. – Да таких сроду на флот не брали.
Женщины не обиделись.
– Не видишь, Марья, сосунки еще, молоко на губах не обсохло, – снисходительно сказала та, что моложе, и они пошли дальше.
Проехали Тихвин, Шлиссельбург. Везде видны жестокие следы войны – разрушенные и сожженные дома и вокзалы, землянки, изуродованные деревья, малолюдье. Изможденные женщины в старых ватниках и самодельных чунях, нищета, купить ничего съестного нельзя.
Васятка вез из Кирова резиновую подушку. Вытащил ее, сказал:
– Выпускаю кировский воздух.
Я знал, что ее подарила и надула Анька. В день отъезда она работала в ночную смену, даже не пришла на вокзал.
В Ленинград приехали под вечер. Когда вышли на площадь перед Московским вокзалом, я остановился и стал пристально смотреть на небо. В вечерних сумерках оно казалось темно-голубым, едва заметно мерцали первые звезды. Многие ребята последовали моему примеру. Для нас это было особенное, ленинградское небо. Кто-то прочитал Блока:








