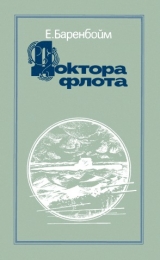
Текст книги "Доктора флота"
Автор книги: Евсей Баренбойм
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 40 страниц)
Глава 12
ДА ЗДРАВСТВУЕТ МЕДИЦИНА!
Доныне помним мы с любовью
Врачей орлиное гнездовье,
Где набирались мы ума…
С. Ботвинник
Весна 1943 года была радостной. За январь и февраль наши войска разгромили и уничтожили мощную фашистскую группировку под Сталинградом, освободили Северный Кавказ, продвинулись на запад на шестьсот километров. Войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились и прорвали блокаду Ленинграда. Кончилась, наконец, мучительная и длительная полоса неудач и отступлений. Теперь инициатива на всех фронтах принадлежала нам. От этих новостей кружилась голова, хотелось громко кричать «ура», петь, танцевать.
Газеты печатали телеграмму Рузвельта Сталину, в которой президент США выражал восхищение успехами Красной Армии.
Радиоточки в палатах не выключались. Все ждали новых победных сообщений. Едва в репродукторе раздавались знакомые позывные и звучал голос Левитана, немедленно бросались любые дела и все устремлялись туда, откуда было лучше слышно. Прекращались ужин, процедуры, даже врачебный обход.
Профессор Мызников сначала внимательно слушал очередное сообщение «В последний час», потом извлекал из кармана плоскую флягу, наливал в крышку не более наперстка водки, выпивал, удовлетворенно крякнув и приговаривая: «За наших солдатиков». Заметив чей-либо удивленный взгляд, объяснял:
– Сие и монаси приемлют.
Третий месяц в шестиместной комнате бывшей городской гостиницы, а теперь палате военно-морского госпиталя, на базе которого располагались многие клиники Академии, лежали старший сержант Щекин и рядовой Михаил Зайцев. О чем только они не переговорили за это время! Вспоминали детство, недавний фронт, Акопяна, годы учебы, строили планы на будущее.
– Я на фронте часто жалел, что не знал немецкого, – откровенничал Пашка. – Ругал себя, дурака. Чего я его так ненавидел в школе, этот язык? До сих пор не могу понять. Моим соседом по парте был Аркашка Фонгарт. Он немного заикался. Едва немка входила в класс, как спрашивала: «Фонгарт, ты забиль сделать уроки?» – «Да, забиль», – говорил он. – «И ты, Щекин, конечно забиль?» – «И я забиль», – отвечал я. Тогда она немедленно выставляла нас за дверь. Ни одного немецкого слова в школе я не запомнил.
– А я наоборот – очень любил немецкий, – говорил Миша. – Ведь это язык Шиллера, Гете, Гейне.
Лечила их маленькая, похожая на колобок, ординаторша. Она вплывала в палату медленно, как старинный парусный фрегат, шедший под всеми парусами в почти безветренную погоду. На приветствия больных обычно не отвечала. Если она пальпировала живот, всегда было больно. Заметив, что больной морщится, она цитировала неизвестного мудреца:
– Чтобы добыть влагу в пустыне, нужно глубоко бурить скважину. Иначе влаги не хватит тебе, спутнику и верблюду.
При появлении докторши Пашка шептал Мише:
– Опять пришла бурить, кикимора.
Однажды она появилась в палате вместе с военврачом третьего ранга Пучковой. Миша не поверил собственным глазам. Пучкова подошла к его койке, поздоровалась, передала от отца письмо и маленькую посылочку.
– Я приехала на курсы усовершенствования, – сообщила она Мише. – И буду работать по соседству с вами.
Пучкова назвала адрес. Это был госпиталь, где лечился брат Лины Якимовой Геннадий. Месяц назад в газетах был опубликован указ о присвоении лейтенанту Якимову звания Героя Советского Союза.
От успехов на фронтах и радостного настроения, от того, что его окружали приятные лица и близилась весна, раны у Миши заживали быстро. В середине февраля ему уже сняли гипс, и он ходил теперь с палочкой, стараясь не очень наступать на больную ногу.
Пашка тоже поправлялся. Его сложный внутрисуставной перелом заживал на редкость удачно. Профессор Мызников обследовал Пашку на обходе, просмотрел рентгенограммы, хлопнув по животу, сказал сопровождающим его помощникам.
– Яко на собаси.
Едва приехав в Киров, Паша послал Лине открытку: «Я ранен. Лежу в клинике Мызникова. Очень хочу видеть. Павел».
Лина прибежала сразу. Она остановилась в дверях палаты, в наброшенном на плечи коротком халате, ища глазами Пашу, и лежавший у окна Миша заметил, какое у нее взволнованное, радостное лицо, и подумал, каким было бы это лицо, будь на месте Паши Алексей.
Не стесняясь раненых, Лина наклонилась и поцеловала Пашу, а потом долго и молча смотрела на него. Бледное лицо Пашки, окаймленное длинными баками, с пробивающимися над верхней губой темными усиками, было очень красиво. Иногда, неловко повернувшись и задев раненую руку, он морщился от боли и страдальчески кривил губы. Тогда Лина наклонялась к нему и, жалея, гладила Пашу по мягким волнистым волосам.
В первый день она просидела возле Пашкиной кровати, пока сестра не попросила ее уйти. Пашка проводил Лину до выхода, долго не появлялся, курил в одиночестве. В палату он вернулся задумчивым, лег на кровать, закинул здоровую руку за голову, устремив взгляд на желтоватый, давно не беленный потолок. Потом сказал, не поворачиваясь:
– Папу ее академиком избрали. Неплохой был бы тесть. Ты как считаешь?
И, не дождавшись ответа, сладко зевнул, повернулся к стене.
Бывая в клинике, Лина всегда подходила к Мише, интересовалась здоровьем, угощала чем-нибудь вкусненьким. Но, странное дело, ни разу не спросила об Алексее. И Миша считал, что либо Сикорский часто пишет ей и она все о нем знает, либо Пашка единолично занял место в ее сердце.
Так прошло два месяца.
Теперь Лина в госпитале не бывала, зато Паша возвращался поздно, к самому отбою, всегда веселый, сытый, и Миша не сомневался, что он проводит время с ней. Рядом с Пашей лежал разведчик с обмороженными в тылу у немцев ступнями. Веселый и смешливый парень, чей громкий хохот чаще всех нарушал тишину палаты, он однажды спросил Пашку:
– Слышь, корешок, ты чего это у своей девахи ночевать не остаешься? Я вместо тебя такой муляж сделаю, ни одна медсестра не догадается. Действуй по фронтовому, решительно.
Пашка ответил:
– Не учи ученого. Тут дело значительно серьезнее. О жизни, друг, думать надо. Захотел бы – давно б остался.
«Значит, все у них решено и остановка только за ним самим, – подумал Миша. Он испытывал сейчас к Пашке чисто физическую брезгливость. – Мой долг товарища сообщить Алексею обо всем, чтобы он не питал никаких иллюзий».
Миша уже сел за письмо, но, подумав, отложил в сторону. Оно может сильно огорчить приятеля. По собственному опыту он знал, как плохо получать на фронте такие письма. Почти неделю он колебался – писать или не писать, но когда Пашка однажды не пришел ночевать, решился. «Как твой друг считаю долгом известить, – без обиняков написал он, – Лина вовсю встречается с Пашкой и между ними в разгаре самый настоящий роман».
После этого он не получил от Алексея ни одного письма.
Миновала половина апреля. От ярких лучей весеннего солнца подсохла знаменитая липучая вятская грязь, во многих домах открыли окна. В комнаты ворвались острые запахи распускающихся деревьев, птичий гомон, женский смех. В течение февраля-марта наши войска освободили города Краснодар, Курск, Ржев, Сумы. Правда, противник вновь перешел в наступление на юге, захватил Харьков и Белгород, но газеты сообщали, что наступление врага на рубеже Северного Донца прочно остановлено. Казалось, еще немного усилий и фашисты окончательно покатятся на запад, Германия капитулирует, и наступит долгожданный и счастливый день победы.
В выцветшей от многих стирок солдатской гимнастерке, которую украшали медаль «За отвагу» и золотая нашивка за тяжелое ранение, с новенькими погонами старшего сержанта Пашка опять много выступал на концертах самодеятельности. Теперь его и Лину почти всегда видели вместе. Лина недавно прочла «Тристана и Изольду» и все, что было написано о влюбленных, примеряла к себе и Паше. Он ей казался слишком практичным. Часто его практичность обижала ее. Если Паше нужно было уйти по делу, его ничто не могло удержать.
– Тристан ради Изольды бросил все, – говорила Лиина. – И дружбу короля, и королевство, ушел в лес, спал на ветвях и был счастлив. Любовь сильнее всего. А ты не хочешь ради меня опоздать на минутку в несчастную портняжную мастерскую.
Пашка смеялся, снимал с вешалки фуражку и уходил…
Значительную часть свободного времени Миша тратил на переписку. Он писал так много, будто предполагал, что его эпистолярное наследие когда-нибудь будет издано отдельной книгой. Отец сейчас был главным терапевтом Калининского фронта и находился где-то в районе Смоленска. Ему и матери Миша писал еженедельно. Он переписывался с Васяткой, посылал безответные треугольники Алексею Сикорскому. Его тревожило, что Алексей не отвечает ему. Жив ли он? Или убит? И не послужило ли его письмо о Лине тому косвенной причиной? Но главным адресатом стала Тося. Верная своему слову, она не написала ни строчки. Миша отправил ей почти десяток писем. Он долго думал над каждым письмом, стараясь, чтобы оно не было похожим на предыдущее, чтобы читая его, Тося улыбалась. Перед майскими праздниками он шутил в письме: «Чтобы лучше узнать вас, решил съездить на вашу родину в город Иваново и взять предпраздничные интервью у нескольких хорошо знавших вас людей. Они рассказали много интересного. Судите сами. Интервью первое. С дворником улицы, на которой прошло ваше солнечное детство, Агафьей Пантелеймоновной Кислициной.
– Что, спрашиваешь, помню об этой пигалице из нашего дому? Фулюган она была, – сказала она вполне уверенно. – Хуже других мальчишек. Завсегда лампочки била из рогатки. Бывало, только электрик на столб залезет и лампочку вкрутит, а вечером пешеходы себе лбы расшибают. И к вашему, значит, полу слабость имела. Неважно, что мала была, а все норовила с пацаном каким-нибудь у речки посидеть. Спрашиваешь, видела ли ее когда-нибудь с книгой? – Агафья Пантелеймоновна задумалась. – Не буду врать. С мячом видела, с арбузами, что с баржи утащила, видела, а с книгой – не припомню.
Второе интервью мне дала ваша бывший классный руководитель.
– Дивакова, говорите? Костюкову помню, Казакову помню, Симакову помню. А Дивакову, извините, не припоминаю. – Потом, порывшись в колодцах памяти, ударила себя по лбу, сказала: – Длинная такая девчонка, волосы пышные, вечно из-под берета торчали? Еще в пятом классе начала губы красить и нос пудрить?
– Она, – подтвердил я.
А учительница продолжала:
– Прекрасная, скажу вам, ученица была. По успеваемости занимала десятое место среди девочек класса. (Всего девочек было одиннадцать, так одну перевели в школу дефективных.) По моему предмету, правда, не успевала, – сказала она. – И по математике. И по русскому. И по химии. И по английскому.
Она хотела вспомнить что-то еще хорошее, но я вежливо прервал ее и отправился дальше…»
В свободное время Миша читал. Он читал много и неразборчиво: «Монт-Ориоль» Мопассана и «Записки Пиквикского клуба» Диккенса. Последнюю книгу он мог читать несчетное число раз и всякий раз хохотал над приключениями ее незадачливых героев. «Красное и черное» Стендаля и «Толкование сновидений» Фрейда. Фрейда ему дал почитать молодой преподаватель кафедры психиатрии со странной фамилией Хвост. Преподаватель попал в клинику с язвенным кровотечением. Вставать ему было запрещено и он целыми днями читал. Однажды они разговорились, и Миша узнал, что Хвост тайный поклонник Фрейда. После «Толкования сновидений» он дал прочитать Мише «Подсознательное и остроумное», «Психопатологию обыденной жизни».
– Ну как, понравилось? – словно мимоходом спросил он, когда Миша вернул ему бережно обернутые в толстую бумагу книги.
– Любопытно, – Миша умолк, подбирая нужные слова. – Для меня особенно, потому что я только слышал о нем, но никогда ничего не читал. Ведь, кажется, Гюго говорил: «Любовь и голод правят миром»? По сути это немного похоже.
– Бешелей высказывался еще более грубо; «Человек не ангел и не скотина». – Преподаватель оглянулся по сторонам – восторгаться Фрейдом по тем временам, да еще в разговоре с курсантом, было рискованно. – Видите ли, меня давно интересует его философия, Она непосредственно связана с психиатрией. Возможно, он несколько переоценивает сексуальность, но его метод психоанализа еще найдет свое применение в медицине. Попытаться вскрыть забытые переживания, расслабиться и вспомнить все, что лезет в голову. По-моему, это очень интересно.
На следующее утро у преподавателя возобновилось сильное внутреннее кровотечение. Его перевезли в операционную, и Миша его больше не видел.
После майских праздников начальник Академии пригласил к себе бывших курсантов-фронтовиков, закончивших и заканчивающих лечение в академических клиниках. Собралось двадцать человек. Некоторые пришли на костылях или опираясь на палочки. У других были на перевязи руки. Расселись на стульях вдоль стен. Только Пашка, известный в городе солист, нахально уселся на широкий; обитый черной кожей диван, несколько раз подпрыгнул на мягких пружинах, сказал:
– Хорошо быть начальником. Верно, братцы?
Вскоре в кабинет вошли начальник Академии генерал-майор Иванов и сверкающий золотом погон бритоголовый с рыжими бровями его заместитель по строевой части полковник Дмитриев. Комиссара Академии не было. Он болел и лежал в клинике.
– Перед вашей отправкой на фронт я обещал, что Академия с радостью примет в свои ряды бывших питомцев, проливших кровь за нашу победу, – безо всякого вступления начал генерал Иванов, стоя посреди кабинета.
Миша не видел его меньше года, но даже за этот срок начальник очень изменился – его круглое лицо еще больше оплыло, а виски побелели. «Наверное, нелегко командовать Академией, когда всего не хватает, преподавателей посылают на фронт, а учить нужно быстро и хорошо», – подумал Миша, а генерал продолжал:
– Те из вас, кто захочет и кому позволит состояние здоровья, будут зачислены слушателями третьего курса Академии и с первого июля смогут приступить к занятиям.
По рядам сидевших вдоль стен бывших курсантов прошло радостное оживление. Не пожелали продолжать учебу только трое.
– Будем учиться, когда война кончится, – сказал за них главстаршина Антошин, участник войны с белофиннами.
– Разрешите вопрос, товарищ генерал, – сказал Миша, вставая, – Многие наши товарищи лежат в других госпиталях или воюют. Могут ли они быть зачислены на учебу?
Начальник Академии задумался, прошел на свое место за столом, сел в кресло.
– Флот остро нуждается в военно-морских врачах, – негромко, словно для себя, сказал он. – Наша задача скорее подготовить их. Напишите вашим товарищам, пусть пришлют запрос на мое имя. Я вызову их. Только быстрее. Опоздавшие более чем на два месяца зачислены не будут.
В тот же день Миша сообщил о решении начальника Академии Алексею Сикорскому и Васятке Петрову.
Мать Тоси Диваковой была потомственная ткачиха, отец гравер. Их маленький домик стоял на самой окраине Иванова на берегу Талки. Сбежишь с обрыва – и сразу лезь в прохладную воду. Тут же и стирали, стоя на шатких скользких мостках, и брали воду для дома. Семья была большая – пять дочерей, из них две замужние, и двое младших мальчишек-погодков.
Летом 1940 года Тося окончила фельдшерскую школу и вместе с подругой получила назначение в село Сускены Оргеевского уезда в Бессарабии. Только две недели назад Бессарабия была возвращена Румынией Советскому Союзу и новая власть на местах делала первые шаги. Заведующий Оргеевским уездным отделом здравоохранения Адамчук, молодой кривоногий мужчина со стриженной под машинку круглой головой, обрадовался им, словно родным, усадил на лавку против себя, сказал Тосе и ее подруге Лорке:
– Направляю вас, девчата, в бывший мужской монастырь. Недалеко это. Верст двадцать. Создаем там туберкулезную больницу.
Монастырь был старый, обнесенный толстыми стенами, с железными коваными воротами. Настоятель отец Авраам, к которому их привел сторож, долго изучающе смотрел на девушек в красных косынках, на привезенную ими бумагу с большой печатью, пожевал старческими губами, сказал неожиданно внятно и громко:
– Делайте что приказано. Ваша власть. Братья мешать не будут.
Тося и Лорка разместились в бывшей келье, мрачной и холодной, как кладбищенский склеп. Долго не могли уснуть, вздрагивали от каждого шороха. А утром проснулись от заунывного пения. В церкви против их окна служили заутреню.
Только три дня девушки выдержали монастырскую жизнь и вернулись к Адамчуку.
– Не будем там работать, – решительно заявила Тося, с шумом плюхаясь на знакомую лавку. Отец у нее был тихий, молчаливый. Решительность и бойкость она унаследовала от матери. – Что хотите с нами делайте, а туда больше не поедем.
– Так, испугались значит, – сказал Адамчук и почесал свою стриженую голову. Он долго шумел, кричал, потом, успокоившись, убеждал девушек, что их комсомольский долг ехать туда, где трудно.
Девушки переночевали в уезде прямо на столах, а утром Адамчук отправил их организовывать больницу в помещичьем особняке в селе Мошкауце. В первый же день Тося с Лоркой вымыли все семь комнат, перетаскали ведер сто воды, расставили и перестелили кровати. Устали так, что едва хватило сил добраться до коек. Только уснули – прибежали двое. Тараторят быстро не по-русски, торопят, за руки хватают. С трудом поняли, что муж в селе задушил жену, оставил четверых сирот. Тося набросила юбку, жакет и побежала вслед за провожатыми по темным улицам села. Женщина лежала на кровати без сознания. На шее четко виднелись следы пальцев. Губы были синие, пульс едва прощупывался, Тося быстро расстегнула на женщине лифчик, распахнула настежь окна, начала делать искусственное дыхание. Минут через пять женщина пришла в себя, открыла глаза. Вместе с подошедшей Лоркой Тося просидела у ее постели весь остаток ночи. А когда утром подруги выглянули во двор, увидели подарки – вино, сыр, соленый арбуз. Знали твердо: комсомольцам ничего брать нельзя, но подошел сельский учитель, немолодой, сутулый, с длинными волосами, посоветовал:
– Не возьмете подарков – село не признает.
– А возьмем – комсомольцы накажут, – возразила Тося.
Хорошо, Лорка сообразила:
– Оприходуем на счет больницы.
Недели через две приехал Адамчук. Долго ходил по чистым палатам, рассматривал шкафчик с медикаментами, половики на полу, цветы на тумбочках, потом скрутил на крыльце толстую цигарку, закурил, сказал торжественно:
– Молодцы, девчата. Назначаю тебя, Дивакова, заместо себя. Сам иду в область, на повышение. А Лариса здесь останется за главную.
– Меня – заведующей в уезд? – испуганно спросила Тося. При всей полной неожиданностей жизни в недавно освобожденной Бессарабии такого назначения она никак не ожидала. – Вы что, спятили, товарищ Адамчук? Какой из меня заведующий?
– Поаккуратней в выражениях, Дивакова, – обиделся Адамчук и продолжал: – Ничего, справишься. Больше некому. Где надо – поможем, подскажем, а характер у тебя есть.
Девчонка она была действительно боевая, быстрая, не боялась никакой работы. Выдали ей тонконогого орловского жеребца по кличке Портрет, на нем и моталась по уезду – организовывала больницы, роддом, приюты, национализировала аптеки, доставала в городе лекарства, литературу. Вскоре ее хорошо узнали жители многих сел, здоровались на улицах, бабы бегали к ней за советом.
– Тоська приехала! – шел по селу слух.
И всегда вокруг собирались люди. Кто с просьбой, кто с жалобой. Слушая, как просто и убедительно она разговаривает с людьми, как соглашаются они с ее суждениями, советами, трудно было поверить, что только три дня назад ей исполнилось семнадцать лет. Год работы в Оргеевском уезде заметно изменил ее, сделал еще более решительной, даже властной. Если кто-то не слушал ее, она сердилась. Зрачки сужались, она могла повысить голос, сказать резкое слово, а то и, пришпорив своего Портрета, умчаться, оставив собеседника в полной растерянности. Работавшие в уезде два врача, три фельдшера и провизор – все мужчины – побаивались ее и за глаза называли «драк ин фустэ». По-русски это означало «черт в юбке». Иногда от нее доставалось и Адамчуку. Особенно, если он не давал уезду необходимых лекарств, вакцин, дезинфицирующих средств. Вздыхая, он уступал ее напору. Морщась от крика, говорил:
– Ладно, ладно, добавлю. – И, закурив, чуть успокоившись, удивлялся: – Ну и характер, Дивакова, у тебя стал сволочной.
– Сами назначили, – смеялась Тося. – На такой работе иначе нельзя. Не пошумишь – ничего не добьешься.
Двадцать второго июня ее вызвали нарочным в уком. Там она узнала, что началась война. Тося не сомневалась – могучая Красная Армия быстро отбросит врага обратно. Когда Адамчук передал ей приказ эвакуироваться, Тося рассердилась, назвала его паникером, но час спустя, выяснив, что Оргеев занят немцами, быстро собралась, заехала за Лоркой и в группе из двадцати человек во главе, с Адамчуком пошла к Днестру. Через реку на лодке переправились благополучно и в толпе беженцев под непрерывными бомбежками, обстрелами с воздуха двинулись на Котовск. Это была жуткая эвакуация, о которой и сейчас страшно вспоминать. Только в начале июля девушки добрались до Иванова, и на рассвете Тося постучала в дверь родного дома. Грязная, простуженная, в изорванной одежде, она была неузнаваема. Мать приняла ее за нищенку.
– Подожди, милая, – сказала она. – Сейчас вынесу чем богата.
– Это ж я, мама! – проговорила Тося.
– Дочечка! – Мать уткнулась ей в плечо. Так и стояли обе на крыльце и плакали.
Через неделю Тося отправилась на призывной пункт. Ей еще снились по ночам отвратительное, все нарастающее жужжание пикирующих бомбардировщиков, взрывы бомб, стоны раненых, плач женщин. Она вздрагивала во сне и стонала, но дома сидеть больше не могла. Ее направили медицинской сестрой санитарного поезда.
Санитарный поезд состоял из семнадцати классных вагонов и принимал семьсот раненых. Поезд нигде подолгу не задерживался. Он подкатывал к перрону тылового города, на розвальни или подводы выгружали раненых, ровно столько, сколько в госпиталях было мест, и состав двигался дальше. На узловых станциях пустой эшелон проходил санобработку, получали белье и лекарства и снова отправлялись на фронт. Дел в поезде всегда было невпроворот. Случайное знакомство с Мишей не запомнилось, не потревожило души. А он регулярно писал ей. Урывками, на ходу, прочитывала очередное письмо, на миг улыбалась Мишиным шуткам, засовывала в тумбочку и тут же забывала. Но, странное дело, постепенно привыкла получать письма, как привыкают получать газету или телеграмму ко дню рождения. Письма этого губастенького паренька нравились ей. Еще ни от кого она не получала таких остроумных писем. Каждое следующее не было похоже на предыдущее. Однажды, когда их поезд стоял на какой-то тыловой станции и девчонки откровенно скучали, томились, ходили по вагонам сонные, Тося вспомнила про Мишины письма, вытащила их из тумбочки и начала читать вслух. Сначала слушательниц было только трое, потом набилось целое купе. Девочки слушали, смеялись, восхищались Мишиным остроумием. Но несмотря на такой успех писем, Тося по-прежнему не отвечала на них. Ей и в голову не приходило, что Мише может, в конце концов, надоесть отправлять безответные послания. Она была самоуверенна, знала, что нравится мужчинам, и не сомневалась, что Миша и дальше будет писать.
Последнее письмо от Миши пришло двадцать седьмого июля. Тося запомнила эту дату. В то воскресенье она четырнадцать часов подряд не выходила из операционной. Прямо на столе у них умерли двое раненых. С начальником поезда хирургом Софьей Ильиничной от усталости сделался обморок. Тося тоже обессилела до предела, едва держалась на ногах. Когда она, наконец, вошла к себе в купе и увидела на столике треугольник, надписанный крупным Мишиным почерком, еще подумала: «Прочту потом», но чисто машинально развернула его. Впервые Миша обращался к ней на «ты». То, что он называл ее на «вы», казалось ей диким, смешным. Она не привыкла к таким церемониям, считала их пережитком прошлого. Когда старый социал-демократ провизор из Мошкауце, у которого она решила не национализировать аптеку, хотел поцеловать ей руку, она спрятала ее за спину.
– Вот еще, – проговорила она. – Новости какие. Я же комсомолка.
– Вы женщина, – театрально воскликнул старый аптекарь. – И к тому же прекрасная.
«Получил, наконец, твое письмо, – писал Миша. – Твое чудесное, долгожданное письмо, которое я уже перечитал по крайней мере сто раз. Я знал, что обязательно получу его, и рад, что интуиция не обманула меня. Вот сейчас выдалась свободная минутка, я примостился в уголке, где никто не мешает и не лезет с расспросами, и снова осторожно вытащил его из кармана. Листки письма шуршат в моих пальцах. Я расправляю их и опять читаю. Многие фразы я уже знаю наизусть. Но все равно повторяю их снова и снова, испытывая необыкновенное наслаждение, будто слушаю чудесную музыку. Временами мне кажется, что я вижу и слышу тебя, даже могу осторожно коснуться твоих волос, плеча, щеки, и тогда по моей руке пробегает электрический ток. Как замечательно, что ты написала мне. Спасибо. Я никогда этого не забуду… Но что это за громкий непонятный шум? Я открываю глаза и вижу, что ребята уронили со стола алюминиевую кружку. Оказывается, я спал и твое письмо в моих руках было лишь сном… Но все равно, большое спасибо тебе за него. Миша».
Может быть, потому, что она так устала в тот день, что нервы были напряжены до предела, Тося заплакала и долго лежала под одеялом, держа письмо в руке. Впервые она думала о Мише с нежностью.
В конце июля 1943 года, когда занятия на третьем курсе шли полным ходом, приехал с фронта Васятка. Едва ли не в тот же день о его возвращении узнала вся Академия. Васятка всегда любил прихвастнуть, касалось ли это его прошлых охотничьих успехов или побед амурных. И то, и другое проконтролировать было трудно, и товарищи верили Васятке на слово. Лишь изредка для смеха кто-нибудь спрашивал:
– Скажи, Василий, а львов и тигров убивал?
– Нет у нас такого зверя, – серьезно отвечал Вася, не чувствуя подвоха. – Медведь – и то редкость.
– Значит, бил только беззащитных тварей? Зайчишек, белочек? Нехороший ты человек, Петров. Как считаете, ребята – хороший он?
– Шибко плохой, гадкий человек, – хором отвечали курсанты.
Васятка обиженно отходил в сторону. С чувством юмора у Петрова было явно не в порядке.
Но сейчас для хвастовства были вполне законные основания. В личной книжке снайпера Василия Петрова значилось семьдесят восемь убитых гитлеровцев. Все желающие, а их оказалось немало, могли полистать книжку и убедиться в подлинности записанных в ней цифр. Среди прочих, сраженных его рукой, значился один полковник и семеро младших офицеров. Заодно с книжкой Вася показывал две изрядно захватанные заметки о себе: одну в дивизионной газете, другую – в армейской. В них было приведено и его выступление на всеармейском слете снайперов. Оно заканчивалось словами: «Пока глаза видят врага, а рука твердо держит винтовку, обещаю уничтожать гитлеровцев, как бешеных собак». Только Мише он признался, что выступление для него написал парторг батальона. На груди Васятки красовались орден Красной Звезды и медаль «За отвагу» и было очевидно, что из всех уцелевших и вернувшихся на учебу курсантов Академии он был самым знаменитым. Несколько дней спустя в академической газете «Военно-морской врач» появилась статья. Она называлась: «Наш воспитанник В. Петров множит боевую славу Академии». Рядом был и портрет Васятки, и фотография развернутой снайперской книжки с цифрой 78.
Первую неделю он ходил надутый, как пузырь. О себе говорил не иначе, как «мы – фронтовики» и «у нас на фронте», но, надо отдать справедливость, быстро насладился славой, затих и целиком погрузился в занятия.
С фронта вернулось в Академию только тридцать шесть человек. Еще двадцать приехали позднее, они были приняты на младшие курсы. После окончания войны стало известно, что из двухсот курсантов, посланных на Сталинградский фронт, шестьдесят два были убиты и тяжело ранены. С остальными потеряли связь. В огромной многомиллионной армии, растянувшейся от Баренцева до Черного моря, затеряться было легче, чем игле в стоге сена.
Из фронтовиков создали два взвода. Одним командовал старший сержант Паша Щекин. В его взвод входили Миша Зайцев, Васятка, Егор Лобанов и Алик Грачев. Алик Грачев до фронта был во второй роте, и Миша с Васяткой плохо знали его. Сейчас Миша с ним дружит. Некрасивый, с длинной шеей и крупным носом, Алик чем-то притягивал ребят. Вторым взводом сталинградцев командовал сержант Витя Затоцкий. Он и раньше был крепыш, и на уроках анатомии Смирнов заставлял его раздеваться и демонстрировать мускулатуру. Теперь же он делал стойку на одной руке и легко крутил сальто. Фронт явно пошел ему на пользу.
После запасного полка, Сталинградского фронта, лечения в госпиталях, после всего того, что пришлось пережить за этот длинный и трудный год, первые лекции воспринимались по-новому: особенно остро, свежо, как откровение, почти как открытие.
– Я понял теперь, что означает часто встречающаяся в книгах фраза: «Он изменился», – рассуждал вслух Алик Грачев, обращаясь к Мише. – Совершенно иное отношение к оценке прошлых событий. Возьми лекции. Раньше едва ли не половина из нас спала на них. А теперь, я специально наблюдал, никто из сталинградцев не только не спит, но даже не читает посторонних книг.
Лекции на третьем курсе читало созвездие крупнейших профессоров – Мызников, Черняев, Савкин, Лазарев, Пайль.
Соломон Соломонович Пайль не входил, а вбегал в аудиторию, еще с порога увлекая слушателей своим рассказом:
– Дождливым летом 1936 года в прозекторскую Обуховской больницы, где я работал, привезли труп молодой женщины. Женщина была прекрасна. Я любовался ею точно картиной. Длинные, легкие, как пух, волосы, точеная шея, грудь. Мое внимание привлек необычный, показавшийся странным, цвет ее кожи…
Курсанты слушали его с неослабевающим вниманием. Он был великолепный лектор, не лишенный к тому же и актерского дарования. Два часа лекции пробегали незаметно. Пайль рассказывал о патологических процессах, которые происходят внутри человека при развитии болезни. В его изложении обычно наспех прочитываемый в учебниках раздел патогенеза и патологической анатомии выглядел захватывающе интересно. Больной еще ни о чем не догадывается. Зачатки болезни еще не видит врач, но она развивается.
– Великий Лериш писал: «Болезнь – это драма в двух актах, из которых первый разыгрывается в угрюмой тишине наших тканей при погашенных огнях. Когда появляется боль или другие неприятные явления, это почти всегда уже второй акт».
Развенчивать авторитеты, не оставлять камня на камне от чужих теорий, точек зрения было излюбленным делом Пайля. Чем большим был авторитет, тем с большей страстностью он обрушивался на него.








