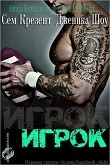Текст книги "Собрание сочинений. Т.23. Из сборника «Новые сказки Нинон». Рассказы и очерки разных лет. Наследники Рабурдена"
Автор книги: Эмиль Золя
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 44 страниц)
– Говори! Что случилось? – вскричал я.
Она тяжело вздохнула, опустила руки и наконец выдавила из себя:
– Хозяйка…
Но я уже не слушал ее.
– Скорей, скорей, дядюшка!.. Ах! Моя Бабэ…
И я помчался по тропинке, рискуя свернуть себе шею. Сборщики винограда, выпрямившись, смотрели, как я бегу, и улыбались. Дядюшка Лазар, который не мог поспеть за мною, растерянно размахивал тростью.
– Стой, Жан! Черт возьми, я не хочу прибежать последним.
Но я не слушал дядюшку, я мчался все быстрей.
Я подбежал к ферме, запыхавшись, полный страха и надежды. Мигом поднявшись по лестнице, я очутился у комнаты Бабэ и стал стучать кулаком в дверь; потеряв голову, я плакал и смеялся. Акушерка, приоткрыв дверь, сердито сказала мне, чтобы я не шумел. Я был подавлен и пристыжен.
– Я не пущу вас, – продолжала она. – Подождите во дворе.
И, видя, что я не двинулся с места, она добавила:
– Все идет хорошо. Я вас позову.
Дверь захлопнулась. Я остался стоять перед ней, не решаясь спуститься вниз. Я слышал, как слабо стонала Бабэ. Но вдруг она так отчаянно закричала, что мне показалось, будто меня пуля ударила в грудь. Мне безумно захотелось высадить дверь плечом. Чтобы не поддаться искушению, я заткнул уши и опрометью бросился вниз по лестнице.
Во дворе я увидел дядюшку Лазара, он только что подошел и совсем запыхался. Бедняге пришлось присесть на закраину колодца.
– Ну как, – спросил он, – где ребенок?
– Я ничего не знаю, меня выставили за дверь. Бабэ мучается и плачет.
Мы посмотрели друг на друга, не смея выговорить ни слова. Мы взволнованно вслушивались в тишину, не спускали глаз с окошка Бабэ, стараясь что-то разглядеть сквозь белую занавеску. Дядюшка, весь дрожа, сидел неподвижно, опершись руками на трость, а я возбужденно шагал по двору. Время от времени мы обменивались тревожной улыбкой.
Во двор одна за другой въезжали повозки с виноградом. Корзины ставили вдоль каменной стены, и рабочие голыми ногами давили виноград в деревянных колодах. Кричали мулы, ругались возчики, и было слышно глухое бульканье сливаемого в бродильный чан вина. Терпкий запах разливался в теплом воздухе.
Я по-прежнему мерил шагами двор, как бы опьяненный этими запахами. Голова у меня раскалывалась; глядя, как виноград истекает кровью, я думал о Бабэ. Я говорил себе с какой-то животной радостью, что мой ребенок появится на свет во время сбора винограда, среди благоухания молодого вина.
Сгорая от нетерпения, я вновь поднялся наверх. На этот раз я не осмелился постучать, я прижался ухом к двери и услышал тихие и жалобные стоны Бабэ. У меня зашлось сердце, и я стал проклинать эти страдания. Дядюшка Лазар, который незаметно последовал за мною, заставил меня вернуться во двор. Он хотел меня отвлечь и стал рассуждать о том, какое у нас будет превосходное вино, но он и сам не слышал себя. Мы поминутно замолкали, с беспокойством прислушиваясь к протяжным стонам Бабэ.
Постепенно стоны начали затихать, они уже напоминали всхлипывания ребенка, который засыпает, плача. Потом наступила полная тишина. Вскоре эта тишина стала для меня непереносимой. Теперь, когда Бабэ перестала стонать, мне казалось, что дом опустел. Я хотел было снова подняться наверх, но окно бесшумно отворилось, из него высунулась акушерка и сказала, поманив меня:
– Идите сюда.
Я медленно поднимался по ступенькам, с каждым шагом испытывая все большую радость. Дядюшка Лазар уже стучался в дверь, а я был еще на середине лестницы, ощущая странное удовольствие, оттого что оттягиваю момент встречи с Бабэ.
На пороге я остановился, сердце отчаянно колотилось. Дядюшка склонился над колыбелью. Бабэ, белая как полотно, лежала с закрытыми глазами и, казалось, спала. Забыв о ребенке, я подошел к ней и охватил ладонями ее голову. Слезы еще не высохли на ее щеках, губы дрожали и как-то жалостно улыбались. Она медленно открыла глаза. Она не сказала ни слова, но мне послышалось: «Я очень страдала, милый Жан, но я так была этим счастлива! Ты жил во мне».
Тогда я наклонился к Бабэ, поцеловал в глаза и осушил ее слезы. Она тихо засмеялась в каком-то сладостном изнеможении. Она совсем обессилела. Медленно высвободив руки из-под простыни, она обняла меня за шею и сказала на ухо слабым, но торжествующим голосом:
– А у нас мальчик. – Это были ее первые слова после пережитого потрясения. – Я была уверена, что это будет мальчик, – продолжала она, – я видела его во сне каждую ночь… Положи его ко мне.
Повернувшись к колыбели, я увидел, что дядюшка Лазар ссорится с акушеркой. Она ни за что не позволяла дядюшке взять на руки ребенка, а тому хотелось его побаюкать.
Тут я взглянул на ребенка, о котором совсем позабыл. Он был весь розовый. Бабэ уверяла, что он похож на меня; акушерка находила, что у него глаза матери; а я ничего не замечал, я был взволнован до слез; я поцеловал ребенка, как целуют хлеб, и мне показалось, что я целую Бабэ.
Я положил малыша к матери. Он непрерывно кричал, но нам это показалось небесной музыкой. Я уселся на край кровати, дядюшка расположился в глубоком кресле, а Бабэ, тихая, утомленная, лежала укрытая до подбородка, смотрела на нас и улыбалась. Окно было распахнуто настежь. Вместе с теплым воздухом осеннего пополудня в комнату вливался запах винограда. Было слышно, как топочут рабочие, давившие виноград, до нас доносился скрип повозок, щелканье кнута; временами в комнату влетали слова задорной песенки, которую пела работница, проходившая по двору. Все эти звуки как бы таяли в умиротворенной тишине комнаты, которую еще недавно наполняла своими стонами Бабэ. В проеме окна вырисовывался живописный пейзаж: бескрайнее небо и ширь полей. Нам открывалась во всю длину дубовая аллея; Дюранса, словно атласная лента, белела среди золотой и пурпурной листвы. А над всем этим простиралось небо, бледно-голубое и розовое, бездонное в своей глубине.
И под сенью спокойного неба, вдыхая аромат вина, бродившего в чанах, радуясь урожаю и появлению на свет нового существа, мы все трое – Бабэ, дядюшка Лазар и я – тихо разговаривали, по временам поглядывая на новорожденного.
– Дядюшка, какое имя вы дадите ребенку? – спросила Бабэ.
– Мать Жана звали Жаклиной, – ответил дядюшка, – я назову его Жаком.
– Жак, Жак… – повторила Бабэ. – Это красивое имя. А скажите, кем он у нас будет: священником или солдатом, образованным господином или крестьянином?
Я рассмеялся:
– Мы еще успеем об этом подумать.
– Нет, нет, – твердила Бабэ с недовольным видом. – Он быстро вырастет. Посмотри, какой он большой. У него осмысленные глаза.
Дядюшка Лазар был одного мнения с моей женой. Он сказал серьезным тоном:
– Не делайте из него ни священника, ни солдата, если не будет у него к тому особого призвания. Пусть он станет образованным господином, вот это будет славно.
Бабэ тревожно посмотрела на меня. Моя милая жена не отличалась тщеславием; но, как все матери, она хотела быть в глазах своего сына скромной и достойной. Мне казалось, что она уже видела его нотариусом или врачом.
Я поцеловал Бабэ и шепнул ей:
– Я хочу, чтобы он жил в нашей любимой долине. И в один прекрасный день он встретит на берегу Дюрансы свою шестнадцатилетнюю Бабэ и даст ей пить. Помнишь, мой друг?.. Земля подарила нам довольство; наш сын тоже будет крестьянином и таким же счастливым, как мы с тобой.
Бабэ, растроганная, в свою очередь, поцеловала меня. Она посмотрела в окно на деревья, на реку, поля, небо и сказала с улыбкой:
– Ты прав, Жан. Этот край был добр к нам, и таким он будет для Жака. Дядюшка Лазар, вы станете крестным фермера.
Дядюшка кивнул головой с видом усталым и умиленным. Я внимательно на него посмотрел – глаза его заволоклись, губы побелели. Откинувшись в кресле, лицом к окну, положив бледные руки на колени, он пристально и благоговейно смотрел в небо.
Меня охватило беспокойство.
– Вам плохо, дядюшка? Что с вами? Отвечайте, ради бога!
Он медленно поднял руку, словно просил говорить потише, затем уронил ее и слабым голосом промолвил:
– Я сокрушен. В мои годы счастье – смертельно… Не шумите… Мне кажется, что тело мое стало совсем невесомым: я не чувствую ни рук, ни ног.
Бабэ в страхе приподнялась на кровати. Я стал перед дядюшкой на колени и с тревогой смотрел на него.
Он улыбнулся:
– Не пугайтесь, я ничуть не страдаю, блаженный покой нисходит на меня, я засыпаю сном праведным и безмятежным… И, слава богу, мой конец наступает сразу. Ах, мой милый Жан, я слишком быстро бежал по тропинке с холма, малыш мне принес слишком много радости.
И, видя, что мы всё поняли и нас душат рыдания, он продолжал, не отводя взгляда от неба:
– Умоляю вас, не омрачайте мою радость… Если бы вы знали, как я счастлив, что могу уснуть в этом кресле вечным сном! Никогда я не мечтал о такой блаженной смерти. Все, кого я люблю, вокруг меня. Посмотрите, какое голубое небо! Господь посылает мне прекрасный вечер.
Солнце скрывалось за дубами аллеи. Его косые лучи золотили листву, и она отливала старой медью. Зеленые луга терялись в прозрачной дали. Дядюшка Лазар все слабел и слабел, а в открытое окно вливалось мирное сияние заката. Дядюшка медленно угасал в чуткой тишине, подобно нежным розоватым отблескам, которые постепенно бледнели на вершинах деревьев.
– Моя милая долина, ты с любовью посылаешь мне последнее прости… Я боялся умереть зимой, когда ты становишься совсем черной.
Мы сдерживали рыдания, боясь нарушить торжественный покой, осенявший смерть праведника. Бабэ шепотом молилась. Ребенок еле слышно плакал.
Дядюшка в глубине своего угасающего сознания услышал этот плач. Он слегка повернулся к Бабэ, и у него хватило сил улыбнуться.
– Я видел малыша, – промолвил он, – я умираю счастливым. – И, взглянув в последний раз на бледное небо, поля, окутанные сумерками, он запрокинул голову и чуть слышно вздохнул. Тело его ни разу не содрогнулось. Он перешел в смерть, как переходят в сон.
Нами овладело такое благоговейное чувство, что мы застыли в молчании, без слез. Перед лицом столь естественной смерти мы ощущали тихую печаль. Сумерки сгущались, последнее прости дядюшки внушало нам ту же надежду, что и прощальный привет солнца, которое умирает вечером, чтобы возродиться на следующее утро.
Таков был этот день, день моей осени, он мне подарил сына и в закатной тишине унес моего дядюшку.
ЗИМА
В январе бывают хмурые утра, которые леденит сердце. В этот день, едва я проснулся, меня охватила смутная тревога. Ночью началась оттепель, и когда я вышел на крыльцо, равнина, казалось, была покрыта огромной грязной буровато-серой тряпкой в темных дырах.
Туман сплошной завесой застилал горизонт. В серой мгле дубы на аллее мрачно простирали черные руки, подобно веренице призраков, охраняющих туманную бездну. На вспаханной земле там и сям виднелись лужи, по краям которых светлели лоскутья грязного снега. Из долины доносился нарастающий рокот Дюрансы.
Зима хороша для здоровья, когда небо чистое и земля скована льдом. Мороз пощипывает уши, а ты бодро шагаешь по замерзшей дороге, и льдинки ломаются под ногами с серебряным звоном. Вокруг простираются ровные и чистые поля, белые от снега, сверкающие на солнце. Но что может быть печальней, чем нудная пора оттепели! Мне ненавистен сырой туман, который проникает во все поры.
Я взглянул на свинцовое небо, меня охватил озноб; и я поспешил вернуться в дом, решив в это утро не идти в поле, благо и на ферме хватало работы.
Жак уже давно встал. Я слышал, как он что-то насвистывал в сарае, где помогал работникам убирать мешки с зерном. Парню уже минуло восемнадцать; это был здоровый широкоплечий малый. У него не было дядюшки Лазара, который бы его баловал и обучал латыни, и он не ходил мечтать в прибрежный ивняк. Из Жака вышел настоящий крестьянин, неутомимый труженик; он ворчал, когда я принимался за какую-нибудь работу, и говорил, что я уже старею и мне пора отдохнуть.
Я засмотрелся на него, как вдруг какое-то нежное и воздушное существо прыгнуло мне на плечи, закрыло ручонками мне глаза и воскликнуло:
– Угадай, кто это?
Я засмеялся:
– Это маленькая Мария, которую мама только что подняла с постели!
Моей дорогой дочурке едва исполнилось десять лет, и все эти десять лет она была нашим общим баловнем. Она родилась последней, когда мы больше не надеялись иметь детей, поэтому ее особенно любили. У нее было хрупкое здоровье, и от этого она стала нам еще дороже. Мы воспитывали ее барышней; мать непременно желала видеть ее дамой, а у меня не хватало мужества сопротивляться, до того она была мила в своих шелковых юбочках, отделанных лентами.
Мария все еще сидела у меня на плечах.
– Мама, мама, – закричала она, – иди сюда; я играю в лошадки.
Бабэ вошла, улыбаясь. Ах, бедная моя Бабэ, мы оба так постарели! Я вспоминаю, как мы, понурые и усталые, уныло смотрели друг на друга в это утро, пока сидели одни. Дети возвращают нам молодость.
Завтрак прошел в молчании. Было темно, и мы зажгли лампу. Тусклый свет, разливавшийся по комнате, нагонял смертельную тоску.
– А пожалуй, этот теплый дождь, – промолвил Жак, – лучше, чем крепкие холода. Они наверняка выморозили бы виноград и оливы.
Жак пытался шутить. Но и он, подобно нам, испытывал какую-то беспричинную тревогу. Бабэ видела дурной сон. Слушая ее рассказ о ночных кошмарах, мы пытались улыбаться, но на сердце у нас было тяжело.
– Это от погоды нам так муторно, – сказал я, стараясь поднять настроение.
– И впрямь от погоды, – подхватил Жак. – Пойду-ка я, подброшу сухих лоз в огонь.
Весело вспыхнуло пламя, разбрасывая яркие отсветы по стенам. Прутья горели, потрескивая, и превращались в розовые угли. Мы сидели у камина. На дворе было тепло, но стены отсырели, и нас прохватывало холодом. Бабэ взяла Марию на колени: она о чем-то с ней тихонько говорила, радуясь ее щебетанью.
– Ты пойдешь со мной, отец? – обратился ко мне Жак. – Заглянем в амбары и в погреб.
Я отправился с сыном. Последние годы были неурожайными. Мы несли большие убытки: виноградники и плодовые деревья пострадали от морозов; посевы пшеницы и овса побило градом. Иногда я говорил себе, что я постарел, а фортуна, как и все женщины, не любит стариков. Жак отвечал, смеясь, что он-то молод и непременно добьется благосклонности фортуны.
Я вступил в свою зимнюю пору, пору суровую и холодную. Жизнь теряла свою прелесть. Всякий раз, как меня покидала радость, я вспоминал дядюшку Лазара, который так спокойно встретил свой смертный час; я черпал силу в этих дорогих мне воспоминаниях.
К трем часам день окончательно угас. Мы спустились в столовую. Бабэ склонилась над шитьем у камина; маленькая Мария, сидя на полу, лицом к огню, с серьезным видом наряжала куклу. Мы с Жаком примостились у конторки красного дерева, которая досталась нам от дядюшки Лазара; мы занялись проверкой счетов.
Окно было словно замуровано: стена тумана привалилась к стеклу. За этой стеной, должно быть, зияла пустота, таилась неизвестность. Лишь громкий, неумолчный рокот раздавался в безмолвии и непроглядной мгле.
Мы отпустили всех работников, оставив на ферме лишь старую служанку Маргариту. Когда я поднимал голову и начинал прислушиваться, мне казалось, что наш дом повис над бездной. Никаких привычных звуков не доносилось со двора – слышался только рокот пучины. Я смотрел на жену и детей, и мне становилось жутко; я чувствовал себя стариком, бессильным защитить своих близких от неведомой опасности.
Рокот усилился, и нам показалось, что кто-то ломится в дверь. И тотчас в конюшне раздалось неистовое ржанье лошадей, а в хлеву – хриплое мычанье скота. Побледнев от страха, мы вскочили со своих мест. Жак кинулся к двери и распахнул ее.
Волна мутной воды ворвалась в комнату.
Дюранса вышла из берегов. Это она глухо рокотала с самого утра. В горах таял снег, ручьи сливались, образуя стремительные потоки, которые переполнили реку. Завеса тумана скрыла от нас неожиданный паводок.
Случалось и раньше, в снежные зимы, во время оттепели вода подступала к самому крыльцу фермы. Но никогда еще не бывало такого бурного потока. В открытую дверь мы видели двор, который превратился в озеро. Вода достигала нам до щиколотки.
Бабэ взяла на руки Марию, девочка плакала, прижав куклу к груди. Жак решил было пойти во двор и распахнуть двери конюшен и хлева; но мать схватила его за рукав, умоляя не выходить. Вода все прибывала. Я подтолкнул Бабэ к лестнице.
– Скорей, скорей, наверх! – крикнул я и заставил Жака подняться раньше меня. Я покинул нижний этаж последним.
Перепуганная Маргарита спустилась с чердака, из своей мансарды. Я усадил ее в глубине комнаты рядом с Бабэ, которая по-прежнему сидела бледная и безмолвная, в глазах у нее была мольба. Крошку Марию мы уложили в постель; она не захотела расставаться с куклой и, прижав ее к груди, тихо уснула. Глядя на спавшего ребенка, я испытывал облегчение, когда же я оборачивался к жене и видел, что она прислушивается к ровному дыханию дочурки, я забывал о грозившей нам беде и больше не слышал плеска воды, которая билась о стены.
И все же мы с Жаком смотрели в глаза смертельной опасности. Мы с беспокойством наблюдали, как прибывала вода. Открыв настежь окно, рискуя упасть, мы высовывались наружу и вглядывались во тьму. Непроглядный туман навис над водой, непрерывно моросил дождь, сырость пронизывала нас до костей. Лишь смутно можно было различить во мгле свинцовые отсветы колеблющейся водной пелены. Внизу, во дворе, плескалась вода, мягко ударяясь о стены, она поднималась все выше и выше. И по-прежнему слышалось гневное ворчанье Дюрансы и голоса обезумевших животных.
Ржанье лошадей, мычанье волов раздирали мне душу. Жак вопросительно взглянул на меня; он хотел попытаться их освободить. Вскоре голоса животных слились в сплошной рев, потом раздался треск. Волы вышибли двери хлева. Мы видели, как они пронеслись мимо окон, подхваченные потоком. Вскоре они исчезли в грохочущей пучине.
В порыве ярости, потеряв рассудок, я погрозил кулаком Дюрансе. Стоя у окна, я бросал ей проклятья.
– Негодяйка! – вопил я, и мой крик сливался с ревом воды. – Я любил тебя всей душой, ты была моей первой любовью, а сейчас ты хочешь пустить меня по миру, ты разрушаешь мой дом, уносишь мой скот. Будь ты проклята, проклята!.. Ты подарила мне Бабэ, ты мирно протекала вдоль моих лугов. Я всегда считал тебя любящей матерью, я помнил, с какой нежностью дядюшка Лазар говорил о твоих прозрачных водах, я был тебе глубоко благодарен… А ты оказалась мачехой, и я тебя ненавижу!..
Но Дюранса громовым голосом заглушала мои вопли; равнодушная, она со спокойным упорством катила волну за волной.
Я подошел к плачущей Бабэ и обнял ее, стараясь успокоить. Мария по-прежнему безмятежно спала.
– Не бойся, – сказал я жене, – вода не может без конца прибывать… Скоро она пойдет на убыль… Нам ничто не грозит.
– Нам ничто не грозит, – возбужденно повторил Жак. – Дом у нас крепкий.
В это время служанка, охваченная безумным страхом, желая увидеть все своими глазами, подошла к окну, свесилась из него и вдруг с криком вывалилась наружу. Я подбежал к окну, но не мог остановить Жака, он уже прыгнул в воду. Маргарита его вынянчила, и Жак любил старушку, как родную мать. Услышав громкий всплеск воды и поняв, в чем дело, Бабэ вскочила вне себя, прижимая руки к груди. Она замерла на месте, с перекошенным ртом, глядя на окно широко открытыми глазами.
Я сел на подоконник, меня оглушал рев воды. Не знаю, сколько времени мы с Бабэ пребывали в мучительном оцепенении, но вот кто-то меня позвал. Это был Жак, он стоял под окном, прижавшись к стене. Я протянул ему руку, и он влез в комнату.
Бабэ судорожно стиснула его в объятиях. Теперь она могла плакать, и она облегчила свою душу слезами.
О Маргарите речи не было. У Жака не хватило духу признаться, что он так и не нашел ее, а мы не смели его расспрашивать.
Отведя меня к окну, Жак сказал вполголоса:
– Отец, вода во дворе уже поднялась на два метра и все прибывает. Нам больше нельзя здесь оставаться.
Сын был прав. Дом начинал разваливаться, мимо окон проплывали доски от сарая. В довершение всего, мы были потрясены гибелью Маргариты: Бабэ, потеряв голову, умоляла нас покинуть дом. Лишь крошка Мария оставалась безмятежной, – прижав к себе куклу, она спала на широкой кровати с ангельской улыбкой на устах.
С каждой минутой опасность все возрастала. Вода уже подступила к подоконнику и скоро должна была залить комнату. Казалось, какой-то таран глухими и мерными ударами сотрясает до основания наш дом. Еще немного – и он будет подхвачен потоком. Но нам неоткуда было ждать помощи.
– Каждая минута дорога, – воскликнул Жак в смертельной тревоге. – Мы погибнем под обломками дома… Давай поищем доски и соорудим плот.
Он говорил в лихорадочном возбуждении. Конечно, я сто раз предпочел бы очутиться посреди реки на крепко связанных бревнах, чем под крышей дома, который вот-вот рухнет. Но где достать бревна? В каком-то неистовстве я стал отрывать доски от шкафов, Жак принялся рубить мебель, мы сорвали ставни, мы ломали все, что попадалось под руку. Понимая, что нам ни к чему эти обломки, мы швыряли их на пол, приходили в ярость и возобновляли поиски.
Мы уже теряли надежду, сознавая свою беспомощность и бессилие. Вода прибывала; хриплый голос Дюрансы гневно нас призывал. Тогда, разразившись рыданиями, я обнял дрожащими руками Бабэ и стал подзывать Жака. Мне хотелось умереть вместе с ними, в тесном объятии.
Жак в это время стоял у окна. Вдруг он воскликнул:
– Отец, мы спасены! Посмотри!
Я подошел. Небо прояснилось. К окну прибило крышу, сорванную течением. Эта крыша, шириною в несколько метров, была сколочена из легких брусьев и покрыта соломой; она держалась на воде, – это был превосходный плот. Молитвенно сложив руки, я готов был поклониться соломенной крыше.
Привязав накрепко крышу, Жак прыгнул на нее. Он прошелся по соломе, желая убедиться в прочности плота. Солома не проваливалась, и он увидел, что мы можем рискнуть.
– Он выдержит всех нас, – радостно воскликнул Жак. – Смотрите, он совсем мало погружается в воду… Только трудно будет им управлять.
Он огляделся вокруг и выхватил из воды два шеста, уносимых течением.
– А вот и весла, – сказал Жак. – Отец, ты становись сзади, а я стану спереди – так удобнее будет управлять плотом! Здесь не глубже трех метров… Живо, живо, переходите на плот, не теряйте ни минуты!
Моя бедная Бабэ пыталась улыбнуться. Она заботливо укутала в платок маленькую Марию; девочка только что проснулась. Она онемела от испуга и лишь изредка тяжело вздыхала. Я поставил к окну стул и перенес Бабэ на плот. Держа в объятиях Бабэ, я поцеловал ее в порыве отчаяния; я чувствовал, что это последний поцелуй.
Вода начала заливать комнату. Мы уже промочили ноги. Я вступил на плот последним; затем я отвязал его. Течением нас прибивало к стене; нам стоило немалого труда оттолкнуться и отплыть от дома.
Постепенно туман рассеивался. Когда мы отчалили, было около полуночи. Звезды еще были окутаны дымкой; луна только что поднялась над горизонтом и освещала окрестность тусклым сияньем.
Теперь наводнение предстало нам во всем своем грозном величии. Долина превратилась в сплошной поток. Меж холмов, по темной массе возделанных полей катилась Дюранса; казалось, это было единственное живое существо на безжизненном просторе – она властно громыхала, словно сознавая свою мощь. Кое-где на тусклой поверхности воды, точно глыбы черного мрамора, пятнами выступали группы деревьев. Я разглядел прямо перед нами вершины дубов – то была аллея; течением плот несло прямо на дубы, которые были для нас опасны, как рифы. Вокруг нас плавали какие-то обломки, куски дерева, пустые бочонки, пучки травы, все было подхвачено яростной рекой.
Налево мы увидели огоньки Дурга. Фонари мигали во мраке. Вода не добралась до деревни; она затопила только низину. К нам, несомненно, должны были прийти на помощь. Мы вглядывались в отблески воды; то и дело нам казалось, что мы слышим удары весел.
Так мы плыли наугад. Когда плот очутился на середине потока и нас стало кружить в водоворотах, мы снова впали в отчаяние и чуть было не пожалели, что покинули ферму. Временами я оборачивался и смотрел на дом, который все еще стоял, выделяясь серым пятном на белесой поверхности воды. Бабэ примостилась посреди плота, на соломе, на коленях она держала малютку, прижав ее к груди, чтобы та не видела разбушевавшейся реки, они сидели, скорчившись от страха, обнимая друг друга, и, казалось, стали совсем маленькими. Жак стоял впереди, изо всех сил налегая на шест; по временам он бросал на нас быстрый взгляд и молча продолжал свое дело. Я помогал ему, как только мог, но нам не удавалось пересечь реку. Мы упирались шестами в дно, рискуя их переломить, но течение относило плот: казалось, какая-то сила увлекала его на середину реки. Постепенно Дюранса нас одолевала.
Выбиваясь из сил, обливаясь потом, мы дошли до остервенения, мы дрались с Дюрансой, как с живым существом, стараясь ее побороть, ранить, убить. Она сжимала нас в своих могучих объятиях, и наши шесты становились оружием, мы яростно вонзали их в ее открытую грудь. В ответ она ревела, плевала нам в лицо, извивалась под нашими ударами. Стиснув зубы, мы отчаянно боролись. Мы не хотели быть побежденными. Нами овладело сумасшедшее желание прикончить это чудовище, усмирить его ударом кулака.
Постепенно нас выносило на середину реки. Мы были уже у входа в дубовую аллею. Черные ветви выступали из воды, и она неслась среди них с каким-то жалобным журчаньем. Быть может, здесь ждет нас смерть. Я крикнул Жаку, чтобы он направил плот вдоль аллеи, мы могли бы там плыть, держась за ветки. И вот в последний раз я очутился в дубовой аллее, где не раз гулял в дни юности и в зрелые годы. В эту ужасную ночь, посреди клокочущего потока, я вспомнил дядюшку Лазара, счастливую пору юности – она грустно улыбалась мне издалека.
В конце аллеи Дюранса одолела нас. Наши шесты уже не доставали дна. Торжествуя победу, река бешено несла нас вперед. Теперь она могла делать с нами все, что ей угодно. Мы были обезоружены. Мы мчались со страшной быстротой. Большие рваные тучи, словно грязные лохмотья, влачились по небу; когда скрывалась луна, нас окутывал зловещий мрак. И мы словно погружались в хаос. Кругом вздымались огромные волны, черные как чернила, похожие на спины рыб; нас уносило в стремительном круговороте. Я уже не различал ни Бабэ, ни своих детей. Я был в объятиях смерти.
Не знаю, сколько времени продолжался этот бешеный бег. Внезапно выглянула луна, небо посветлело. И в этом свете я заметил прямо перед нами какой-то большой темный предмет, который преградил нам путь, мы неслись прямо на него. Все кончено, там мы разобьемся.
Бабэ встала во весь рост. Она протянула мне Марию:
– Возьми ребенка, – крикнула она. – А меня оставь… оставь!
Жак успел подхватить Бабэ и громко крикнул:
– Отец, спасай малютку!.. Я буду спасать мать!
Черный предмет возник перед нами. Мне показалось, что это было дерево. Удар был сокрушительным, и плот, расколовшись пополам, закружился в водовороте.
Я упал в воду, прижимая к груди ребенка. Ледяная вода привела меня в чувство. Вынырнув, я поднял вверх малютку и, перекинув ее через шею, с трудом поплыл. Если бы девочка не потеряла сознание, она стала бы отбиваться и мы оба пошли бы ко дну.
Я плыл, и тревога сжимала мне сердце. Я звал Жака, надеясь увидеть его вдали, но слышал лишь грохот потока и видел лишь тусклые воды Дюрансы. Жака и Бабэ поглотила пучина. Наверно, Бабэ вцепилась в Жака и увлекла его на дно. Какие ужасные муки! Мне захотелось тоже умереть, я стал медленно погружаться в воду, надеясь найти их там, в черной глубине. Но едва вода коснулась лица Марии, как я вновь стал бороться изо всех сил, направляясь к берегу.
Так я потерял Бабэ и Жака. Я был в отчаянии, что не могу умереть вместе с ними, и все звал их хриплым голосом. Река выбросила меня на прибрежные камни, словно пучок травы, из тех, что плыли по течению. Когда я пришел в себя, я взял на руки дочку, и она открыла глаза. Забрезжил рассвет. Кончилась зимняя ночь, ужасная ночь, сообщница реки, погубившей жену и сына.
Сейчас, после долгих скорбных лет, мне остается последнее утешение. Пришла моя зима, но я чувствую, как в моей груди вновь трепещет весна. Дядюшка Лазар говорил: мы никогда не умираем. Я пережил все четыре времени года, и вот ко мне возвращается весна, моя дорогая Мария вступает в жизнь, и ей, как и всем смертным, суждено испытать свои радости и печали.
Перевод О. Лозовецкого