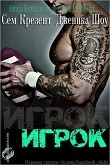Текст книги "Собрание сочинений. Т.23. Из сборника «Новые сказки Нинон». Рассказы и очерки разных лет. Наследники Рабурдена"
Автор книги: Эмиль Золя
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 44 страниц)
Что касается мужчин, то они еще резче. Они толкуют: не жалость ли видеть, что такой молодец, добрый карабинер, проводит жизнь в праздности и обжорстве! Другие, высовываясь из окна, подражают вороньему карканью. Рабочий, спускающийся с лестницы и весь осыпанный известкой, нарочно толкает священника, чтобы запачкать ему рясу. Вокруг аббата растет глухой заговор, тайное недоброжелательство, выражающееся в конце концов в угрозах и свистках.
Но на этом дело не останавливается. Его обвиняют в том, что он навещает так часто Лизу вовсе не с религиозными целями. У Лизы сохранились еще прекрасные зубы и волосы; она очень могла пленить кюре. И не только плохие рабочие, пьяницы и лентяи, распространяют эту гадкую сплетню: хорошие ребята, приличные жильцы дома, степенные работники, не пьющие и не прогуливающие ни одного дня, подсмеиваются так же громко, как и остальные. Аббат является козлом отпущения, над которым все издеваются. Самые снисходительные толкуют, что священники такие же люди, как и все прочие, что между ними есть хорошие, как и дурные, но что следовало бы их женить насильно, чтобы они не вносили раздор в семьи. И насмешки сыплются градом, особливо насчет исповеди. Матери семейств объявляют, что не станут посылать дочерей к исповеди, потому что помнят, какие вопросы задавали им кюре, когда им было пятнадцать лет. Да, да, аббат, должно быть, ходит исповедовать Лизу. Хорошо он ее исповедует, нечего сказать!
Наконец, в один прекрасный вечер, после драки, происходившей во дворе, одни слесарь, которому Ранбер подбил глаза кулаком, восклицает:
– Ступай проедать поповские деньги!.. Твоя Лиза обкрадывает кружку бедных со своим черноризником. Легко сказать, хорошими делами занимаетесь вы втроем!
Тут рассвирепевший каменщик взбегает наверх и набрасывается на Лизу, клянясь и божась, что если когда-нибудь поймает аббата, то задаст ему жаркую баню. Как раз аббат приходит на другой день, в тот момент, как Ранбер кончает обедать.
– Угомонись, пожалуйста! – кричит Лиза. – Господин кюре приходит с хорошей целью… Он хочет повенчать нас и говорит, что так будет честнее.
Но каменщик ничего не слушает и, выругав кюре самым площадным образом, резко приказывает ему убираться.
– Проваливайте и никогда не суйте больше сюда своего носа, или я сверну вам шею и спущу вниз по лестнице!.. Виданное ли дело, чтобы всякая каналья мешала жить людям по-своему.
Священник, сохраняя полное спокойствие, дожидается, чтобы ему дали высказаться. И тогда говорит очень кротко и пытается тронуть бешеного безумца, спрашивая у него: какую участь готовит он детям, если они у него будут.
– Послушайтесь меня, подумайте о будущем, женитесь…
Но Ранбер перебивает его.
– Эх! женитесь сперва сами!.. Ищите себе жену, только не мою, слышите ли… Ну, убирайтесь и больше не приходите!
Аббат де Вильнев поникает головой и уходит. Мужество изменяет ему. Спускаясь с лестницы, он слышит кругом себя злорадный смех; соседи подслушали сцену и забавляются тем, что его прогнали без церемонии. Все спешат поглядеть, какое у него лицо. Он кажется всем крайне забавным в смущении и с опущенной головой. Вот хороший урок для черноризников. Потом, когда аббат проходит по кварталу, ему кажется, что все прохожие смеются, на него глядя, точно им известно его поражение. Да, весь квартал враждебно настроен против него, все предместье указывает на него пальцами. И вот когда он сознает, что городское население совершенно эмансипировалось и что церковь не имеет больше на него никакого влияния! Мечта его – пробудить веру в толпе и пересоздать современное общество – поколеблена. Боже мой! Неужто наступили новые времена? Неужто надо искать истину где-нибудь в ином месте, а не в католическом догмате, где он признавал ее до сего дня? Сомнение растет, борьба становится еще ожесточеннее. Он стоит на стезе страстных и умных священников, в которых пробуждается свобода мышления и которые отрываются от церкви, не умея сделаться полезными воинами прогресса. Они так и остаются искалеченными навеки и гибнут бесцельно.
III
У Робино, турской буржуазной семьи, маленький интимный обед. Накрыто всего четыре прибора: для г-на Робино, г-жи Робино, мадемуазель Клементины, их дочери, и аббата Жерара, приходского священника.
– Господин кюре, пожалуйста, возьмите еще кусочек рыбы, – говорит г-н Робино с настоянием. – Ведь вы любите рыбу, не отказывайтесь.
– Господин кюре, – шепчет по другую сторону г-жа Робино, – возьмите еще парочку грибков, умоляю вас!.. Возьмите вот эти, из дружбы ко мне.
И сама служанка, Франсуаза, раскупоривающая бутылку, шепчет на ухо кюре:
– Прикажете шамбертену, господин кюре?
Аббат Жерар, весь сияющий, отвечает направо, отвечает налево с любезной вежливостью и даже благодарит Франсуазу, дружески подмигивая ей глазом. Его, право, балуют. Но рыба такая превосходная, и он охотно съест еще несколько грибков. Затем, опрокинувшись на спинку кресел, осушает стакан с шамбертеном, полузакрыв глаза. В столовой тепло; обед превосходный. Нельзя придумать более тонкого и приличного удовольствия, как проводить таким образом вечерок в почтенном семействе, которое вас обожает.
Аббату Жерару пятьдесят лет. Он толст, но сам так мило подсмеивается над своим большим животом, что никому не приходит в голову упрекать его за то. У него широкое, краснощекое, мягкое лицо, заявляющее о мудром равновесии, о счастливом спокойствии его существования. Сын достаточных буржуа, он поступил в священники не вследствие религиозного порыва или увлечения, а по своим соображениям. В семинарии он был хорошим учеником, послушным и ласковым, всеми любимым. Он никогда не тревожил своих профессоров ни живостью, ни независимостью своего ума и даже старался скрывать свой ум, из скромности или из расчета. Про него говорили, что он добрый малый, и он старательно скрывал огонь маленьких черных глазок, сверкавших лукавством. Как только он был посвящен в священники, так удачи посыпались на него одна за другой. Самые хорошие приходы доставались ему на долю, и он был, наконец, сделан кюре одного из главных приходов Тура, где теперь и катается как сыр в масле. Друзья говорят, что не сегодня-завтра он будет епископом. Начальство толкало и продолжает толкать его вперед, видя в нем один из тех счастливых, ласковых, снисходительных характеров, которые больше делают для религии в наше время, чем резкость и страстность апостольская. Нельзя в самом деле найти более добродушного человека, делающего миру всевозможные уступки, какие только ему дозволяет его звание, и при всем том необыкновенно вкрадчивого и настойчивого, как скоро дело коснется религии.
Успех его в Туре был громаден. Тур, как и многие провинциальные города, дорожит прежде всего своим мещанским спокойствием, своей жирной и ленивой жизнью. Женщины большей частью ханжи, мужчины же почти никогда не ходят в церковь.
Священнику в такой среде приходится быть ловким дипломатом, чтобы удержать за собою женщин и не рассердить мужчин. Священник, который внесет раздор в семьи, скоро очутится в невозможном положении. Аббат Жерар оказался неподражаемо ловким человеком, и это без всякого усилия, потому что в его характере – ладить со всеми. Он принят во всех семействах; он исповедует жен и дочерей, играет в пикет с мужьями, выслушивает признания молодежи. Он владычествует над умами, но по-прежнему старается не выдавать лукавого блеска своих глаз. Ханжи его обожают; неверующие объявляют, что он милый человек.
– Ну-с, господин кюре, как вы находите эту живность? – спросил Робино.
– Превосходная… Я бы попросил еще салату.
После десерта подают кофе и ликеры; г-жа Робино и Клементина удаляются из столовой. Аббат Жерар молодцом выпивает маленькую рюмочку шартреза. И так как он наедине с Робино, то заговаривает о скандальном происшествии, смущающем весь город. Одна дама убежала с молодым человеком из Парижа.
– Очень хорошенькая особа, – замечает аббат, – высокая, стройная, с чудными зубами…
– Она, кажется, была вашей духовной дочерью? – спрашивает Робино.
Но священник делает вид, что не расслышал. Затем ударяется в отеческие чувства: бедная женщина будет, наверное, очень несчастна; если бы семья его попросила об этом, то он согласился бы навестить ее в Париже и попытаться возвратить ее на стезю добродетели; он уверен, что это ему удалось бы. Между тем Робино издевается и старается смутить аббата, который наконец весело кричит:
– Ну, будет об этом. Вы безбожник, вы рады были бы заставить меня провраться… Но ведь, кажется, пора бы вам знать, что это вам со мной не удастся.
Действительно, Робино, вольтерьянец, почитывающий демагогические газеты, постоянно дразнит аббата. Он охотно наводит его на скабрезные разговоры, старается поймать на чем-нибудь греховном, постоянно изобретает новые шутки, чтобы его посердить. Но он имеет дело с сильным противником. Аббат никогда не сердится, на шутки возражает шутками, толкует о женщинах и о всем прочем, как человек, которого плоть не тревожит и которому его великая чистота позволяет говорить обо всем безбоязненно. Обыкновенно эти легкие схватки оканчиваются поражением Робино.
В гостиной их дожидаются г-жа Робино и Клементина. Как только кюре входит, он садится между ними, а Робино идет курить сигару на террасу. И совсем другим голосом, кротким и убедительным, кюре толкует с дамами о большой процессии, имеющей быть на следующей неделе. Он духовник матери и дочери. Раскинувшись покойно в креслах, вертя в руках табакерку, аббат Жерар говорит, что церемония будет очень трогательная.
– Да, право, все братства на ней будут присутствовать. Я слышал хор, который разучивают в настоящую минуту сестры Святого Причастия; не думаю, чтобы можно было услышать что-нибудь более прекрасное… Вы знаете, что поутру мы прослушаем проповедь отца Эзеба о греховности кокетства.
– Мы рано придем в церковь, чтобы нас не затолкали, – говорит г-жа Робино.
И, обратившись к Клементине, продолжает:
– Покажи господину кюре, насколько подвинулась твоя работа.
Тогда Клементина приносит епитрахиль, которую она вышивает для аббата. На золотом фоне она вышивает мистические цветы, красные и зеленые. Работа великолепная. Аббат рассыпается в похвалах молодой девушке, которая краснеет и очень довольна. Потом снова возобновляет свою беседу с обеими женщинами, перекидываясь словечками то с одной, то с другой – тихим и ласковым голосом, точно исповедуя их. Они упиваются его словами и всецело принадлежат ему. Но Робино докурил сигару и входит, крича:
– А наш аббат занимается только тем, что кружит головы дамам.
Но кюре в своем кружке и не хочет оставить за ним последнее слово.
– Мы говорили о вас, господин Робино, – говорит он с тонкой улыбкой. – Мы говорили, что вы будете участвовать в процессии, имеющей быть в четверг.
– Ну, уж нет, слуга покорный!
Кюре, не прибавляя больше ни слова, дружески грозит ему пальцем. Появляются несколько хороших знакомых, салон наполняется – провинциальный салон, куда дамы являются запросто. Тут мы видим хранителя закладных на недвижимость, старого оригинала, не терпящего иезуитов; толстого хлеботорговца, республиканца по убеждениям; секретаря префектуры, хорошенького молодого человека, щеголяющего скептицизмом парижской молодежи. Все, однако, жмут руку аббату очень радушно. Что касается дам, то они с минуту простаивают перед ним в экстазе. Здоров ли он? Не очень ли мучит его подагра? И как он чувствует себя после припадка, схватившего его у г-жи Летеллье по выходе из-за стола? Дамы очень беспокоятся, потому что находят его немного бледным. Но он успокаивает их. Здоровье его, слава богу, превосходно! И он садится играть в пикет с хранителем закладных.
После того беседа становится общей; аббат Жерар вставляет словечко меж двух ходов, но старательно избегает говорить о религии. Он больше не аббат и старается быть только самым любезным гостем, удерживая от своего звания одну особенную кротость речи. Когда кто-нибудь из этих господ оказывается настолько неблаговоспитанным, что намекает на его рясу, он улыбается, не отвечая, как бы не желая принимать вызова. Весь город еще толкует про скандал, который произвел другой аббат, сварливого нрава, поссорившись в одном доме с хранителем закладных, обвинявшим иезуитов в том, что они пропагандируют употребление табака с целью отупления народа. Конечно, подобная история не могла бы заставить аббата Жерара забыть все законы вежливости; напротив того, он бы сам посмеялся над ней, потому что измышления хранителя закладных имеют дар смешить его до слез. Когда посещаешь общество, то необходимо привыкать к его требованиям и снисходить к пустякам, в особенности когда считаешься пастырем душ. Аббат поставил себе за правило – терпеть мужей и искать утешения в привязанности жен.
Со всем тем он не может вечно избегать споров. Когда партия в пикет окончена, Робино и толстый хлеботорговец отводят его в амбразуру окна и наводят разговор на роль, которую играет религия в современном обществе.
– Серьезно говоря, господин кюре, – объясняет Робино, – я вовсе не такой безусловный враг религии, как вы, может быть, думаете… Лично я не следую обрядам церкви, потому что мой разум возмущается некоторыми верованиями, а их приходится или безусловно признать, или безусловно отвергнуть. Если бы я исполнял обряды при настроении моего ума, то должен был бы лицемерить, а по моему суждению, уж лучше быть безбожником, нежели лицемером… Разве я не прав, господин кюре?
Аббат ничего не ответил и удовольствовался наклонением головы.
– Но, – продолжал Робино, – я охотно признаю, что религия – превосходная нравственная полиция. Поэтому она всегда была и всегда будет весьма полезной розгой для наших жен и дочерей. Голова женщин должна быть чем-нибудь занята, и я предпочитаю, чтобы у моей жены в голове сидел господь бог, чем какой-нибудь кавалерийский офицер…
Секретарь префектуры, подошедший тем временем к группе, много смеялся и нашел замечание прелестным.
– Кроме того, вы учите их прекрасным вещам: исполнению супружеских обязанностей, кротости, послушанию и угрожаете им муками ада, если они не будут хорошо себя вести. Все это очень полезно для мужей. Я хорошо знаю, что вас упрекают в том, что вы забираете слишком большую власть над нашими женами и иногда отбиваете их от нас. Но это не мешает тому, чтобы чаще всего религия поддерживала добрые нравы…
– Словом, мы жандармы вашей чести, – перебил аббат Жерар с улыбкой.
Секретарь префектуры снова пришел в восторг.
– О! прелестно! прелестно! – пробормотал он.
– Ну вот, что касается меня, то я охотно бы обошелся без этих жандармов, – воскликнул хлеботорговец… – Простите, господин кюре. Я немножко резок, но не имею намерения вас оскорбить. Да, я полагаю, что честные люди не нуждаются в религии, чтобы быть честными. Если бы моя жена пореже ходила в церковь, она почаще сидела бы дома. Да и не особенно красиво – исполнять свой долг из боязни ада.
– Право, вы заходите слишком далеко, – сказал Робино, – лишь бы хозяйство ваше не хромало, вам нет горя до остального.
– Как! Мне нет горя до остального!..Разве вы полагаете, что для женщины здорово по целым часам простаивать на коленях, слушать пение всевозможных псалмов и нюхать запах ладана? Это действует на ее нервы, и когда она приходит из церкви, то у нее самые дикие мысли в голове.
– Да, зато она приходит из церкви, а не из другого какого места, вот главное.
– А я вам говорю, что это очень худо!
– И нет, милый друг, вы, наконец, слишком деспотичны!
Аббат осторожно отходит, предоставив Робино и хлеботорговцу сражаться вдвоем, причем они, наконец, говорят друг другу страшные резкости. Затем, когда они успокаиваются, кюре снова к ним подходит и говорит с добродушным видом:
– Знаете, вам бы следовало участвовать в процессии… О! Только ради примера, ради полиции нравов, – как объяснял сейчас господин Робино.
Но оба буржуа весело отказываются. Слишком уж забавно было бы видеть их на улице, с восковой свечой в руках, когда всем известен их либеральный образ мыслей!
– О! Я не требую, чтобы вы шли со свечами в руках, – подхватывает аббат Жерар так же весело. – Вы придете гуляючи и пройдетесь сзади балдахина, и в хорошем обществе, уверяю вас, потому что все власти будут налицо и все высшее городское общество.
Оба буржуа продолжают смеяться. Они благодарят кюре за его приглашение, но, право, процессии противны их принципам – они не могут в них участвовать. Аббат Жерар, как человек вежливый, больше не настаивает и, так как бьет десять часов, удаляется. Все дамы провожают его до дверей, шепчутся и следят за ним растроганным взором. Покойной ночи, господин аббат, спите хорошенько! Затем г-жа Робино, забывшая сообщить ему что-то, бежит за ним на лестницу и там шепотом разговаривает с ним минут десять…
В следующий четверг позади балдахина Робино и хлеботорговец выступают в первом ряду. Без сомнения, аббат Жерар поручил г-же Робино убедить своего мужа. Этот последний, конечно, уступил только вследствие буржуазного тщеславия: ему очень приятно втереться в высшее городское общество. Впрочем, он намерен сохранить свою независимость и на ближайших муниципальных выборах, имеющих быть в будущее воскресенье, подаст голос против кандидатов епископа. Если он участвует в процессии, то лишь затем, чтобы не прослыть человеком, дурно воспитанным. Но аббат Жерар, увидя его, улыбается ему, и в маленьких глазках его зажигается пламя торжества, потому что он может считать себя настоящим властелином города Тура. Он царствует не только над женщинами, проходящими со сложенными руками и опущенными глазами; он распространяет свою власть и на мужей-вольтерьянцев, для которых в кругу близких людей религия является предметом постоянных насмешек. Конечно, он слишком умен, чтобы надеяться их обратить на путь истинный, но ему достаточно, чтобы они заявили наружно о своем почтении к религии. Когда церкви пустеют, то священнику желательно хоть как-нибудь наполнить их.
IV
Каждую пятницу аббат Мишлен исповедует барынь в капелле доминиканцев – очень кокетливой церкви, помещающейся в маленькой улице Сен-Жерменского предместья. По виду церковь эта похожа на большой салон, укромный и раздушенный, где свет смягчается, проходя через раскрашенные стекла. Барыни считают признаком хорошего тона приезжать исповедоваться сюда, а не в свою приходскую церковь, вдали от толпы кающихся. Они как бы выделяются из толпы, и им кажется, что для них господь бог готовит более утонченное прощение. Им кажется, что у них как будто есть своя собственная, домашняя исповедальня.
Аббат Мишлен – высокий, красивый человек, лет тридцати, черноволосый, с белой кожей и в настоящую минуту производит фурор в аристократическом обществе. Он, главным образом, обязан своим успехом тому такту, с каким держит себя. Сын крупного фабриканта фарфора и хрусталя в улице Дю-Бак, родившийся в этом самом квартале, в настоящее время он насчитывает в числе своих духовных дочерей графинь и маркиз, матерям которых отец его поставлял фарфор. Но он не потерял головы – он нашел оттенок между почтением низшего лица и всемогущим авторитетом священника, придающий удивительную пикантность его обращению. Самые изящные дамы в восторге от него. Он им очень за это благодарен и с улыбающимся лицом ловкого человека выпутывается из самых щекотливых положений.
Про его ученье ничего не известно. Он, по-видимому, был на хорошем счету в семинарии; но так как у него дядя епископ, то он ограничивался только хорошим поведением. В сущности, он добрый малый, решивший наслаждаться жизнью и подделываться к людям, чтобы не попадать впросак. Еще ребенком он мечтал попасть в раззолоченные салоны, которые видал лишь сквозь полуотворенные двери, и не придумал лучшего средства, как надеть сутану. Его честолюбие, пока довольно умеренное, заключается в том, чтобы стать выше своего положения, вращаться в избранном обществе, где удовлетворяется его любовь к изящным вещам, тонким обедам, прекрасным, хорошо одетым женщинам – всему, что красиво. Что касается религии, то она, по-видимому, для него цветок высшей цивилизации, красивое покрывало, долженствующее прикрывать людское безобразие. По его мнению, без религии не может быть вежливого общества.
В эту пятницу аббат Мишлен ожидает в исповедальне молодую графиню де Маризи, очаровательную блондинку, всего двадцати двух лет от роду, которую газеты прославляют за красоту. Она задает тон моде, она участвует во всех празднествах, лошади ее знамениты в Булонском лесу. Она уже два года, как замужем, и аббат Мишлен стал другом ее дома, после того как прогостил в замке Плесси-Руж, которым граф владеет в Нормандии. Право, аббат такой красавец, так изящно носит сутану, что может служить украшением любого салона.
Графиня, на коленях, дожидается своей очереди. Она оперлась хорошеньким подбородком на сложенные ручки и размышляет, неопределенно глядя на розовый луч, проходящий сквозь цветное стекло. Она быстро перебрала в уме все свои грехи; она знает за собой только один крупный грех и соображает, в каких выражениях она сообщит о нем аббату. Мысль умолчать о нем на минуту приходит ей в голову, потому что довольно трудно в этом признаться, но самая трудность соблазняет ее; ей смерть как хочется рассказать высокому красавцу кюре, как она – увы! – изменила своим супружеских! обязанностям для маркиза де Валькрез, который ей приходится каким-то дальним кузеном и которого она любила до своего брака.
Наконец приходит ее очередь. Она встает и идет к исповедальне с едва заметной усмешкой, придающей очаровательный оттенок выражению глубокого благоговения, какое она сочла нужным придать своему личику. Она, без сомнения, придумала, в каких выражениях легче ей будет сделать свое признание. Она медленно опускается на колени и проводит с полчаса в исповедальне. Слышен только однообразный шепот, ни одного громкого слова; целая драма страсти развертывается в полумраке между этой шепчущей двадцатидвухлетной женщиной и тридцатилетним аббатом, слушающим ее. После этого она, опустив голову, выходит из исповедальни, и на ее розовом личике ничего нельзя прочитать, только около губ все еще играет слабая, неопределенная улыбка, от которой образовались на щеках две ямочки.
По понедельникам аббат Мишлен исповедует мужчин в капелле доминиканцев. В следующий же понедельник маркиз де Валькрез дожидается своей очереди на том самом месте, где в пятницу стояла графиня. Маркиз – небольшой, жиденький юноша, болезненного вида, но хорошенький. Он успел уже прославиться бурной молодостью; он участвует в скачках; у него была дуэль, о которой говорили три дня. Однако среди своей беспутной жизни он никогда не переставал исполнять всех обрядов церкви, считая, что религиозность в числе их фамильных обязанностей. Изменить церкви представляется ему чем-то мещанским, и он так же мало думает о том, чтобы отказаться от обязанностей хорошего католика, как о том, чтобы отказаться от титула маркиза. Он исповедуется два раза в месяц, причащается по большим праздникам, словом – делает все необходимое, чтобы не изменить традициям своего рода. Но все это, впрочем, ровно ничего не значит.
Он стоит на коленях и, подобно графине, размышляет, следя за розовым лучом, падающим сквозь цветное стекло. Он спрашивает самого себя: благоразумно ли будет признаваться аббату в связи с г-жой де Маризи. Конечно, тайна исповеди безусловна, но аббат может невольным взглядом выдать их мужу; к тому же всегда тяжко выдавать другому мужчине любовницу. Тут маркиз решается на компромисс: он сознается в грехе, но не назовет имени, – и, успокоенный этим решением, торопливо падает на колени в исповедальне.
Исповедь мужчин всегда бывает гораздо короче исповеди женщин. Им менее приятно рассказывать о своих грехах и обнажать свое сердце. В какие-нибудь пять минут маркиз свалил все бремя своих грехов, но по выходе из исповедальни он кажется раздосадованным. Священник не дал ему договорить и сказал, что очень дурно с его стороны злоупотреблять доверием честного человека, в доме которого он принят как давнишний приятель. После этого он назвал графа и показал, что ему известна вся история. Черт бы побрал женщин! Они не могут исповедоваться, не пересказав всего до конца и даже не украсив, но большей части. Очевидно, графиня все разболтала. И маркиз с минуту еще стоит на коленях в церкви, встревоженный, спрашивая самого себя, не поведет ли это к его разрыву с графиней, которую он обожает. Однако в конце концов успокаивается на том соображении, что аббат Мишлен слишком ловкий человек, чтобы вмешиваться не в свое дело.
По вторникам аббат обедает у г-на де Маризи; обеды эти самые интимные, и на них приглашается только несколько друзей. На другой день, следовательно, после исповеди молодого маркиза аббат сидит в маленькой гостиной особняка де Маризи в обществе графини и двух старых дам. Маркиз, как нарочно, тоже в числе приглашенных сегодня. Он входит, улыбаясь, раскланивается с графиней и протягивает руку священнику с развязностью человека, которого не смутит никакое щекотливое положение. Семь часов бьет, а графа все еще нет. Графиня, чтобы извинить его, толкует об его важных и многочисленных занятиях. Все поддакивают, хотя отлично знают, что у графа нет никаких занятий, кроме тех, какие он сам навязывает себе в обществе самых шикарных актрис бульварных театров. Человек редкой бездарности, граф даже друзьями своими признан неспособным к политической деятельности. Он проматывает свое большое состояние самым беспутным образом, увлекаясь кокотками в бриллиантах, находя особенно пикантными хорошеньких женщин, разодетых, как герцогини, и грубых, как торговки. Рассказывают, что он выкидывал невозможные безумства для одной девчонки, подобранной с улицы, которая била его и выгоняла ночью за дверь, чтобы принять к себе его лакея. Ему пятьдесят лет от роду, лицо у него белое и истасканное, вид угрюмый, лысый лоб, придающий ему вид государственного человека, до времени поседелого под бременем общественных дел.
– Графа, должно быть, задержал министерский кризис, который мы переживаем в настоящую минуту, – говорит аббат Мишлен. – Вероятно, с ним пожелали посоветоваться.
– Да, вероятно, это самое, – пробормотал маркиз с тонкой улыбкой, глядя на графиню.
А графиня играет флаконом и нисколько не смущается, по-видимому. Аббат желал только показать, что он человек благовоспитанный, потому что и он отлично знает, где замешкался граф. Он знает даже по имени маленькую Бианку из Варьете, которой де Маризи только что подарил дом. Эта «Бианка» родом из Бордо и только приняла итальянское имя. Она разорит графа в каких-нибудь три месяца, если не прогонит раньше. Аббат видел ее однажды в Лесу. Красивое создание, нечего сказать! И аббат, думая о ней, вслух повторяет:
– Несомненно, граф в министерстве.
Наконец де Маризи появляется. Он извинился, жалуется на дела, и все немедленно переходят в столовую. По правую руку графини сидит маркиз, по левую аббат Мишлен. Граф помещается напротив с двумя старухами по бокам. Кроме них, еще четыре приглашенных, в целом – десять человек. Обед прекрасный, сервируется с быстротой и безмолвием самого хорошего тона. Гости за столом разговаривают вполголоса. Но вот один пожилой господин за второй переменой громко спрашивает графа:
– Ну, что? Какое у нас будет министерство?
Граф бледнее обыкновенного, он чем-то встревожен как будто, рассеян и не слышит вопроса, который приходится повторить его собеседнику. Наконец граф бормочет:
– Ах! Еще неизвестно! Положение дел критическое, очень, очень критическое… Никогда еще не переживали мы такого критического момента.
Обе старухи, по-видимому, приходят в ужас, и несколько голосов произносят:
– О! В самом деле!
И так как все ждут, что еще скажет граф, то ему приходится произнести снова несколько фраз, что он и исполняет с превеликим трудом:
– Да, можно всего опасаться… Вышел разлад… Ну, словом, может быть, как-нибудь уладится!
Тем временем аббат Мишлен, глядя на него, думает, что, должно быть, маленькая Бианка прогнала его. Вероятно, про этот разлад он и говорит. И в эту самую минуту аббат слышит, как близ него графиня и маркиз шепотом перекидываются следующими торопливыми словами:
– Почему вы вчера не приехали?
– Мне невозможно было отлучиться из дому!
– Я вас ждал целый день… Ах! Вы меня больше не любите, Лора!
– Тише!.. Я завтра там буду в два часа.
Графиня заметила, что аббат слушает их. Но это нисколько ее не тревожит. Она с улыбкой поворачивается к нему и даже чуть-чуть ему подмигивает. Ведь он поверенный их тайны и должен сострадать людским слабостям! Потом очень любезно замечает:
– Господин аббат, вы любите дичь… Жан, подайте еще дичи господину аббату.
Аббат ведет себя с большим тактом. Он намеревается, правда, намылить голову графине в исповедальне, как она того заслуживает. Но здесь, в столовой, в ее доме, он только ее гость и слишком благовоспитанный человек, чтобы корчить строгое лицо. Обед идет своим чередом: аббат слышит рядом с собой шепот преступной жены, а напротив себя созерцает плачевную физиономию графа, под глазами которого только что заметил две царапинки, сделанные точно кошачьими ногтями. Вина превосходны, в столовой носится свежий аромат фруктов, и обед оканчивается с самой грандиозной торжественностью.
– Вы в среду, не правда ли, читаете проповедь в церкви святой Клотильды? – спрашивает одна из старух у аббата за десертом.
– Да, сударыня… Я читаю проповедь в пользу благотворительного учреждения святой Марии.
И все толкуют об этом учреждении, цель которого призревать сирот, чтобы спасти их от гибели. Графиня – одна из дам-патронесс; имя графа значится в числе учредителей. Все гости превозносят услуги учреждения.
– Мы делаем, что можем, говорит г-жа де Маризи. Сколько есть бедных девушек, которые гибнут только потому, что им недостает религиозного воспитания… Как скоро женщина знает бога и умеет молиться, она безопасна от всяких соблазнов, она не может нарушать свой долг… О! Для нас большое утешение, что мы можем спасти от порока такие интересные жертвы!
Маркиз с живостью одобряет слова графини. Без религии нравственность невозможна. Он посетил несколько дней тому назад пансионерок приюта св. Марии. Они очень милы. Он заметил одну маленькую блондинку, настоящего ангела, с большими голубыми глазами, небесной кротости. Граф прислушивается к этому описанию, и в его тусклых глазах зажигается пламя, а отвислая губа невольно улыбается. Потом внезапно он разразился следующей громкой тирадой: