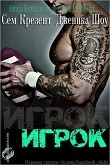Текст книги "Собрание сочинений. Т.23. Из сборника «Новые сказки Нинон». Рассказы и очерки разных лет. Наследники Рабурдена"
Автор книги: Эмиль Золя
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 44 страниц)
Впрочем, Адель, лежа в постели, не перестает следить за делами. Она интересуется тем, бойко ли идет торговля, каждый вечер спрашивает мужа, велика ли выручка за день, тревожится о ходе инвентаризации. Когда муж на минутку заходит к ней, она не говорит с ним о своем здоровье, а только спрашивает, выяснен ли уже размер прибыли за истекший год. Для нее большое огорчение узнать, что результат не блестящий, – на тысячу четыреста франков меньше, чем в предыдущем году. Томясь в лихорадке, она все еще напоминает о заказах, принятых неделю назад, разбирается в запутанных счетах, управляет домом.
Если муж дольше обычного задерживается у ее постели, она сама гонит его в магазин. От его присутствия она не выздоровеет, а всякая отлучка вредит делу – ведь приказчики, наверное, зевают по сторонам. Она вновь и вновь повторяет:
– Иди, дружок, мне ничего не надо, уверяю тебя. И не забудь закупить побольше классных журналов. Скоро начнутся занятия в школах, у нас их может не хватить.
Адель долго обманывает себя насчет своего состояния. Она все еще надеется не сегодня-завтра встать с постели и снова занять свое место за прилавком. Она даже строит планы: когда она поправится, они как-нибудь в воскресенье съездят в Сен-Клу. Ей никогда еще так страстно не хотелось видеть зеленеющие деревья. Но вдруг однажды утром она становится сосредоточенной, молчаливой. Предшествующей ночью она, лежа с открытыми глазами, в полном одиночестве, поняла, что скоро умрет. Весь день она молча размышляла, устремив глаза к потолку, а вечером задерживает мужа дольше обычного и говорит ему спокойно, как если бы речь шла о торговой сделке:
– Послушай, дружок, завтра ты сходишь за нотариусом. Он живет неподалеку, на улице Сен-Лазар.
– К чему это? – восклицает г-н Руссо. – Это совершенно лишнее, уверяю тебя!
Но она все так же спокойно и рассудительно продолжает:
– Возможно; но мне будет гораздо лучше, если я буду знать, что наши дела в порядке… Когда мы поженились, ни у тебя, ни у меня не было ничего. Сейчас, когда у нас кое-что есть, я не хочу, чтобы мои родные могли урвать у тебя хоть крупицу того, что мы нажили вместе. Агата, моя сестра, не так уж была добра ко мне, чтобы я хотела ее облагодетельствовать. Скорее я все заберу с собой, чем пойду на это.
Она упорствует, заставляет мужа обещать, что он завтра же исполнит ее просьбу. Нотариус приходит, и она долго расспрашивает его; она хочет, чтобы все было предусмотрено, чтобы родня не могла оспаривать ее последнюю волю. Когда завещание составлено и нотариус уходит, она, улегшись поудобнее, едва слышно говорит мужу:
– Теперь я могу спокойно умереть… Конечно, я заслужила отдых. Мне жаль, что не придется пожить в деревне. Но ты-то будешь там жить на покое! Обещай мне, что поселишься там, где мы хотели отдохнуть вместе. Знаешь, в той деревушке, где родилась твоя мать, под Меленом. Это мне будет приятно.
Господин Руссо плачет горькими слезами. Жена утешает его, дает ему добрые советы: если одиночество станет его тяготить, пусть женится вторично; но только на женщине в летах, ведь молодые девушки выходят за вдовцов из голого расчета. Она сама называет одну знакомую, – если он женится на ней, она будет спокойна за него.
Ночью наступает мучительная агония; Адель задыхается, просит открыть окно. Франсуаза дремлет, сидя на стуле. Г-н Руссо стоит у изголовья; единственное, что он может сделать, это обеими руками сжимать руку умирающей, чтобы дать ей почувствовать, что он с ней, что он не отходит от нее. Утром ей вдруг становится гораздо легче; она лежит белая как полотно, с закрытыми глазами и тихо, ровно дышит. Муж решает, что он может вместе с Франсуазой сойти вниз, открыть магазин. Вернувшись в спальню, он видит, что жена, все такая же бледная, лежит в той же позе, вытянувшись во весь рост, но теперь глаза у нее широко раскрыты. Она умерла.
Слишком уж давно г-н Руссо ждал этой утраты; он не плачет, он всего-навсего изнемогает от усталости. Он вторично спускается вниз и смотрит, как Франсуаза снова закрывает ставни, затем пишет на листке бумаги: «Закрыто по случаю смерти» – и четырьмя облатками прикрепляет листок к ставням средней витрины.
Наверху, в спальне, Франсуаза все утро чистит и прибирает. Она вытерла тряпкой пол, вынесла пузырьки, поставила у кровати зажженную свечу и чашку со святой водой; ждут сестру покойной, пресловутую Агату, женщину с ядовитым языком, и служанка не хочет, чтобы сказали, что хозяйство у нее запущено.
Г-н Руссо послал одного из приказчиков выполнить все необходимые формальности. Сам он отправляется в церковь и в бюро похоронных процессий. Он долго спорит из-за цены. Если у него горе, это не значит, что он даст себя обжулить. Он очень любил свою жену, и если она еще может его видеть, ей, наверное, приятно, что он торгуется со священниками и гробовщиками. Однако он из-за своей доброй репутации в квартале хочет устроить приличное погребение. Наконец сговариваются: он заплатит сто шестьдесят франков за отпевание и триста – за похороны. Г-н Руссо подсчитывает, что вместе с мелкими расходами ему придется выложить не меньше пятисот франков.
Придя домой, он застает у тела жены свояченицу Агату, рослую сухопарую женщину с красноватыми глазами, с иссиня-бледными тонкими губами. Года три назад чета Руссо поссорилась с ней и перестала бывать у нее. Она величественно встает и обнимает шурина. Перед лицом смерти все распри забываются. Взглянув на умершую, у которой нос за эти часы заострился еще больше, а побелевшие щеки ввалились так, что ее трудно узнать, г-н Руссо, утром не проронивший ни слезинки, разражается рыданиями. Агата не плачет. Усевшись в самое удобное кресло, она медленно обводит глазами спальню, словно составляя подробнейшую опись обстановки. Пока она еще не заводила речи о денежных делах, но по всему видно, что она встревожена, что ей не терпится узнать, есть ли завещание.
В день погребения выясняется, что в бюро похоронных процессий произошла ошибка, – доставленный оттуда гроб слишком мал. Приходится послать за другим, а погребальная колесница уже прибыла; весь квартал в волнении. Для г-на Руссо эта проволочка – только лишняя мука. Ведь жена не воскреснет оттого, что ее так долго держат дома! Наконец прах бедняжки сносят вниз; гроб минут на десять выставляют в задрапированных черным дверях, на улице ждет человек сто – соседние лавочники, жильцы дома, друзья и знакомые обоих супругов, несколько одетых по-воскресному рабочих. Похоронное шествие во главе с г-ном Руссо направляется к церкви.
По пути следования процессии женщины останавливаются на тротуарах, быстро крестятся, шепотом переговариваются: «Кого это хоронят?» – «Владелицу писчебумажного магазина». – «Совсем еще молодая…» – «Вся высохла, бедняжка. Кожа да кости остались!» – «Ну что ж! Ей покойно будет лежать в земле! Никто из нас не знает, что его ждет!» – «Зажиточные люди, работали, трудились, чтобы под старость пожить в свое удовольствие. Да, уж теперь она, можно сказать, получит удовольствие». Соседки сочувственно смотрят на г-на Руссо, одиноко, с обнаженной головой шагающего за гробом. Лицо его бледно, ветер треплет редкие волосы.
В церкви священник торопливо, за сорок минут, отправляет службу; Агата сидит в первом ряду с таким видом, словно считает зажженные свечи. По всей вероятности, она находит, что шурин слишком расщедрился; ведь если завещания нет и она унаследует половину состояния, ей придется заплатить свою долю расходов на похороны. Священники дочитывают последнюю молитву; кропило переходит из рук в руки, почти все расходятся. Дамы садятся в погребальные кареты, которых всего три. За колесницей следует г-н Руссо, по-прежнему без шляпы, да человек тридцать близких знакомых, которым неловко уйти. Гроб покрыт скромной черной пеленой с белыми кистями, Прохожие приподнимают шляпы и, не останавливаясь, идут своей дорогой.
У г-на Руссо нет фамильного склепа; он арендовал на пять лет место на кладбище Монмартр, рассчитывая позднее купить место получше и перенести туда прах жены. Тогда она действительно обретет вечный покой. Колесница останавливается в конце длинной аллеи; гроб на руках несут между рядами скромных памятников к могиле, вырытой в мокрой земле. Провожающие молча переминаются с ноги на ногу. Священник, пробормотав краткую молитву, уходит. Во все стороны тянутся обнесенные оградами садики, могилы, на которых зеленеют деревья и цветут левкои; белые надгробные изваяния посреди всей этой растительности имеют нарядный, веселый вид. Один из памятников – стройная колонна, увенчанная символической урной, – производит сильное впечатление на г-на Руссо. Утром к нему назойливо приставал с рисунками мраморщик. Ему приходит мысль, что хорошо будет со временем, когда он купит место, поставить на могиле жены точно такую же колонну с такой же красивой вазой.
Немного погодя Агата уводит г-на Руссо; по возвращении она наконец решается поговорить о делах. Узнав, что покойница оставила завещание, она встает, выпрямляется во весь рост и, хлопнув дверью, уходит, Ее ноги больше не будет в этой лавчонке!
Господин Руссо остается один; временами его все еще душат приступы горя; но сильнее всего его угнетает неотвязная, опустошающая мозг, раздражающая тело мысль, что магазин закрыт в будний день.
IV
Январь для четы Морисо выдался трудный. Не было ни работы, ни хлеба, ни угля. Они пропадали от нужды. Жена – прачка, муж – каменщик. Живут Морисо в центре квартала Батиньоль в мрачном доме, смердящем на весь квартал. Комната, которую они занимают на шестом этаже, полуразрушена, сквозь трещины потолка ее заливает дождем. Но это еще с полбеды. Гораздо сильнее огорчает их другое: десятилетнему Шарло, их сынишке, нужно было бы хорошее питание, чтобы расти и крепнуть.
Мальчик слабенький, ему достаточно пустяка, чтобы слечь; когда он ходил в школу, стоило ему только понатужиться, чтобы сразу выучить все уроки, и он заболевал. А ребенок способный, славный малыш, слишком развитой для своих лет. В те дни, когда у родителей нет хлеба для него, они плачут горькими слезами, тем более что по всему дому, сверху донизу, дети мрут как мухи, – такой он ветхий и смрадный.
На улицах скалывают лед. Отцу удалось наняться на эту работу; он киркой счищает лед со сточных канав и каждый вечер приносит домой два франка. Это как-никак даст возможность не умереть с голоду до начала строительного сезона.
Но однажды вечером он, придя домой, находит Шарло в постели. Мать не знает, чем малыш болен. Она послала его в Курсель, к тетке-старьевщице, узнать, не найдется ли у нее чего-нибудь потеплее парусиновой блузы, в которой он дрожит от холода. У тетки оказались только мужские пальто на большой рост, и мальчуган вернулся домой ни с чем, продрогший насквозь, с блуждающими глазами, точно пьяный. Теперь он, пунцовый от жара, лежит в кровати и бредит; ему чудится, будто он играет в шарики, он что-то напевает.
Мать завесила низ окна обрывком теплого платка. Одно из стекол разбито. Два верхних стекла скупо пропускают тусклый серый свет. Нужда дотла опустошила комод, все белье в ломбарде. Совсем недавно продали стол и два стула. Шарло раньше спал на полу; с тех пор как он заболел, родители уступили ему кровать, но не так уж в ней мягко лежать, – за время безработицы они горсть за горстью снесли почти всю шерсть тюфяка к тряпичнице, которая платит четыре-пять су за полфунта. Теперь отец и мать спят в углу, на соломенной подстилке, которою собака – и та погнушалась бы.
Родители молча смотрят, как Шарло мечется по кровати. Что стряслось с малышом? С чего это он несет всякую чушь? Может, его укусило вредное насекомое или его опоили каким-нибудь зельем? Заходит соседка, тетушка Бонне; приглядевшись к ребенку, она заявляет, что у него «простудная лихорадка»; она в этом понимает толк, у нее муж умер от такой болезни.
Мать, рыдая, сжимает Шарло в своих объятиях. Отец как безумный выбегает из дому за врачом. Вскоре он приводит врача – высокого мужчину надутого вида; тот, не говоря ни слова, выслушивает ребенка, выстукивает ему грудь. Затем тетушка Бонне, по его требованию, приносит из своей комнаты карандаш и бумагу, чтобы он мог написать рецепт. Когда врач, все так же упорно молча, собирается уходить, мать сдавленным голосом спрашивает его:
– Что с ним, сударь?
– У него плеврит, – отвечает врач отрывисто, без пояснений, и, в свою очередь, задает вопрос: – Вы зарегистрированы в бюро пособий?
– Нет, сударь… прошлым летом мы не нуждались. Зима нас угробила.
– Тем хуже! Тем хуже!
Он обещает зайти еще раз. Тетушка Бонне дает взаймы один франк на лекарство. На те два франка, что принес отец, покупают два фунта говядины, каменный уголь и свечи. Первая ночь проходит благополучно. Родители все время поддерживают огонь в печке. Больной ребенок, разморенный теплом, уже не болтает вздор. Худенькие ручки пышут жаром. Забытье, вызванное лихорадкой, успокаивает родителей; но на другой день они цепенеют от ужаса, когда врач, стоя у постели, покачивает головой с видом человека, знающего, что надежды уже нет.
Пять дней подряд положение не меняется. Шарло спит тяжелым сном, разметавшись на подушке. Нужда все усиливается – она словно врывается в комнату вместе с ветром через зияющие скважины потолка и оконных рам. На второй день болезни продали последнюю рубашку матери; на третий – выдернули из-под ребенка еще несколько пригоршней шерсти, чтобы заплатить аптекарю. А потом ничего не стало, все пришло к концу.
Морисо все еще скалывает лед, но двух франков уже не хватает. Так как сильный холод может убить Шарло, отец и мечтает, чтобы потеплело, и боится этого. Утром, идя на работу, он с радостью видит, что улицы белы от снега, но тотчас вспоминает о малыше, умирающем там, наверху, и молит, чтобы выглянуло солнце, чтобы дохнуло весенним теплом и снег стаял. Будь они, по крайней мере, зарегистрированы в бюро пособий, врач и лекарства им ничего не стоили бы. Мать пошла в мэрию, но там ей сказали, что заявлений очень много и придется подождать. Все же ей удалось выпросить несколько талонов на хлеб, да еще какая-то сердобольная дама дала ей пять франков. А потом снова настала лютая нужда.
На пятый день Морисо в последний раз принес два франка. Началась оттепель, его уволили. Это – конец всему: печку не топят, хлеба не покупают, лекарств не заказывают. В комнате с отсырелыми стонами отец и мать, коченея от холода, стоят возле малыша, дышащего шумно и хрипло. Тетушка Бонне больше не заходит к ним, – она женщина чувствительная и не хочет расстраиваться. Другие жильцы ускоряют шаг, проходя мимо их двери; временами мать, захлебываясь от слез, порывисто наклоняется и крепко обнимает ребенка, словно пытаясь этим облегчить его страдания и вылечить его. Отец, совсем отупевший, подолгу простаивает у окна; приподняв изодранный платок, он смотрит, как тает снег, как вода крупными каплями стекает с крыш, образуя на тротуарах темные пятна. Может быть, ребенку от этого станет легче? Однажды утром врач заявляет, что он больше не придет.
– Сырая погода его погубила, – прибавляет он.
Морисо угрожающе подымает кулак к небу. Значит, какая бы ни была погода, беднякам она несет гибель? Стоял мороз – это никуда не годилось; начало таять – и того хуже. Если бы только жена согласилась, он наложил бы полную печку угля и угар доконал бы их всех. Скорее бы отмучились! Но мать опять сходила в мэрию; на этот раз ей обещали прислать пособие, и они ждут.
Какой ужасный день! С закоптелого потолка несет холодом, в одном углу – течь, и пришлось подставить ведро, чтобы вода капала туда. Уже сутки они ничего не ели; ребенок выпил только чашку настоя из трав, который ему принесла консьержка. Отец сидит у стола, подперев голову руками; у него звенит в ушах, он ничего не соображает. Заслышав шаги, мать каждый раз бежит к двери, думая, что наконец несут долгожданное пособие. Уже пробило шесть часов, а никто не явился.
Медленно сгущаются грязно-серые сумерки, томительные и зловещие, как агония.
Вдруг в полумраке слышится голос Шарло; он прерывисто бормочет:
– Мама… мамочка…
Мать подходит. Шарло обдает ее жарким дыханием. Потом ничего уже не слышно; смутно видны очертания ребенка, запрокинутая голова, вытянутая шейка… Она в страхе, с мольбой кричит:
– Свет! Скорее свет… Шарло, скажи мне хоть слово!
У них нет даже огарка; мать торопливо чиркает одну спичку за другой, ломает их между пальцами, дрожащими руками ощупывает лицо малыша.
– О господи! Он умер! Скажи, Морисо, он вправду умер?
Отец, ничего не различающий во мраке, поднимает голову:
– Ну и что ж? Умер… Так лучше…
На крик матери г-жа Бонне решилась войти к соседям с зажженной лампой в руке. Когда обе женщины начинают обряжать Шарло, в дверь стучат: это принесли пособие – десять франков деньгами, талоны на хлеб и на мясо. Морисо с бессмысленным смехом говорит, что пособия, как поезда, всегда приходят с опозданием.
Какой жалкий детский трупик, исхудалый, легкий как перышко! Воробей, погибший от холода и подобранный на улице, занял бы не намного меньше места! Тем временем г-жа Бонне, снова ставшая очень услужливой, убеждает родителей, что сколько бы они ни морили себя голодом, Шарло этим не воскресить. Она предлагает сходить за хлебом и говядиной, заодно и свечей прихватит. Они дают ей распоряжаться. Вернувшись из лавки, она проворно накрывает на стол и подает горячие сосиски. Изголодавшиеся супруги жадно едят рядом с мертвым ребенком, чье заострившееся личико белеет во мраке. Печка пышет жаром, сытость и тепло действуют успокаивающе. Временами глаза матери увлажняются. Крупные слезы падают на ломоть хлеба, который она держит в руках. И подумать только, что Шарло мог бы погреться у печки, полакомиться сосисками!
Тетушка Бонне хочет во что бы то ни стало провести ночь возле покойника. Около двенадцати, – Морисо наконец заснул, положив голову на доски кровати, – женщины варят кофе. Приглашают еще и другую соседку, восемнадцатилетнюю швею; не желая угощаться за чужой счет, она приносит бутылку, на донышке которой водка. Женщины маленькими глоточками прихлебывают кофе, шепотом рассказывая друг другу всякие небылицы про покойников; постепенно их голоса начинают звучать громче, беседа принимает другой оборот, – судачат о соседях по дому и по кварталу, о преступлении, совершенном на улице Колле. Временами мать встает и пристально смотрит на Шарло, словно желая убедиться, что он не пошевельнулся.
Они не заявили с вечера о смерти ребенка, поэтому тело остается у них еще и на другой день – целые долгие сутки. У них одна комната; они живут с Шарло, едят и спят с ним вместе. Минутами они забывают о нем, а потом, взглянув на трупик, снова остро переживают свою утрату.
Наконец на третий день приносят гроб величиной с ящик для игрушек; четыре кое-как сколоченные доски, бесплатно выданные мэрией на основании свидетельства о бедности. Скорее в путь! Погребальные дроги несутся вскачь. Гроб Шарло провожает не много народу: отец с двумя приятелями, которые попались ему навстречу, мать, тетушка Бонне да еще вторая соседка, швея. Они идут по колено в грязи. Дождя нет, но стоит густой туман, такой влажный, что одежда промокает насквозь. В церкви священник торопливо отправляет службу, и они снова шагают по грязной мостовой. Кладбище – у черта на рогах, позади линии бывших укреплений. Нужно пройти всю улицу Сент-Уан и миновать заставу. Наконец они у цели. Большой пустырь, отрезок обширного поля, обнесенный выбеленной каменной стеной. Там растет чахлая трава, кое-где свежевзрыхленная земля лежит буграми, в глубине виднеется несколько жалких деревьев, черные ветки которых грязнят мглистое небо. Шествие медленно движется по вязкому грунту. Пошел дождь; под ливнем дожидаются старика священника, который нехотя выходит из убогой часовни.
Шарло заснет навеки в общей могиле. Поле усеяно крестами, вывороченными ветром, и сгнившими от дождя венками; последний приют нищеты и горя, заброшенный, весь изрытый, пропахший смрадными испарениями трупов тех несчастных, кого голод и холод косят в предместьях Парижа.
Все кончено. Комья земли падают в яму, на дне которой лежит Шарло, и родители уходят; они даже не могли преклонить колена в жидкой грязи, хлюпающей под ногами. Так как дождь льет не переставая, Морисо, выйдя из ограды, предлагает товарищам и соседкам пропустить по рюмочке в соседнем кабачке, – ведь у него еще осталось три франка из тех десяти, что ему выдало бюро пособий. Садятся за столик, распивают два литра вина, съедают по кусочку сыра. Затем приятели Морисо, в свою очередь, заказывают еще два литра, и вся компания слегка навеселе возвращается в Париж.
V
Жану-Луи Лакуру семьдесят лет. Он уроженец Ла-Куртейль, глухой, заброшенной деревушки, где всего сто пятьдесят жителей. За всю свою жизнь он один-единственный раз побывал в Анжере, в пятнадцати лье от дома; но он был так мал, что ничего не помнит. У него трое детей: два сына, Антуан и Жозеф, и дочь Катрина. Она была замужем, но овдовела и вернулась к отцу с сынишкой, двенадцатилетним Жакине. У всей семьи пять-шесть арпанов пашни, ровно столько, чтобы скудно питаться и не ходить нагишом. Если они изредка выпивают стакан вина, он выжат кровавым потом.
Деревушка находится в ложбине, окруженной лесами, которые замыкают селение и прикрывают его. Церкви там нет, община слишком бедна. Мессу служит священник соседней деревни Лекормье; но так как она находится в двух лье от Ла-Куртейль, он приезжает только раз в две недели. Дома – два десятка покосившихся лачуг – разбросаны вдоль проезжей дороги. У порогов куры клювом разрывают навоз. Когда проходит чужой человек, женщины вытягивают шею, а дети, разлегшиеся на солнцепеке, удирают вперегонку со стадом перепуганных гусей.
Жан-Луи никогда не болел. Старик высок и кряжист, как дуб. Солнце иссушило его кожу, она потемнела и потрескалась; он – одного цвета с деревьями, ему передались их сила и спокойствие. К старости Жан-Луи перестал разговаривать. Он находит, что это лишнее, и почти всегда молчит. Он идет крупным, ровным шагом, могучий и невозмутимый, как вол.
В прошлом году Жан-Луи еще был сильнее своих сыновей; самую тяжелую работу он оставлял за собой, молча трудился на пашне, которая, казалось, знала его и трепетала перед ним. Но месяца два назад у него вдруг что-то хрястнуло в костях, он, как срубленное дерево, рухнул поперек борозды и пролежал там два часа. На другой день он попытался снова взяться за работу, но сила ушла из рук, земля перестала ему повиноваться. Сыновья покачивают головой, дочь пытается удержать его дома, но он упорствует. Тогда с ним отправляют на поле маленького Жакине, чтобы тот позвал на помощь, если дед свалится с ног.
– Что ты здесь делаешь, лентяй? – спрашивает Жан-Луи парнишку, который ходит за ним по пятам. – В твои годы я сам себе зарабатывал кусок хлеба.
– Ведь я вас стерегу, дедушка, – отвечает Жакине.
Старик потрясен этими словами. Он больше ничего не говорит. Вечером он ложится спать – и уже не встает с постели. На другое утро сыновья и дочь, встревоженные тем, что отца не слышно, заходят к нему, прежде чем уйти в поле. Он лежит на кровати, вытянувшись во весь рост, широко раскрыв глаза, с сосредоточенным видом. Кожа у него такая темная, заскорузлая, что по ее цвету никак не разобрать, чем он болен.
– Что с тобой, отец? Захворал, что ли?
Он с глухим ворчаньем трясет головой.
– Значит, не пойдешь с нами? Мы уйдем одни…
– Ладно! – Он знаком велит им уйти без него. Жатва в самом разгаре, дорог каждый час, все руки на счету. Потеряешь ясный день, а потом, не ровен час, буря разметает скирды! Жакине – и тот плетется за взрослыми. Старик Лакур остается один. Вечером, возвращаясь, они находят его все в том же положении: он по-прежнему лежит на спине, широко раскрыв глаза, с задумчивым видом.
– Ну как, отец, тебе не лучше?
– Нет, не лучше. – Он глухо ворчит, тряся головой.
Что сделать, чтобы ему полегчало? Катрина поит его вином, вскипяченным с лекарственными травами; но это слишком сильное средство, больной от него едва не отправляется на тот свет. Жозеф говорит, что утро вечера мудренее, и все ложатся спать.
На другой день сыновья и дочь на минуту задерживаются у кровати старика, прежде чем уйти в поле. Ну, разумеется, он очень болен! Он никогда еще так не валялся врастяжку. Пожалуй, следовало бы все-таки позвать врача! Плохо то, что врач живет в Ружмоне. Шесть лье в один конец, шесть лье в другой, всего – двенадцать. Целый день пропадет зря! Старик молча прислушивается к разговору детей, он заметно волнуется и как будто сердится. Ему не нужен врач; это ни к чему, да и стоит денег.
– Ты не хочешь? – спрашивает Антуан. – Тогда мы пойдем в поле.
Разумеется, пусть идут. От того, что они будут торчать при нем, ему легче не станет. Полю забота нужнее, чем ему.
Так проходят три дня; дети старика каждый день уходят на страду, в поле. Жан-Луи остается один; старик лежит неподвижно; когда ему хочется пить, он рукой достает жестяную кружку. Он – как те старые клячи, которые в изнеможении валятся наземь где-нибудь в углу и околевают, всеми заброшенные. Он проработал шестьдесят лет, ему пора уйти, раз он уж годится только на то, чтобы занимать место и мешать людям.
Сыновья и дочь не очень печалятся об отце. Земля приучила их к чередованию жизни и смерти; они слишком близки к ней, чтобы сетовать на нее за то, что она забирает у них старика. Заглянуть к нему утром, заглянуть вечером – вот все, что они могут для него сделать. Если отец, против ожидания, поправится, значит, он очень крепкого здоровья. Умрет, – значит, смерть засела в нем, а всем известно: уж если смерть засела в теле, ее никакими силами, ни молитвами, ни лекарствами, не вытравить оттуда. Корову – ту еще можно вылечить.
По вечерам Жан-Луи взглядом спрашивает детей о жатве. Когда он слышит, как они считают скирды, как они радуются тому, что благодаря хорошей погоде работа кипит, в его глазах светится радость. Раза два опять заговаривают о том, что хорошо бы за врачом сходить, но старик начинает сердиться, и дети боятся, что он скорее умрет, если ему будут перечить. Он только просит, чтобы к нему позвали его старого приятеля, полевого сторожа.
Дедушка Никола старше Лакура, ему в сретение стукнет семьдесят шесть лет. Никола, все еще прямой, как тополь, приходит и со степенным видом садится возле кровати больного. Тот уже не в состоянии говорить, а только пристально смотрит на старого приятеля выцветшими глазами. Дедушка Никола тоже не отрывает взгляда от Жана-Луи и тоже молчит – ему нечего сказать. Так оба старика безмолвно глядят друг на друга в течение часа, счастливые тем, что свиделись, наверное, вспоминая давно минувшие годы. А вечером того же дня Жозеф, возвратясь с поля, видит, что старик мертв; он лежит на спине, закостеневший, уставясь в пространство.
Да, старик отошел тихо, незаметно. Его последний вздох замер в сельских просторах, слился с несметным множеством других вздохов. Подобно животным, которые, чувствуя приближение смерти, тихо забиваются в укромный уголок, он даже не обеспокоил никого из соседей, он сам справился с этим делом.
Жозеф скликает всех домашних:
– Отец умер!
Они не испытывают удивления. Жакине с любопытством вытягивает шею. Катрина шумно сморкается; сыновья молчат, их лица хмурятся и бледнеют под густым загаром. «А все-таки долго прожил старик, здоровяк был», – думают они. Эта мысль утешает детей, они гордятся тем, что в их роду все такого крепкого сложения.
Вечером они часов до одиннадцати бодрствуют у гроба отца; затем всех одолевает сон, и Жан-Луи снова остается, один; на его лице все то же выражение сосредоточенного раздумья.
Жозеф чуть свет идет в Лекормье уговориться со священником, Антуан и Катрина уходят на поле – ведь еще не все скирды убраны. Жакине оставляют караулить тело. Парнишке скучно возле неподвижно распростертого старика, и он время от времени выбегает на дорогу, швыряет камнями в воробьев, смотрит, как разносчик показывает двум соседкам пестрые головные платки; затем, вспомнив о дедушке, он торопливо бежит домой, удостоверяется, что тот не двинулся с места, и опять выбегает поглазеть, как дерутся две собаки.
Куры входят в открытую дверь, спокойно разгуливают по комнате, разрывают клювом земляной пол. Большой красный петух, обеспокоенный видом недвижного тела, присутствие которого он никак не может себе объяснить, гордо выпрямляется на жилистых лапах, вытягивает шею, таращит блестящие глаза; петух осторожен и сметлив, наверно, он знает, что не в привычках старика залеживаться в постели после восхода солнца; постояв в раздумье, он испускает пронзительный, как звук рожка, победный крик; куры степенно выходят из лачуги, громко кудахча и царапая землю клювом.
Священник может прийти только к пяти часам вечера. С раннего утра слышно, как тележник распиливает доски и вколачивает гвозди. Те, до кого новость еще не дошла, говорят:
– Вот оно что! Значит, Жан-Луи помер!
Ведь жителям Ла-Куртейль эти звуки хорошо знакомы.
Антуан и Катрина пришли с поля; жатва убрана, они не могут сказать, что недовольны ею, – такого урожая не запомнят за последние десять лет.
Вся семья ждет священника; чтобы скоротать время, каждый занялся каким-нибудь делом. Катрина поставила вариться похлебку, Жозеф носит воду, Жакине послали на кладбище – посмотреть, вырыта ли могила. Священник является около шести часов. Он приехал в двуколке, с подростком, который заменяет ему причетника.
У дома Лакуров он сходит с двуколки, разворачивает газету, вынимает из нее стихарь и епитрахиль и облачается, говоря:
– Начнем скорее, я должен вернуться к семи часам.
Но никто не торопится. Идут за двумя соседями, которые обещали понести покойника на почерневших от времени деревянных носилках. Когда наконец все в сборе, прибегает запыхавшийся Жакине и кричит, что могилу еще не кончили рыть, но что уже можно идти.
Священник идет первым, читая молитвы по-латыни. За ним следует причетник, держа в руках старую медную погнутую чашу со святой водой и кропилом. На середине деревни навстречу им из сарая, где каждые две недели служат обедню, выходит другой подросток с насаженным на длинную палку крестом в руках и становится во главе шествия. Семья умершего идет за гробом; постепенно к ней присоединяются все жители деревни; шествие замыкают деревенские мальчишки, без шапок, оборванные, босые.
Кладбище – на другом конце деревни: путь не близкий, соседи трижды ставят носилки наземь, чтобы отдышаться. Всякий раз все останавливаются и поджидают их. Деревянные башмаки гулко стучат по пересохшей земле. Когда доходят до кладбища, оказывается, что могила не готова; могильщик еще стоит в ней, выбрасывая землю, и то исчезает из виду, то снова появляется.