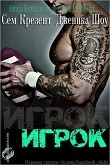Текст книги "Собрание сочинений. Т.23. Из сборника «Новые сказки Нинон». Рассказы и очерки разных лет. Наследники Рабурдена"
Автор книги: Эмиль Золя
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 44 страниц)
I
Где она, эта деревушка? За каким пригорком прячутся ее белые домики? Теснятся ли они вокруг церкви, что внизу, в ложбине, или весело выстроились вдоль проезжей дороги? А быть может, словно шаловливые козочки, карабкаются по склонам холма, громоздясь друг над другом, и красные их кровли утопают в зелени.
Ласкает ли слух ее название? Приятно ли оно для уст француза или это тяжеловесное немецкое слово с бесконечными согласными, звучащее будто хриплое карканье ворона?
Живут ли в деревушке пахари иль виноградари? Нивы иль виноградники покрывают край? Чем в этот час заняты ее жители, работают в поле на солнцепеке? А возвращаясь вечером домой, останавливаются ли они на тропинке, чтобы порадоваться плодам своего труда и поблагодарить бога за урожайный год?
II
Я легко представляю ее себе на холме. Она скромно притаилась среди деревьев, и хижины ее кажутся издали разбросанными по поляне замшелыми валунами. Но среди ветвей вьется дымок, а по тропке, сбегающей по склону, дети везут тачку. И теперь смотришь на нее с завистью, а уходя, уносишь с собой воспоминание об этом нечаянно увиденном гнездышке.
Нет, скорее деревушка мерещится мне в укромном уголке долины, на берегу речки. Она так мала, что густая листва тополей скрывает ее от посторонних глаз. Ее хижины, подобно стыдливым купальщицам, прячутся в прибрежном ивняке. Зеленая лужайка служит ей ковром; со всех сторон, словно огромный сад, опоясана она живой изгородью. Пройдешь мимо и не заметишь ее. Звонкие голоса женщин, стирающих белье на речке, кажутся щебетом малиновок. Ни струйки дыма вокруг. Деревушка безмятежно спит в своем зеленом алькове.
Никому из нас она не знакома. Соседний город, пожалуй, и не подозревает о ее существовании, она столь непримечательна, что ни один географ не заинтересовался ею. Никому до нее нет дела. Ее имя не пробуждает воспоминаний. Среди городов со звучными названиями – она незнакомка, которая застенчиво держится в стороне; она не знает ни славы побед, ни позора поражений.
И, верно, поэтому так ласково улыбается деревушка. Крестьяне там живут в мирном уединении; мальчишки возятся на песке у воды, женщины прядут в тени деревьев. Она счастлива в своей безвестности, она благоденствует. Как далека она от суеты и грязи больших городов! Она довольствуется отпущенным на ее долю солнечным светом, она радуется своей уединенности, густой листве тополей, скрывающих ее от всего света.
III
Но завтра, быть может, весь мир узнает о существовании этой деревушки.
О, горе! Река обагрится кровью, пушки скосят густую листву тополей, развороченные хижины обнажат немое людское горе, – деревушка прославится.
Не слышно больше пения женщин, стирающих белье, мальчишки не играют на берегу, нет больше обильного урожая, ни тишины, ни счастливой безвестности. В истории появится новое название – победа или поражение, – новая кровавая страница, новый уголок в стране, политый кровью наших сынов.
Деревушка улыбается, мирно дремлет, она не ведает, что завтра будет рыдать, что ее именем будет названа бойня и это имя прозвучит в Европе, как предсмертный хрип. Она останется на земле кровавым пятном. Ее, такую веселую, такую приветливую, окружат зловещие тени. Люди, бледнея, пройдут мимо ее развалин, как бледнеют они, проходя мимо стен морга. Ее будут проклинать.
Если имя ее Аустерлиц или Маджента, оно отзовется у нас в сердце громом труб. А если Ватерлоо, оно прозвучит в нашей памяти, словно зловещая дробь увитого черным крепом барабана, который возглавляет траурный кортеж на похоронах нации.
Как пожалеет тогда деревушка о своих пустынных берегах, о простодушных крестьянах, об укромном уголке вдали от людей, уголке, куда дорогу знали лишь весенние ласточки. Оскверненная, опозоренная деревушка, над которой кружат стаи воронья, а тучная земля издает запах тлена, будет жить в веках как разбойничье гнездо, как страшное место, где два народа перерезали друг другу глотку.
Деревушка, прелестное мирное гнездышко, станет погостом, братской могилой, на которую безутешные матери не придут возлагать венки.
IV
Франция рассеяла по всему свету свои кладбища. Во всех концах Европы мы могли бы преклонить колена и вознести к небу молитву. Наши кладбища зовутся не только Пер-Лашез, Монмартр, Монпарнас; они носят названия всех наших побед и поражений. И нет на земле ни одного уголка, от Китая до Мексики, от снегов России до песков Египта, где бы ни покоился сраженный француз.
Молчаливые, заброшенные кладбища спят тяжким сном в сельской тиши. Почти все они расположены у околицы унылой деревеньки, разрушенные стены которой еще хранят следы страшного прошлого. Ватерлоо была всего лишь простой фермой, Маджента едва насчитывала пятьдесят домов. Смертоносный вихрь пронесся над этими крошечными селениями, от их названий, вчера еще невинных, теперь разит кровью и порохом, и, произнося их, человечество будет вечно содрогаться.
Задумчиво смотрел я на карту театра войны. Я мысленно следовал по берегам Рейна, я вопрошал долины и горы. Слева или справа от реки была эта деревушка? Где искать ее – вблизи крепости или вдали, среди безлюдных просторов?
И, закрыв глаза, я попытался вообразить себе эту мирную сельскую тишину, завесу густой листвы тополей, выстроившихся перед белыми домиками, лужайку и проносящихся над ней ласточек, песни женщин у реки, – этот девственный уголок, что вскоре осквернит война, трубы которой громогласно возвестят на весь мир о совершенном злодеянии.
Где же она, эта деревушка?
Перевод Г. Гольдберг
ВОСПОМИНАНИЯI
О, нескончаемый дождь, серый дождь, застилающий беспросветною пеленою майское и июньское небо! Подходишь к окну, приподнимаешь краешек занавески. Солнце утонуло во мгле. Бледное, позеленевшее, оно всплывает лишь изредка, когда чуть прояснится, и можно подумать, что с тоски оно порешило с собой и теперь вытаскивают багром из воды его разбухшее мертвое тело.
 Помнишь, Нинон, этот пронизывающий весенний ветер и дождь? Когда мы уезжали из Парижа, была весна поэтов, та весна, о которой мы втайне мечтали, пора тепла, когда всюду ковры цветов, когда сумерки медлительны и томны. Приезжаем вечером. Небо без проблеска, закат без единого уголька – потухший очаг с горсткою холодного пепла. Шагаем через лужи, мокрые ветки хлещут нас по спине, промокаем до нитки. И когда потом добираемся до большой мрачной комнаты, где еще чувствуется зима, дрожим от холода, закрываем окна и двери, разжигаем ярким огнем лозу в камине и проклинаем нерадивое солнце.
Помнишь, Нинон, этот пронизывающий весенний ветер и дождь? Когда мы уезжали из Парижа, была весна поэтов, та весна, о которой мы втайне мечтали, пора тепла, когда всюду ковры цветов, когда сумерки медлительны и томны. Приезжаем вечером. Небо без проблеска, закат без единого уголька – потухший очаг с горсткою холодного пепла. Шагаем через лужи, мокрые ветки хлещут нас по спине, промокаем до нитки. И когда потом добираемся до большой мрачной комнаты, где еще чувствуется зима, дрожим от холода, закрываем окна и двери, разжигаем ярким огнем лозу в камине и проклинаем нерадивое солнце.
Целую неделю дождь не выпускает нас из дому. Вдали, среди затопленных лугов, все та же завеса из тополей; и кажется, что деревья тают в воде, которая струится по их телам, изможденным, едва различимым среди окутавшего их тумана. И все становится серым от дождевой пыли, катящейся клубами, застилающей горизонт. Начинаешь зевать, хочешь немного развлечься, глядя на уток, которые не робеют под ливнем, и на проходящих мимо укрытых синими зонтиками крестьян. Но зевота одолевает. Камины дымят, дрова сырые, с них течет, они никак не хотят гореть. Кажется, что это всемирный потоп, что волны рокочут уже у дверей и, будто тонкий песок, забираются в дом сквозь каждую щель. С отчаяния снова садишься в поезд, возвращаешься в Париж, махнув рукою на солнце и на весну.
И вместе с тем ничто не наводит на меня такой тоски, как вид фиакров, которые несутся к вокзалам. Они завалены дорожными сундуками, они проезжают по городу, улыбаясь, словно арестанты, только что освобожденные из-под стражи.
Я шагаю по тротуару и вижу, как они уносятся к голубым рекам, к водной шири, к высоким горам, к густому лесу. Вот этот направляется, быть может, к скалистому ущелью, тому самому, что недалеко от Марселя; там хорошо – там можно раздеться донага, как в купальной будке, и туда забираются волны. А другой, должно быть, торопится в Нормандию, в тот утопающий в зелени уголок, который я так люблю, возле пригорка; там – виноградники, там делают кисленькое винцо, – оно так приятно щекочет горло. А вон тот, видно, мчится в неведомую даль, куда-то, где, наверное, чудесно, то ли в тени, то ли на солнце, уж не знаю, словом, туда, куда мне не терпится поехать.
Кучера хлещут лошадей кнутом. Им даже не приходит в голову, что они подстегивают мою мечту. Они думают о том, что сундуки большие, а чаевые невелики. Им и невдомек, что они причиняют столько горя проходящим мимо бедным юнцам, – те могут передвигаться лишь на своих на двоих, подошвам их суждено порыжеть на парижских улицах, под июльским и августовским зноем.
О, эта вереница нагруженных сундуками фиакров, которые мчатся к вокзалам! Будто вдруг распахнули клетку и оттуда выпорхнули счастливые птицы! О, свобода, жестокая насмешница, что проносится мимо, по всей этой каторге наших улиц и площадей! О, кошмар, что каждую весну терзает меня в моей тюрьме, разжигая в сердце моем ненасытную тягу к зеленой листве и синему небу!
Я хотел бы сделаться маленьким, совсем маленьким и забраться в дорожный сундук вон той дамы в розовой шляпке, чья карета направляется к Лионскому вокзалу. Как, должно быть, уютно там, в ее сундуке! Там, верно, сложены шелковые юбки, топкое белье и много всего другого, и все такое мягкое, теплое, ароматное. Я растянусь где-нибудь на светлом атласе, положу голову на батистовые платочки, а если озябну, ну что ж, тогда я накроюсь всеми этими юбками!
Она ведь прехорошенькая, эта дама. Ей самое большее двадцать пять. Очаровательный подбородок с ямочкой, которая, верно, становится глубже, когда она смеется. Мне хочется ее рассмешить, чтобы это видеть. Черт возьми, и счастливец же кучер, который ее везет! Она, должно быть, любит запах фиалки. Я уверен, что ее белье пахнет фиалками. Это восхитительно. Я путешествую в ее дорожном сундуке целыми часами, целыми днями. Я вырыл себе норку в левом углу между пачкой сорочек и большой картонкой, которая мне немного мешает. Меня разобрало любопытство, и я приоткрыл крышку: там оказались две шляпы, маленький бумажник, полный писем, и потом еще вещи, на которые я не захотел смотреть. Я подложил картонку себе под голову вместо подушки. Я все еду, еду. Справа от меня чулки, подо мной три костюма, а с левой стороны что-то более твердое, должно быть, маленькие ботинки, их несколько пар. Господи, до чего же мне хорошо среди всех этих благоухающих тряпок!
Куда же мы все-таки едем? Остановимся мы в Бургундии? Завернем по дороге в Швейцарию или устремимся прямо в Марсель? Я мечтаю, что мы поедем в скалистое ущелье, в то самое, где можно раздеться донага, как в купальной будке, и куда забираются волны. Она будет купаться. Мы будем за тысячу верст от всех дураков. Залив совсем круглый и выходит на синее-синее Средиземное море. Наверху, над ущельем – три сосны. Мы станем ходить босиком по плоским желтым камням, которыми вымощено дно моря, и кончиком ножа соскребывать моллюсков. На вид она нисколько не чопорна. Ей понравится на свежем воздухе, и мы будем резвиться с ней, как мальчишки. Если она не умеет плавать, я ее научу.
Сундук отчаянно подбрасывает. Верно, мы катимся сейчас по Лионской улице. А как будет чудесно, когда она приедет в Марсель и откроет свой дорожный сундук! И удивится же она, заметив меня там, в левом углу. Только бы не помять все эти воздушные платья, на которых я разлегся!
– Как, сударь, вы забрались сюда, вы могли решиться!
– Ну разумеется, сударыня. Когда человек бежит из тюрьмы, он решается на все…
И я ей все объясню, и она меня простит.
Вот мы и на вокзале! Мне кажется, что меня сдают в багаж…
Увы, увы! Идет дождь, и дама в розовой шляпке уезжает одна, под дождем, со своим большим сундуком, скучать где-то в провинции, у старой тетушки, где ей придется дрожать от холода и зябнуть этой навевающей тоску промозглой весною.
II
Надо прожить много лет в благочестивом и патриархальном дворянском городке, в одном из тех маленьких городков, где на улицах растет трава и где колокольный звон монастырских церквей звучит в сонном воздухе, чтобы понять, что такое еще и теперь процессия в день праздника тела господня.
В Париже четыре священника обходят вокруг церкви св. Магдалины – и все. В Провансе целую неделю в городе заправляет всем духовенство. Все средневековье воскресает в эти ясные дни и, выйдя на улицу, шествует со свечами в руках, поет псалмы; возглавляют процессию два полицейских, а замыкает ее мэр города с перевязью через плечо.
Помнится, для нас, школьников, это были радостные дни, самым большим удовольствием для нас было торчать на улице! А уж если договаривать до конца, то в этих дышащих любовью городках процессии благоприятствуют влюбленным. На всем протяжении шествия девушки выставляют напоказ свои новые платья. Без обновки дело не обходится. Нет такой бедной девушки, которая к этому дню не сшила бы себе ситцевого наряда. А вечером в церкви темно, и сколько рук находят друг друга!
Я играл тогда в духовом оркестре, непременном участнике всех торжеств. На совести у меня тяжкие прегрешения. Каюсь: в те времена я не раз игрывал серенады под окнами чиновников, возвращавшихся из Парижа с орденом Почетного легиона. Каюсь: я не раз принимал участие в благославляемых властями процессиях, когда по улицам проносят изображения Христа, угодников, ведающих дождями, пресвятых дев, исцеляющих от холеры. Как-то я даже помогал перевозить на новое место женский монастырь. Несчастные монашенки, кутаясь в широкие серые плащи, чтобы нельзя было разглядеть ни лиц их, ни тол, часто спотыкались и, поддерживая друг друга, скользили, словно призраки, захваченные зарей, а из серых складок плащей выглядывали маленькие, совсем еще детские белые ручки.
Увы! должен признаться, я вкушал монастырские яства. Платить нам ничего не платили, нас угощали вместо этого пирожками. Помнится, в день, когда затворницы прибыли в новый монастырь, нам подали еду на особом вращающемся столике. Бутылки, тарелки с пирожками появлялись одна за другой из стены, словно по какому-то волшебству. А какие бутылки, великий боже! Всевозможнейших форм и цветов, с разнообразнейшими напитками. Я не раз мечтал об удивительном погребе, в котором хранится такое необычайное разнообразие изысканных вин. Кружилась голова от всех этих услад.
Я долго потом искупал свои греховные заблуждения, и мне кажется, что меня простили.
С самого утра улицы, по которым должна была следовать процессия, всячески украшаются. Что-нибудь да свешивается с каждого подоконника. В богатых кварталах это старинные гобелены с изображением древних богов и героев – весь языческий Олимп, обнаженный и потускневший, взирающий на Олимп католический с его девами восковой белизны и истекающими кровью Христами; порой это шелковые стеганые одеяла с постели какой-нибудь маркизы, камковые занавеси, снятые с окон в гостиной, бархатные ковры, всякого рода роскошные ткани, которым дивятся прохожие. Буржуа вывешивают свои вышитые муслины, свои самые тонкие полотна. А в бедных кварталах женщины, если у них нет ничего другого, пускают в ход косынки, платки, сшивая их по нескольку штук вместе. И вот город становится достойным господа бога.
Улицы подметены. Кое-где на углах поставлены переносные алтари. Эти алтари вызывают большую зависть и на долгие месяцы становятся яблоком раздора. Если алтарь в квартале Шартре окажется красивее, чем в квартале св. Марка, местные святоши выходят из себя. В украшении алтарей принимает участие весь квартал. Один несет подсвечники, другой – золоченые сосуды, третий – цветы, четвертый – кружева. Так жители квартала отмечают место, куда должна снизойти благодать.
А тем временем вдоль узких тротуаров расставляют стулья. Любопытные ждут, шумят, смеются особым смехом Прованса, звонким, как рожок. Народ высовывается из окон. Удушливая жара спадает. И поднявшийся легкий ветерок разносит колокольный звон, смешанный с раскатами барабанов.
Это процессия выходит из церкви.
Все совершается строго по распорядку. Впереди шествуют все молодые красавцы города. Они явились, чтобы на людей посмотреть и себя показать. В дверях стоят девушки. Молодые люди скромно приветствуют их, улыбаются им, перешептываются с товарищами. Они проходят так через весь город между двумя рядами разукрашенных окон только ради того, чтобы каждый мог очутиться на миг у заветного окна. Там ему надо только поднять голову – и все. День выдался теплый; звонят колокола, дети кидают в сточные канавки и на мостовую пучки цветущего дрока и целые горы розовых лепестков.
Улица вся розовая; и на этом бледном кармине разостланы золотистые скатерти дрока. Сначала появляются два полицейских. Потом – вереница детей из приютов, пансионаты, братства, пожилые дамы, пожилые господа. В руках причетника покачивается распятие. Приземистый монах тащит затейливую эмблему, где представлены все орудия страстей Христовых. Четыре девицы, такие здоровенные, что, кажется, белые платья не выдержат их телес и вот-вот лопнут, придерживают ленты огромной хоругви, на которой изображен невинно спящий агнец. Потом над головами, в сиянии тускнеющих от солнца свеч, вздымаются серебряные кадильницы: они на мгновение вспыхивают, оставляя за собой клубы густого белого дыма, и можно подумать, что от потока муслиновых платьев оторвался огромный лоскут и теперь воспарил над ними.
Процессия движется медленно. Слышатся тихие шаги и неясный гул голосов. Но вот ударили в тарелки, вступила медь. Высокие голоса, нежные, чистые, тонут в весеннем воздухе. Губы что-то шепчут. И вдруг все стихает. Процессия неслышно окружает залитый солнцем алтарь, на котором поблескивают свечи. Вдали барабаны отбивают марш.
Мне вспоминаются кающиеся.Конгрегации эти до сих пор еще существуют и отличаются одна от другой цветом одежды: белые, серые, синие. На последних лежит тяжелая обязанность – хоронить тела казненных. Среди членов этой конгрегации можно встретить людей с громкими именами. В балахонах из синей саржи, с остроконечными, закрывающими лицо капюшонами, где оставлены только вырезы для глаз, они имеют зловещий вид. Вырезы бывают непомерно велики, глаза косят под этой устрашающею личиной. Из-под балахонов видны светло-серые штаны и лаковые ботинки.
Кающиеся представляют собой самое любопытное зрелище. Без них процессия теряет весь интерес. И, наконец, появляется духовенство. Иногда маленькие дети несут пальмовые ветки, колосья ржи на подушках, венки, золотую и серебряную утварь. Благочестивые зрители повертывают стулья спинками вперед, становятся на колени и смотрят вниз. Сейчас пронесут балдахин. Это монументальное сооружение, обтянутое красным бархатом, увенчанное султанами из перьев, водруженное на золоченых стойках. Мне довелось видеть, как помощники префекта и те собственноручно несли эти огромные носилки, дабы захиревшая религия могла подышать свежим воздухом и погреться на теплом июньском солнце. Мальчики-певчие пятятся назад, размахивая кадильницами. Протяжно гудят голоса священников, и при каждом взмахе цепи кадильниц серебристо позвякивают.
Это одряхлевшее католичество тащится, пошатываясь, под голубым небом своей старинной веры. Солнце садится; розовые отблески гаснут на крышах домов; великая нежность вместе с сумерками ниспадает на землю, процессия удаляется. И в прозрачном воздухе Юга слышны замирающие голоса, и с грустью думаешь, что от нас безвозвратно уходит целая эпоха.
Власти предержащие шествуют в своей парадной одежде; судейские, учебные заведения, не говоря уже о церковноприходских советах, следуют с резными золочеными фонарями в руках. Видение исчезает. Растоптаны розовые лепестки, смяты золотистые ковры дрока. И на мостовой слышен только терпкий запах увядших цветов.
Иногда процессию, проходящую по извилистым улицам старого города, застает темнота. Сверкающие белизною одежды становятся призрачными; кающиеся темною вереницею тянутся вдоль тротуаров. Горящие свечи среди плотно прижавшихся друг к другу черных зданий похожи на блуждающие огоньки, на медленно падающие звезды. И кажется, что голоса дрожат от страха перед всеми этими крестами, хоругвями, балдахином, распростершими свои мертвые руки, едва различимые во мраке.
В этот час юные сорванцы целуют девчонок. В глубинах церкви гудит орган, – господь бог вернулся домой. И молодые девушки расходятся с печатью поцелуя на шее и любовной запиской в кармане.
III
Когда пламенеющими вечерами я прохожу по мостам, Сена зовет меня ласковым журчаньем. Она течет, широкая, полная свежести, охваченная любовной истомой, предлагая себя, и, проходя между набережными, замедляет свою поступь. И кажется, что слышишь шуршанье муаровой юбки. Это полная страсти любовница, которая возбуждает в вас непреодолимое желание очертя голову кинуться в бездну.
Владельцы плавучих купален, с большим огорчением взиравшие на дожди, которые непрерывно шли в мае, блаженно обливаются потом под тяжким июньским зноем. Наконец-то вода стала теплой. С шести часов утра начинается давка. Не успевают высушивать купальные костюмы, а к вечеру не хватает и халатов.
Помню, как я в первый раз был в одной из таких купален, в одном из больших деревянных чанов, где купальщики кружатся, словно соломинки в кастрюле с кипящей водой.
Я приехал из маленького городка, с берегов маленькой речки, где я мог сколько угодно барахтаться на свободе, и меня поразил вид этой огромной кадки, в которой вода была совсем чернильной. Около шести часов вечера народ там кишмя кишит, и надо хорошо рассчитать свой прыжок, чтобы не угодить кому-нибудь на спину или не уткнуться в чужой живот. Вода пенится, белые тела бросают на нее слабые отблески, а натянутый на веревках тент пропускает только мутный, рассеянный свет.
Гвалт стоит невообразимый. Временами от стремительных прыжков поднимаются целые фонтаны. Шум такой, что кажется, будто вдали грохочет пушка. Находятся шутники, которые хлопают ладонями по воде, словно мельничные колеса; иные норовят броситься на воду плашмя, чтобы наделать побольше шума и залить всю купальню. Но все ничто по сравнению с невыносимым криком и визгом – словно в школе, на большой перемене. Окунувшись в свежую воду, взрослый человек впадает в ребячество. Прохожие, с важным видом гуляющие по набережной, испуганно поглядывают на колышущиеся тенты, между которыми прыгают голые дьяволы. Дамы стараются пройти побыстрее.
И, однако, я по-настоящему наслаждался там ранним утром, когда город еще дремлет. В эти часы купальни не кишат худосочными спинами, лысыми головами и отвислыми животами, которые появляются обычно во второй половине дня. Там почти пусто. Несколько молодых людей рассекают воду с искусством заправских пловцов. После ночного сна вода свежее. Она целомудреннее и чище.
Идти туда надо до пяти часов. Город пробуждается лениво и томно. Какое наслаждение гулять по набережным, глядя на реку с вожделением, как влюбленный. Она будет твоей. Там, в купальне, вода еще спит. Ты ее будишь. Ты можешь обнять ее в тишине. Ты чувствуешь, как она скользит у тебя по телу, как ласкает от головы до ног своей мимолетной лаской.
Восходящее солнце бросает розовые блики на развешанное на тенте белье. Потом от жгучих поцелуев реки по коже у тебя пробегает озноб, и тогда хорошо бывает завернуться в халат и походить под навесом. Ты – в Афинах, босой, с обнаженной шеей, в препоясанном на талии хитоне. Панталоны, жилет, сюртук, ботинки, шляпа – все осталось далеко. Телу твоему привольно среди этих широких складок. Воображение уносит тебя в греческую весну, на Архипелаг, на берег вечно синего моря.
Но едва только появится орда купальщиков, надо бежать. Они приносят уличный зной на своих подошвах. Река уже больше не девушка, которую ты будил на рассвете, днем это уличная девка, она отдается всем и каждому, она помята и вся распалена грубыми объятиями.
А сколько уродства! Дамы хорошо делают, что, проходя по набережным, ускоряют шаги. Никакая карикатура на музей диковин, родившаяся из-под пера насмешливого художника, не дойдет до такого горького комизма.
Раздеться донага – какое это страшное испытание для современного человека, для парижанина! Люди осмотрительные никогда не ходят в купальни. Как-то раз мне показали там одного государственного советника. Он был до того жалок со своими торчащими плечами и втянутым животом, что всякий раз, когда я натыкался на его имя в связи с чем-нибудь серьезным, я был не в силах сдержать улыбку.
Есть люди толстые и худые, высокие и коротышки; одни всплывают на поверхность, как пузыри, другие погружаются в воду, словно растворяясь в ней, как кусочек ячменного сахара. Телеса свисают, кости выпячены, головы уходят в плечи или сидят на тощих шеях, как у ощипанных кур, руки непомерно длинны, ноги скрючены, точно утиные лапы. У одних все уходит в зад, у других – в живот, а есть и такие, у кого нет ни зада, ни живота. Причудливая и жалостная коллекция, при виде которой смех застывает на губах, уступая место сочувствию.
Хуже всего то, что эти убогие человеческие особи горды своими фраками и кошельками, оставленными в раздевальне. Один величественно подбирает полы халата движением, в котором чувствуется самодовольство собственника. Другой, обезображенный своей наготой, вышагивает с важностью начальника канцелярии, совершающего обход своих подчиненных. Молодые жеманятся так, словно на них вечерний костюм и они находятся за кулисами какого-нибудь маленького театра; старики подчас забывают, что на них нет корсета, и воображают, что сидят у камина в гостях у прелестной графини Б.
В течение целого сезона я встречал в купальнях у Королевского моста толстяка, круглого, как бочка, красного, как спелый томат, – он изображал собою Алкивиада. Он, видно, изучал перед какой-нибудь картиной Давида, как поизящнее расположить складки халата. Ему казалось, что он в Греции на агоре, он даже курил с какими-то античными телодвижениями. Когда он снисходил до того, чтобы броситься в Сену, то воображал себя Леандром, переплывающим Геллеспонт, чтобы свидеться с Геро. Бедняга! Я вспоминаю его короткое туловище, на котором от воды выступали лиловые пятна. О, человеческое уродство!
Нет, я все-таки предпочитаю маленькую речку. Мы даже не надевали купальных костюмов. К чему? Зимородков и трясогузок это не смущало. И мы выбирали омуты, гуры,как говорят на Юге.
Мы переходили реку, не замочив ног, прыгая по большим камням; но омуты оказывались поистине роковыми. В них каждый год погибало по нескольку детей. Об этих омутах рассказывали страшные истории, и всюду были грозные предупредительные надписи, на которые мы не обращали ни малейшего внимания. Знаки эти служили нам мишенями и нередко от них в конце концов оставался всего только кусочек доски, висящий на одном гвозде и качающийся на ветру.
К вечеру вода становилась горячей. Знойное солнце так нагревало омуты, что приходилось ждать сумерек с их прохладой, чтобы вода хоть чуть поостыла. Мы валялись нагишом на песке, боролись друг с другом, бросали камнями в столбы с надписями, ловили в тине руками лягушек. Темнело, глубокий вздох, вздох облегчения пролетал по листве деревьев.
И тут уж мы никак не могли досыта накупаться. Устав, мы ложились в неглубокую воду у самого берега, уткнувшись головой в густую траву. И лежали так, а по нашим телам непрестанно струилась вода, ноги всплывали на поверхность, и казалось, что их уносит течение. Это был час, когда учителям крепко от нас доставалось и когда все заданные на завтра уроки испарялись в дыму первых выкуренных трубок.
Милая река, где я выучился плавать на спине, теплая вода, в которой парились маленькие белые рыбки, я люблю тебя и сейчас, как любят первую женщину. Как-то вечером один из твоих омутов, над которыми мы столько раз потешались, унес моего товарища, и, может быть, именно это пятно крови на твоей зеленой одежде было причиною того, что тоненькая струйка воды породила во мне трепет страсти. В твоей невинной болтовне мне слышатся сдавленные рыдания.
IV
Я знаю только одну охоту – охоту, спокойное очарование которой неведомо парижанам. Здесь в полях есть зайцы и куропатки; здесь в полях не тратят порох на воробьев, здесь презирают жаворонков и берегут заряды для крупной дичи. В Провансе зайцев и куропаток мало; охотники гоняются за славками, за разной мелкой птицей, которая прячется в кустарниках. А уж если им посчастливится убить дюжину лесных жаворонков, они возвращаются домой преисполненные гордости.
Нередко я целыми днями обегал вспаханные земли, чтобы подстрелить нескольких чеканов. Ноги мои до щиколоток проваливались в землю, зыбучую, как тонкий песок. Вечером, уже едва держась на ногах, я возвращался домой в упоении.
Если каким-нибудь чудом у меня между ног умудрялся проскочить заяц, я глядел на него с простодушным изумлением, – я не привык к такой крупной дичи. Вспоминаю, что однажды утром передо мной вспорхнула стая куропаток. Шум их крыльев до того меня оглушил, что я выстрелил наугад и изрешетил телеграфный столб.
Должен признаться, что хорошим стрелком я и вообще-то никогда не был. Воробьев, правда, за свою жизнь я забил немало, но зато в ласточку мне не удавалось попасть ни разу.
Должно быть, поэтому я больше любил охоту из сторожки.
Вообразите маленькое круглое сооружение, врытое в землю и возвышающееся на какой-нибудь метр над ее уровнем. Это хибарка, сложенная из камней и покрытая черепицей, которую надо постараться получше замаскировать плющом. Все вместе выглядит совсем как развалины башни, срытой почти у основания и поросшей травой.
Внутрь, в клетушку, свет проникает сквозь крохотные оконца со сдвигающимися стеклами. Обычно там устраивают очаг, ставят какой-нибудь шкаф; помнится, в одной сторожке у нас даже был диван. Вокруг сторожки в землю втыкают сухие деревья, как там говорят – «рогатки», а к ним подвешивают манки – птиц в клетках, которые должны привлечь птиц с воли.
Все делается очень просто. Охотник спокойно сидит в сторожке и, покуривая трубку, выжидает. Сквозь окошечко он следит за своими рогатками. Потом, едва только на сухую ветку сядет птица, он не спеша берет ружье, вкладывает дуло в проем стены и почти в упор убивает несчастную тварь.
Провансальцы иначе и не охотятся на перелетных птиц, в августе – на садовых овсянок, в ноябре – на дроздов.
Я выходил из дому в три часа утра, и это холодным ноябрьским утром. Мне надо было пройти до рассвета целое лье, и я был нагружен, как мул; ведь надо нести с собою манки, а, могу вас уверить, не легкое дело тащить на себе три десятка клеток по холмистой местности, где с трудом отыскиваешь тропинку. Клетки эти ставят вплотную друг к другу на большие деревянные рамы и связывают вместе веревками.