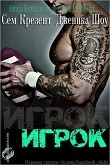Текст книги "Собрание сочинений. Т.23. Из сборника «Новые сказки Нинон». Рассказы и очерки разных лет. Наследники Рабурдена"
Автор книги: Эмиль Золя
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 44 страниц)
Она, правда, дает еще талисман. Она раскусывает зубами какой-то крепкий комочек, напоминающий высушенную апельсинную корку; комочек этот она завязывает в уголок носового платка той, кому она только что гадала; потом она советует женщине завернуть туда еще немного хлеба, соли и сахара. Это поможет отвести от нее всякую хворь и нечистую силу.
И все это чертовка совершает с поразительною серьезностью. Стоит только взять назад монету, которую она заставляет класть в руку, как она начинает клясться, что все навороженное ей добро обратится в самые страшные напасти. Это наивно, но жесты ее и интонации замечательны.
В маленьком провинциальном городке, где я вырос, цыган терпят, но они не возбуждают там такого невероятного любопытства. Считают, что они поедают бродячих собак и кошек, и потому городские жители на них косятся. Люди добропорядочные, повстречавшись с ними, отворачиваются.
Они приезжают в своих фургонах и оседают где-нибудь на пустыре, в предместье. Есть такие уголки города, где из году в год появляются толпы оборванных ребятишек, мужчин и женщин, любящих погреться на солнце. Я видел необыкновенно красивых цыганок. Мы, мальчишки, не отворачивались от них с брезгливостью людей добропорядочных и любили даже заглядывать в повозки, где они спят зимой. И помнится, однажды, когда у меня, школьника, было какое-то неизбывное горе, я мечтал забраться в один из покидавших наш город фургонов и уехать с этими рослыми красавицами, чьи черные очи наводили на меня страх, уехать далеко, далеко, на край света, укатить вместе с ними по дороге и больше никогда не возвращаться.
X
Молодой химик, с которым я любил встречаться, сказал мне как-то утром:
– Я знаю одного старого ученого; он уединился в маленьком домике на бульваре Анфер, чтобы там в тишине изучать кристаллизацию алмазов. Он уже многого добился. Хочешь, я сведу тебя к нему?
Я принял это предложение не без тайного трепета. Колдуна бы я, вероятно, не так испугался, ибо особенного страха перед дьяволом у меня нет. Но денег я боюсь и должен признаться, что человек, который в наши дни отыщет философский камень, преисполнит меня не только почтения, но и ужаса.
По дороге приятель мой посвятил меня в некоторые подробности искусства создания драгоценных камней. Наши химики занимаются этим уже давно, но полученные ими кристаллы настолько малы, а приготовление их обходится так дорого, что опыты эти остались своего рода курьезом и не привели ни к каким практическим результатам. В этом все дело. Надо найти более действенные вещества, более экономичные способы добычи, чтобы изготовление обходилось дешевле.
Тем временем мы дошли до дома. Прежде чем позвонить, приятель предупредил меня, что старый ученый не выносит любопытных и поэтому примет он меня, по всей вероятности, не очень ласково. Я был первым профаном, проникавшим в это святилище.
Химик открыл нам дверь, и, должен признаться, с первого взгляда он мне показался каким-то тупицей, грубым и изможденным работой сапожником. Приятеля моего он встретил очень сердечно, меня же – каким-то глухим ворчаньем, как будто я был собакой, принадлежавшей его юному ученику. Мы прошли через запущенный сад. В глубине находился дом, вернее, какая-то полуразвалившаяся лачуга. Хозяин, как видно, сломал все перегородки, чтобы осталась одна только комната, просторная и высокая. Там оказалось полное оборудование лаборатории, странного вида аппараты, назначение которых я не берусь объяснить. Единственной роскошью, единственной мебелью были скамья и стол темного дерева.
В этой-то трущобе я и испытал одно из самых сильных в моей жизни потрясений. Вдоль стен на полу всюду лежали плоские корзины весьма жалкого вида; прутья их гнулись под тяжестью драгоценных каменьев. В одной куче были сложены одни, в другой – другие. Рубины, аметисты, изумруды, сапфиры, опалы, бирюза, сваленные в углах, словно груды булыжника по краям дороги, ярко сверкали, озаряя комнату искрящимся светом. Это были настоящие костры, раскаленные угли, красные, лиловые, зеленые, синие, розовые. И казалось, что это феи глядят на вас с полу мириадами веселых глаз. Таких сокровищ не знала ни одна сказка тысячи и одной ночи. Ни одна женщина не могла мечтать о подобном счастье.
– Какое богатство! – вскричал я, не в силах сдержать своего восторга. – Это же целые миллиарды!
Старый ученый пожал плечами. Мне показалось, что он посмотрел на меня с глубокой жалостью.
– Каждая из этих куч стоит всего несколько франков, – сказал он своим неторопливым глухим голосом. – Они мне мешают. Завтра я рассыплю их вместо гравия по дорожкам сада.
Потом он повернулся к моему приятелю и продолжал, набирая полную пригоршню камней:
– Взгляните только на эти рубины. Это красивее всего, что мне удавалось получить… А вот изумрудами я недоволен; чересчур уж они чисты; в настоящих изумрудах всегда есть какой-нибудь изъян, а я не хочу, чтобы мои были лучше натуральных… Больше всего меня огорчает, что до сих пор не удается получить белые алмазы. Вчера я сделал еще один опыт… Как только мне это удастся, дело моей жизни будет завершено и я умру счастливый.
Он как-то весь вырос. Я уже больше не находил его лицо тупым; я начинал трепетать перед этим бледным стариком, который мог залить весь Париж волшебным дождем.
– Но вам, верно, приходится бояться воров? – спросил я. – Я видел у вас на двери и на окнах крепкие железные решетки. Это мера предосторожности.
– Да, иногда я действительно боюсь, чтобы какие-нибудь дураки не убили меня, прежде чем я раскрою секрет белого алмаза… Все эти камни, которые завтра ничего не будут стоить, сегодня могут еще соблазнить моих наследников. Их-то я и боюсь; они знают, что, уничтожив меня, они похоронят вместе со мной и секреты моего мастерства и что тогда эти мнимые сокровища не потеряют своей цены.
Он задумался и сделался грустен. Мы сидели на куче алмазов, и я смотрел, как, запустив левую руку в корзину с рубинами, он правой набирал целые пригоршни изумрудов и машинально высыпал их. Так дети сыплют из горсти песок.
Некоторое время мы все молчали.
– Но ведь это же невыносимо так жить! – вскричал я. – Вы вызываете в людях ненависть… Неужели у вас нет никаких радостей жизни?
Он удивленно посмотрел на меня.
– Я работаю, – ответил он просто, – я не умею скучать… Когда у меня бывает хорошее настроение и мне хочется поразвлечься, я набираю несколько таких вот камушков в карман и сижу в том конце сада, – там в ограде есть щель, оттуда виден бульвар, – и время от времени кидаю алмазы прямо на мостовую…
Он и теперь еще смеялся, вспоминая эту великолепную забаву.
– Вы не можете себе представить, какие физиономии бывают у прохожих, которые находят мои камушки. Они дрожат, оглядываются, потом убегают, бледные как смерть. Что за жалкие существа! Они доставляют мне немало веселых часов.
Его жесткий голос повергал меня в какую-то неизъяснимую тревогу. Было очевидно, что он надо мной потешается.
– Эх, молодой человек, – продолжал он, – мне есть на что купить женщин; но я же старик… Поймите, что если бы у меня была хоть самая малая толика честолюбия, я бы давно уж был где-нибудь королем… Только к чему это все! Я ведь мухи не убью, я человек добрый, вот почему я и не хочу мешать людям жить.
Нельзя было в более вежливой форме сказать, что стоило ему захотеть, и он мог бы отправить меня на эшафот.
Целый вихрь мыслей проносился в моем мозгу, голова кружилась, словно там звонили в колокола. Феи драгоценных камней глядели на меня острыми, пронзительными глазами, красными, фиалковыми, зелеными, синими, розовыми. Не помня себя, я сжал руки в кулак; в правой были рубины, в левой – изумруды. И уж если говорить правду, у меня было неодолимое желание высыпать их в карманы.
Я побросал эти проклятые камни и выбежал из дома, как будто за мною гналась полиция.
XI
Я отправился в Версаль и шел по огромному двору Маршалов, по каменистому пустырю, глядя на который я часто вспоминал равнину Крау, где груды заросших травою камней зеленеют под полуденным зноем.
Прошлой зимою я видел дворец, покрытый снегом; его голубоватая крыша, величественная и мрачная, вырисовывалась на сером небе, словно то был дворец царя Мороза. Мрачен он и летом; он еще заброшеннее, еще грустнее, когда в воздухе веет теплом, а вокруг буйно разрастаются деревья парка. Каждый год, когда наступает весна, старые остовы их покрываются молодою листвой. Дворец при последнем издыхании; жизненные соки перестают питать камни, и те крошатся. Разрушение вступает в свои права: оно неумолимо, оно обгладывает углы, смещает плиты, час от часу приближает к смерти.
У каждого здания, будь то трущоба или дворец, есть свои недуги, от которых оно постепенно слабеет и умирает. Это огромные живые существа, это люди, у которых есть своя юность и своя старость; одни остаются в соку до самой смерти, другие раньше времени ветшают и дряхлеют. Мне вспоминаются здания, которые я видел из окна вагона, на дорогах: новые дома, скромные флигели, заброшенные замки, развалины башен. Все эти каменные существа говорили со мной на своем языке, рассказывали о своем самочувствии и о недугах, от которых они страдали. Когда человек закрывает окна и двери и уезжает, дом без него начинает чахнуть. Он еще годы может стоять на солнце с изможденным лицом безнадежно больного, пока какой-нибудь зимней ночью порыв ветра не снесет его с лица земли.
От этой заброшенности гибнет и Версальский дворец. Он слишком велик, для того чтобы человек мог его оживить своим дыханием. Чтобы влить жизнь в эти бесконечные коридоры, в эти анфилады огромных комнат, туда надо поселить целый город. Постройка его была чудовищной ошибкой упоенного своей славой короля, который задумал его непомерно большим и тем самым с первых же лет обрек его на гибель и разрушение. Всего величия Людовика XIV недостало даже для одной его спальни, холодной комнаты, где его царственный прах кажется в наши дни только лишним слоем пыли.
Я вошел во двор Маршалов и увидел справа от себя, в глухом углу этого пустыря, старуху, ту легендарную Полольщицу, которая вот уже пятьдесят лет, как полет выросшую меж камней траву. С утра до вечера она там, посреди этого каменного поля борется со вторгающимся в ее владения врагом, с растущими полчищами диких левкоев и маков. Она идет согнувшись, заглядывая во все щели, выслеживая каждую новую травинку, каждый клочок выросшего на плитах мха. Чтобы дойти с одного конца пустыря до другого, ей нужно не меньше месяца. А за ее спиной трава растет и растет, такая торжествующая, такая густая, такая неумолимая, что, когда она снова берется за свой нескончаемый труд, она видит, что все опять заросло травой, что те же самые уголки кладбища заполнены буйными цветами.
Полольщица хорошо знает все, что растет на руинах. Она знает, что маки предпочитают южную сторону, что одуванчики растут в северной части, что излюбленное место левкоев – расщелины в пьедесталах. Мох – это проказа, которая распространяется повсюду. Есть растения такие упорные, что, сколько бы она ни вырывала их с корнями, они вырастают снова и снова. Может быть, сюда когда-нибудь упала капелька крови, может быть, здесь похоронена злая душа, и теперь на этой земле до скончания века будут торчать ржавые колючки чертополоха. На этом кладбище королей над могилами растут странные цветы.
Но надо послушать, как полольщица рассказывает историю этих растений. Оказывается, не во все времена они росли одинаково буйно. При Карле X они еще были робки – едва пробивались над землею, это был мягкий зеленый ковер, постланный на плитах под ноги дамам. Двор тогда приезжал еще во дворец, подошвы придворных топтали эту землю, за одно утро они делали всю работу, которой полольщице хватает на целый месяц. При Луи-Филиппе трава стала жестче; дворец, населенный тихими призраками Исторического музея, понемногу становился обителью теней. Зато во времена Второй империи травы победили все и вся, – они стали бесстыдно расти, захватили свою добычу, как-то даже грозили проникнуть внутрь галерей, наводнить зеленью все апартаменты дворца, большие и малые.
Видя, как полольщица в старой ситцевой юбке медленно уходит, согнувшись, с передником, полным травы, я отдался во власть воображения. Ведь она последняя, кто еще жалеет о прошлом, кто мешает крапиве распространиться и скрыть под собою гробницу монархии. Она заботливо оберегает этот пустырь, поросший могильной травой.
И мне представилось, что это тень какой-то маркизы, вернувшейся сюда из какого-нибудь боскета-парка и свято чтущей эти руины. Своими одеревеневшими пальцами она неустанно сражается с безжалостным мхом. Старуха упорствует в этой бесплодной работе, хорошо понимая, что, если когда-нибудь перестанет трудиться, буйная трава заполонит все вокруг и сама она в этой траве потонет. Порой она выпрямляется и долго смотрит на каменное поле, заглядывает в дальние уголки его, где растительность гуще и сочнее. И несколько мгновений она стоит так, бледная, может быть, уже убедившись в том, сколь бессмысленны все ее усилия, полная горькой радости, оттого что несет последнее утешение этим каменным плитам.
Но наступит день, когда пальцы полольщицы совсем скрючатся. Тогда дворец рухнет, испустив свой последний вздох. Каменное поле зарастет крапивой, чертополохом, разными сорняками. Оно станет густою чащей, зарослями жестких, переплетающихся растений. И тогда полольщица совсем скроется в этой зеленой гуще; она будет раздвигать стебли выше ее ростом, прокладывать себе путь среди побегов пырея вышиной с молодые березки и воевать с ними до тех пор, пока травы не окружат ее со всех сторон, не обовьются вокруг нее, не свяжут ее по рукам и по ногам, не сдавят ей горло, пока, наконец, они задушат ее и кинут в это море зелени, где вздымающиеся валы зеленого прибоя захлестнут ее и увлекут за собой.
XII
Война, мерзкая война, проклятая война! Мы не знали ее, мы, молодые люди, которым в 1859 году не было и двадцати. Мы еще сидели тогда на школьной скамье. Это страшное слово, при котором матери наши бледнели, напоминало нам лишь о днях, когда у нас не было уроков.
И в воспоминаниях наших всплывали лишь теплые вечера, когда народ на улицах веселился: поутру вести о победе пронеслись над Парижем, в воздухе повеяло чем-то праздничным; и едва только начало темнеть, витрины всех магазинов осветились огнями, мальчишки стали запускать вверх грошовые хлопушки. У дверей кафе собирались мужчины; они пили пиво и вели разговоры о политике. А в это время там, далеко, в глухих уголках Италии или России, простертые на спине мертвецы взирали на загоравшиеся в небе звезды широко открытыми стеклянными глазами.
Помню, как в 1859 году, в тот день, когда пришло известие об исходе битвы при Мадженте, я пошел на площадь Сорбонны, чтобы поглазеть, чтобы потолкаться среди охваченной лихорадкой толпы. Мальчишки бегали и кричали: «Победа! Победа!» Мы предчувствовали, что нам дадут отдохнуть от уроков. И среди этого смеха и криков я услыхал рыдания. Старый сапожник плакал у себя в мастерской. У бедняги было два сына в Италии.
С тех пор я часто слышу эти рыдания. Каждый раз, когда приходит какое-то известие о военных действиях, мне все кажется, что сапожник, седой старик, а с ним и весь простой народ, всхлипывает где-то в углу, среди лихорадки улиц и площадей.
Но еще отчетливее мне вспоминается другая война, Крымская кампания. Мне было тогда четырнадцать лет, я жил в глухой провинции жизнью столь беззаботной, что война представлялась мне не чем иным, как потоком проходивших мимо солдат, и самым большим удовольствием для нас было смотреть, как они маршируют.
Чуть ли не все солдаты, которых отправляли на восток, следовали через маленький южный городок, где я жил. Местная газета заранее уведомляла о том, какие полки будут проходить. Отправляли их обычно около пяти часов утра. К четырем часам мы, школьники, все до одного были уже на Проспекте.
Ах, какие они были красивые! И кирасиры, и уланы, и драгуны, и гусары! Мы питали особую слабость к кирасирам. Когда солнце всходило и его косые лучи сверкали на кирасах, мы невольно отступали, ослепленные, очарованные, словно перед нами проплывала верхом на конях целая армия победоносных светил.
Потом трубили в рожок. И полки уходили.
Мы шли за ними. Мы провожали их по большим белым дорогам. Играла музыка, она благодарила гостеприимный город. И в прозрачном воздухе ясного утра все это было для нас праздником.
Помню, я проходил так по нескольку лье. Мы шагали в ногу и несли на спинах перевязанные ремнем книги, словно это были сумки с патронами. Нам не разрешалось провожать солдат дальше Пороховых складов. Потом мы стали ходить до моста, потом поднимались за ними на другой берег, а там – добирались и до ближайшей деревни.
А когда нам вдруг становилось страшно и мы решали дальше не ходить, мы взбирались на откос и оттуда, с высоты, со склонов холма, глядели, как по извивавшейся внизу дороге двигался полк и как он потом исчезал за поворотом, сверкая на ярком утреннем солнце тысячами далеких отблесков.
В такие дни нам было не до ученья! Мы пропускали уроки и, уйдя от надзиравших за нами глаз, играли в войну, швыряясь камнями, которые кучами были сложены у дороги. И нередко случалось, что орава наша спускалась потом к реке, и, позабыв обо всем на свете, мы пропадали там до самого вечера.
На Юге солдат не очень-то любят. Мне пришлось видеть, как иные из них плакали от усталости и досады, сидя прямо на тротуарах, с билетом на постой в кармане: никто из городских жителей – ни мелкие расчетливые раньте, ни растолстевшие богатые купцы – не хотел пускать их в дом. Понадобилось вмешательство городских властей.
У нас они чувствовали себя как у Христа за пазухой. Бабушка моя, которая сама была из Босы, приветливо встречала всех этих северян, которые напоминали ей родные края. Она разговаривала с ними, расспрашивала, из какой они деревни, и сколько было радости, если эта деревня оказывалась неподалеку от той, где она родилась!
От каждого полка к нам направляли по два солдата. Приютить их нам было негде, и мы посылали их в гостиницу. Но они никогда не уходили от нас, прежде чем бабушка не подвергала их этому маленькому допросу.
Помню, как-то к нам пришли двое солдат из ее родных мест. Этих она ни за что не хотела отпустить. Она накормила их обедом на кухне. И сама поставила им вина. Вернувшись из школы, я пошел поглядеть на этих солдат; помнится, я даже чокался с ними.
Один был небольшого роста, другой – высокий. Я хорошо помню, что, когда они уходили, у высокого на глазах были слезы; дома у него оставалась жена, женщина уже пожилая, и он горячо благодарил бабушку, которая напоминала ему его дорогую Босу и все, что он там оставил.
– Полно, не горюй, – утешала его добрая старуха. – Вернешься еще, да и орден себе заслужишь.
Но солдат горестно покачал головой.
– Вот что, – продолжала она, – коли будете возвращаться этой дорогой, обязательно заходите ко мне. Уж приберегу вам бутылку винца, раз оно так вам понравилось.
Бедных солдат слова ее рассмешили. Приглашение это заставило их на минуту забыть весь ужас, который их ждал, они, разумеется, представили себе, как на обратном пути вернутся сюда, в этот гостеприимный домик, и выпьют здесь по случаю того, что все худое уже позади. И они торжественно обещали вернуться, чтобы распить оставленную для них бутылку.
Сколько полков успел я тогда проводить на войну и сколько исхудалых солдат стучалось к нам в двери! Всю жизнь буду я помнить бесконечные шеренги этих людей, шедших на смерть. Иногда я закрываю глаза, и мне чудится, что поток их все еще движется; я вижу отдельные лица и спрашиваю себя: где же, в каком далеком овраге этот молодец сложил свою голову?
Потом солдаты стали проходить мимо нас все реже. И вот однажды мы увидали, что они возвращаются обратно, покалеченные, окровавленные, с трудом ковыляя по дорогам. Разумеется, мы их уже больше не дожидались, не ходили за ними вслед. Это были калеки. В них нельзя было узнать наших прежних красавцев солдат. Из-за них не стоило пропускать уроков и нарываться на неприятности.
Печальная процессия двигалась долго. Умирающих оставляли по дороге. Бабушка иногда говорила:
– А что эти двое из Босы, помнишь? Неужто они меня позабыли?
Но вот как-то раз в сумерки в дверь к нам постучал солдат. Он был один. Это был меньшой.
– Товарища моего убили, – сказал он, входя.
Бабушка принесла бутылку.
– Что же, – сказал он, – придется, видно, мне одному.
Он сел, поднял стакан и невольно потянулся, чтобы чокнуться с другом. И тут из груди его вырвался тяжкий вздох:
– Он наказал мне пойти к нему домой, старуху утешить. Эх, лучше бы мне там остаться, а не ему.
Впоследствии сослуживцем моим был один шовинист. Мы были тогда мелкими служащими, и столы наши стояли рядом в полутемной канцелярии, где особенно удобно было ничего не делать и дожидаться конца рабочего дня.
Шовинист этот был в армии сержантом, он вернулся из-под Сольферино, потому что заболел лихорадкой, подхваченной на рисовых полях Пьемонта. Он клял свою болезнь и утешался только тем, что винил в ней австрийцев. До такого состояния его довели эти негодяи.
Сколько часов мы с ним судачили вместе! Ведь бок о бок со мною находился бывший солдат, и я твердо решил не отпускать его от себя, не вытянув из него правды о войне. Я не удовлетворялся громкими словами: «слава», «победа», «лавры», «воины», – которые в его устах звучали на редкость пышно. Я ждал, пока поток его восторгов уляжется, и начинал допекать его мелкими подробностями. Я соглашался по двадцать раз слушать одну и ту же историю, чтобы уловить ее истинную суть. Сам того не подозревая, человек этот сделал мне интересные признания.
В сущности, он был наивен, как ребенок. Он нисколько не кичился собой; просто он говорил на общепринятом языке военного бахвальства, это был бессознательный фанфарон, неплохой парень, из которого казарма сделала назойливого говоруна.
У него были готовые рассказы, ходульные слова, и это чувствовалось во всем. Заранее составленные фразы украшали все его поразительные истории о «непобедимых воинах» и о «храбрых офицерах, спасенных во время общей резни героизмом их солдат». В течение двух лет я по четыре часа в день выслушивал всю его брехню о войне в Италии. Но я не жалею об этом. Шовинист пополнил мое образование.
Благодаря ему, благодаря тем признаниям, которые он делал мне в нашей темной конторе, без всякой задней мысли, я знаю войну, настоящую войну, не ту, о героических эпизодах которой нам повествуют историки, но ту, которая среди бела дня исходит потом от страха, спотыкается и волочится по лужам крови, как пьяная потаскуха.
Я спрашивал шовиниста:
– А что, солдаты охотно шли в бой?
– Солдаты! Да их просто гнали туда! Помню, были у нас новобранцы, – те в жизни огня не видали. Они вставали на дыбы, как испуганные лошади. Им было страшно; два раза они пытались бежать. Но их возвращали – половину из них перестреляла наша же артиллерия. Посмотрел бы ты на них: все в крови, тычутся, как слепые, на австрияков, что разъяренные волки, кинулись. Себя не помнили, плакали от обиды, умереть хотели.
– Хорошая наука, – сказал я, чтобы подзадорить его.
– О да, и наука жестокая, поверь. Видишь ли, самых смелых и тех холодный пот прошибает. Чтобы хорошо воевать, надо сначала пьяным напиться. Тогда ты ничего перед собой не видишь и рубишь, рубишь как бешеный.
И он предавался воспоминаниям.
– Однажды нас поставили в сотне метров от деревни, занятой врагом, и дали приказ никуда не двигаться и не стрелять. И вдруг эти проклятые австрияки открывают по нас черт знает какой огонь. А уйти нельзя. При каждом залпе мы пригибались к земле. Были и такие, которые бросались на брюхо. Ну просто срам. Так нас добрых четверть часа держали. У двоих наших волосы поседели.
– Нет, ты об этом ни малейшего представления не имеешь, – добавил он потом. – В книгах все приукрашено… Послушай, в тот вечер, в Сольферино, мы даже и не знали, что победили. Ходили слухи, что австрийцы вот-вот придут нас резать. Могу тебя уверить, положение было не из приятных. Вот почему, когда на рассвете нас разбудили, у нас зуб на зуб не попадал, мы до смерти боялись, что все начнется сначала. В тот день нас бы непременно расколошматили – сил у нас не осталось ни капли. И вдруг объявляют: подписан мир. Тут весь полк наш в пляс пустился. То-то радость была! Солдаты брались за руки и водили хоровод, что твои девчонки… Право, я не сочиняю. Сам видел! Ну и довольны же мы были.
Видя на лице у меня улыбку, мой друг-шовинист вообразил, будто я не верю, что французская армия может так любить мир. Простодушие его было восхитительно. Иногда я заводил его очень далеко. Я спрашивал:
– А тебе никогда не бывало страшно?
– Мне! – восклицал он, скромно улыбаясь. – Я был как все… Я не знал… Неужто ты думаешь, что человек может сам знать, храбрый он или нет? Дрожишь, да идешь, вот оно как бывает… Раз, помню, пулей на излете меня прибило. Вот я лежу и думаю: ведь если встану, так, пожалуй, похуже будет.
XIII
…Он умер, как жил, настоящим рыцарем.
Помните, друзья мои, эту теплую весну, когда мы пришли пожать ему руку в его маленький домик в Кламаре. Жак встретил нас своей милой улыбкой. И мы обедали под вечер в увитой диким виноградом беседке, а вдали на горизонте гудел сумеречный Париж.
Вы никогда по-настоящему не знали его жизни. Я вырос с ним вместе и могу вам рассказать, какое у него было сердце. Два года он жил в Кламаре с этой высокой блондинкой, которая так кротко умирала. Это необыкновенная и трогательная история.
Жак встретил Мадлену на празднике в Сен-Клу. Он полюбил ее, потому что она была больна и страдала. Он хотел дать этой несчастной девушке перед смертью два года счастья. И он уединился с ней в Кламаре, в глухом местечке, где розы растут буйно, как сорняки.
Вы знаете этот дом. Очень скромный, весь белый, затерянный в зеленой листве, словно птичье гнездо. С самого порога вас охватывала атмосфера тихой нежности. Жак мало-помалу проникся безмерной любовью к умирающей. С горечью и болью он видел, как ее подтачивает недуг, как с каждым днем она становится все бледнее и бледнее. Подобно тем церковным лампадам, которые заливают все вокруг ярким светом, перед тем как погаснуть, Мадлена улыбалась, озаряя сиянием своих голубых глаз весь маленький белый домик.
Два лета девушка почти не покидала этого клочка земли. Крохотный садик наполнился обаянием всего ее существа, ее светлых платьев, ее легких шагов. Это она посадила там большие желтофиоли, из которых нарывала нам букеты. А герани, рододендроны, гелиотропы – все цветы жили только благодаря ей и для нее. Она была душою этого уголка природы.
А потом, осенью, помните, как Жак пришел к нам и сказал своим протяжным голосом: «Она умерла». Она умерла в беседке так, как засыпает ребенок, в ту пору дня, когда свет бледнеет и солнце садится. Она умерла, окруженная зеленью, в той далекой глуши, где два года ее, умирающую, баюкала любовь.
Я больше не видел Жака. Я знал, что он живет все там же, в Кламаре, в этой беседке, в память о Мадлене. С самого начала осады я был до того измучен, что даже не думал о нем, когда 13-го утром, узнав, что бои идут в направлении Медона и Севра, я вдруг вспомнил маленький белый домик в зеленой листве. И я представлял себе Мадлену, Жака, всех нас за чаем в саду, в тихий летний вечер, а вдали, на горизонте, глухо рокочущий Париж.
И вот я вышел из города через ворота Ванв и пошел вперед. Дорога была запружена ранеными. Так я добрался до Мулино, где узнал о нашей победе. Но когда я обогнул лес и очутился на возвышенности, сердце мне защемило от страха.
Прямо передо мной среди истоптанной, развороченной земли на месте белого домика разверзлась черная яма, вырытая картечью и пожаром. Я спустился вниз, на глазах у меня были слезы.
Ах, друзья мои, как все это страшно! Послушайте, ядра смели до основания изгородь из кустов боярышника. Большие желтофиоли, герань, рододендроны влачились по земле, изрубленные, примятые, такие несчастные, что мне стало жалко их, словно передо мною были окровавленные тела людей, которых я хорошо знал.
Одна стена дома обвалилась. И в глубине, словно живая рана, зияла обитая розовым ситцем скромная комната Мадлены, с ее стыдливо задернутыми занавесками, которые были видны с дороги. Эта комната, куда так нагло вторглась прусская артиллерия, этот выставленный напоказ альков любви наполнил мне сердце щемящей болью, и мне подумалось, что я стою посреди кладбища, где похоронены наши молодые годы. Земля была завалена обломками, вскопана снарядами, казалось, что она совсем недавно взрыхлена лопатой могильщика и таит в себе только что опущенные в нее гробы.
Я подумал, что Жак, должно быть, покинул этот дом, его стены, изрешеченные картечью. Я все шел и очутился под зеленым навесом беседки, которая каким-то чудом осталась совсем нетронутой. Там, прямо на земле, в луже крови лежал Жак, с грудью, пробитой по крайней мере двадцатью пулями. Он не захотел расстаться с диким виноградом, под сенью которого он любил, – он умер на том самом месте, где умерла Мадлена.
У ног его я подобрал пустую патронную сумку, сломанное ружье и заметил, что руки покойного черны от пороха. В течение шести часов, с ружьем в руках, Жак один ожесточенно защищал бледную тень Мадлены.
XIV
Бедный Нейи! Долго буду я помнить печальную прогулку, совершенную мною вчера, 25 апреля 1871 года. В девять часов, как только стало известно о перемирии, которое Париж заключил с Версалем, огромная толпа устремилась к воротам Майо. Ворот уже нет: батареи Курбевуа и Мон-Валерьена превратили их в груду обломков. Когда я добрался до этих развалин, солдаты Национальной гвардии пытались восстановить ворота; напрасный труд, ибо несколько пушечных выстрелов – и все мешки с землей и каменные плиты, которые они громоздят, будут сметены.
Начиная от ворот Майо идешь по сплошным развалинам. Все соседние дома рухнули. Сквозь разбитые окна я вижу часть комнат с роскошной мебелью; с балкона свисает изодранная занавеска, в клетке, подвешенной к карнизу мансарды, мечется живая еще канарейка. Чем дальше идешь, тем больше на пути твоем разрушений. Весь проспект усеян обломками, изрыт снарядами. И кажется, что перед тобой стезя скорби, проклятая голгофа гражданской войны.
Я свернул на поперечную улицу, стремясь уйти от этой чудовищной магистрали, где то и дело натыкаешься на лужи крови. Увы! На маленьких улочках, которые выходят на главную, разрушения кажутся еще страшнее. Здесь дрались в рукопашную, холодным оружием. Дома по десять раз переходили из рук в руки; солдаты той и другой стороны разламывали стены, чтобы проникнуть внутрь дома, и то, что пощадили снаряды, разбивала кирка. Больше всего пострадали сады. Бедные весенние сады! В ограде зияют пробоины, клумбы с цветами продырявлены, аллеи затоптаны, разрыты. И над забрызганной кровью весенней землей – целое море цветущей сирени. Никогда она так не цвела в апреле. Любопытные забираются в сады сквозь пробоины. И выносят оттуда на спинах охапки сирени, такие огромные, что ветки теряются по дороге, и улицы Нейи скоро все будут усеяны цветами, словно перед торжественной процессией.