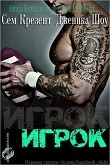Текст книги "Собрание сочинений. Т.23. Из сборника «Новые сказки Нинон». Рассказы и очерки разных лет. Наследники Рабурдена"
Автор книги: Эмиль Золя
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 44 страниц)
I
Мне вспоминаются далекие прогулки в Верьерский лес, которые совершали мы с Полем двадцать лет тому назад. Поль был художником, а я очень бедным, никому не известным служащим в книжной лавке. В ту пору я пописывал стишки, плохонькие стишки, которые теперь в полном забвении покоятся в одном из ящиков моего письменного стола. Уже с понедельника я мыслями уносился к воскресному дню, мечтая о нем со страстью двадцатилетнего юноши, выросшего на вольном воздухе и теперь тяжко страдавшего от тесноты книжной лавки. Когда-то в окрестностях Экса мы исходили все дороги и, бывало, пройдя десятки лье, ночевали под открытым небом. В Париже мы не могли возобновить этих долгих прогулок, так как приходилось думать о возвращении на службу, а неумолимое время летело незаметно. Поэтому мы уезжали в воскресенье с первым утренним поездом, чтобы оказаться чуть свет за городской чертой.
II
Для нас такие поездки были целым событием. Поль забирал с собой весь свой багаж художника, а я лишь одну книжку в кармане. Сначала поезд идет по берегу Бьевры – зловонной речки, куда стекают ржавые воды с окрестных кожевенных фабрик. Затем железная дорога пересекает угрюмую равнину Монружа, где единственное зрелище на горизонте представляют каркасы огромных лебедок. Но вот прямо перед нами, на склоне холма, за тополями возникает Бисетр. Высунувшись из окна, мы всей грудью вдыхали первые запахи зелени. Мы забывали обо всем на свете, забывали о Париже, вступая в этот рай, о котором мечтали целую неделю.
Мы сходили с поезда на станции Фонтене-о-Роз. Оттуда шли по великолепной аллее, затем сворачивали в поле и знакомой тропинкой выходили на берег небольшой речушки. До чего же здесь было чудесно! Направо и налево расстилаются цветочные поля, целое море гелиотропов и особенно роз. В этом краю живут садоводы, и цветы они выращивают так же, как крестьяне выращивают хлеб в других районах страны. Идешь среди полей, запах цветов так и пронизывает тебя насквозь, а вокруг женщины собирают розы, левкои, гвоздику. Затем цветы на повозках отправляют в Париж.
Часам к восьми мы попадали к матушке Санс. Теперь уже этой славной женщины, наверное, нет в живых. А в те времена матушка Санс держала кабачок, расположенный между Фонтене-о-Роз и Робинсоном. Об этом кабачке ходили целые легенды. Году в 1845 он стал очень модным, благодаря компании художников-реалистов, завсегдатаев кабачка. Некоторое время здесь кумиром был Курбе, говорили даже, что огромная вывеска над дверью, с изображением горы всякой живности и овощей, в какой-то мере обязана и его кисти. Как бы то ни было, кабачок был славный; в прохладной тени живых беседок, выстроившихся под развесистыми деревьями, подавалось легкое, с кислинкой, вино в глиняных кувшинах и знаменитое жаркое из кроликов. Поеживаясь от утренней прохлады, мы завтракали здесь, примостившись на краешке непокрытого стола, почерневшего от сырости. Обычно в этот ранний час здесь не было никого, кроме нас да хлопотливых служанок, которые резали кроликов и ощипывали к вечеру цыплят. Ах! До чего же вкусны были свежие яйца в эти чудесные ранние часы пробуждающейся весны!
Уже пригревало, когда мы снова пускались в путь. Мы торопились в Ольнэ, проходя справа от Робинсона. Теперь на нашем пути лежали огромные поля клубники. Сначала розы, теперь клубника! В этих местах клубника и фиалки – основные культуры. Клубнику здесь продают на фунты, развешивая ее на старых облезлых зеленых весах. По воскресеньям вечером сюда приходят всей семьей с корзинками и, устроившись где-нибудь на краю поля, вдоволь наедаются клубники. Наконец к девяти часам мы добирались до Ольнэ – маленькой деревушки всего в несколько домиков, вытянувшихся вдоль дороги. Отсюда начинается знаменитая Волчья долина, прославленная тем, что здесь жил Шатобриан. Сейчас же за поворотом попадаешь в настоящую пустыню. Должно быть, дорога проложена по песчаному карьеру, по обеим сторонам высятся песчаные стены, а при ходьбе нога утопает в желтой песчаной пыли. Но вот выемка карьера расширяется, начинаются скалы, по уступам которых спускаются высокие деревья. Вот здесь-то, в глубине тесной долины, и находится бывшее поместье Шатобриана; архитектурные причуды в романтическом вкусе, стрельчатые окна и готические башенки кажутся искусственно прилепленными к обычному буржуазному дому. Дальше дорога идет в гору и становится все более дикой; она вся в глубоких рытвинах, в расщелинах скал пробиваются кривые сосенки. Оказавшись здесь в жаркий июльский день, можно подумать, что находишься где-нибудь в заброшенном уголке Прованса. Но вот наконец дорога выходит на плато, и глазам внезапно открывается широкая панорама, а на горизонте, там, где синее небо сливается с землею, темной полоской тянется Верьерский лес.
Когда идешь к лесу по краю плато, то долина Бьевры видна как на ладони, а за ней до самого горизонта тянутся бесконечные ряды холмов, постепенно исчезая в фиолетовой дымке. Затем начинаешь различать деревни, ряды тополей, белые фасады домиков, обработанные поля, четкие квадраты которых окрашены всеми оттенками желтого и зеленого цветов, словно брошенный на землю пестрый наряд Арлекина. Нигде у меня не было такого ощущения простора.
III
Первое время мы легко теряли дорогу в Верьерском лесу, хоть он и не очень велик. Помню однажды, решив сократить путь, мы пошли напрямик через кустарник и попали в такую чащобу, что целых два часа кружили на одном и том же месте и никак не могли выбраться. Чтобы отыскать дорогу, Поль даже взобрался ка дуб, как Мальчик с пальчик, но лишь исцарапал ноги, а увидел только верхушки деревьев, – покачиваясь на ветру, они терялись вдали.
Я не знаю другого столь же очаровательного леса. Длинные просеки поросли мягкой травой, которая бархатным ковром ложится под ноги. Эти лесные улицы радиусами сходятся к круглым площадкам, настоящим зеленым залам, а над ними высокие деревья, словно колонны, поддерживают зеленый купол. Сюда входишь с благоговением, точно под своды церкви. Но мне больше нравились неприметные дорожки, узкие тропинки, которые уходят прямо в лесную чащу. Идешь, идешь и вдруг увидишь в конце тропинки далекий просвет, беленькое круглое пятнышко. А другие тропинки в каком-то зеленоватом мерцании извиваются и петляют, уводя в бесконечность. Сколько тут восхитительных уголков, полян с белоствольными стройными березами, с огромными величественными дубами, обступившими поляну, словно королевский кортеж! Сколько пригорков, сплошь покрытых цветущими кустиками земляники и бледными фиалками, сколько неожиданных овражков, где трава достает до самого подбородка, и косогоров, откуда деревья в беспорядке спускаются на равнину, словно авангард армии гигантов.
Среди всех этих уединенных уголков один нас особенно пленил. Как-то утром, идя по лесу вдали от дороги, мы набрели на озерко, заросшее камышом и подернутое ряской, и, не зная его настоящего названия, окрестили его «Зеленым озером». Потом мне сказали, что оно называется «озеро Шало». Редко встретишь более заброшенное место. Ветви деревьев раскинулись над водой то букетом, то фонтаном, бросающим вверх каскад струй. Тут были все оттенки и тона зелени – от прозрачной, нежной, как кружево, до густой, почти черной; ива склонила к воде свои ветви, осина струит серебристо-пепельный дождь своей листвы. И вся эта буйная зелень, то уходя ввысь, то располагаясь ярусами, то, будто тяжелые занавеси, сползая к воде, отражается в стальной глади озера, куда словно опрокинулось другое небо, а в нем точно повторяются ее чистые очертания. Ни одна мошка не возмущает водной глади. Торжественный покой и мир баюкают эту залитую солнцем заводь. Невольно вспоминалось купанье античной Дианы, омывавшей свои белоснежные ноги в тайных лесных родниках. Необъяснимое очарование струилось с высоких деревьев, скрытой страстью, безмолвной любовной истомою леса дышала эта недвижная вода, по которой расходились серебристые круги.
Зеленое озеро стало целью всех наших прогулок, своеобразной прихотью художника и поэта. Мы влюбились в него и проводили воскресные дни на мягкой траве, росшей вокруг. Поль писал этюд – на первом плане вода и водяные растения, по бокам и сзади, словно театральные кулисы, озеро обступили высокие деревья, ветви которых сплелись в зеленый купол. Я растягивался на спине, клал рядом книгу, но не читал, а смотрел сквозь листву на небо, на голубые пятна, исчезавшие при первом же дуновении ветерка. Солнечные лучи золотыми стрелами прорезали густую тень и круглыми солнечными зайчиками медленно скользили по траве. Я часами лежал так, не испытывая скуки, изредка перебрасываясь несколькими словами со своим приятелем. Время от времени я закрывал глаза, неясный розовый свет проникал сквозь опущенные веки, и я предавался мечтам.
Мы располагались здесь, завтракали, обедали, и только наступавшие сумерки прогоняли нас. Мы ждали, когда заходящее солнце пожаром окрасит лес, заполыхают верхушки деревьев; отражая это зарево, озеро становилось кровавым в густой мгле, которая уже поглощала землю. В полной темноте светилась только стальная поверхность озера; можно было подумать, что она излучала какой-то собственный свет и, словно алмаз, сверкала во мраке.
Мы задерживались еще на минуту, завороженные этим таинственным мерцанием, белизной богини, купающейся в лунном свете. Но нужно было спешить на вокзал, мы снова шли по лесу, теперь уже засыпающему. Голубоватая дымка тумана вставала над кустами, на пурпурном небе вырисовывались черные стволы деревьев, словно уходящая вдаль колоннада; на просеках было совсем темно, и эта тьма, медленно поднимаясь из кустарника, мало-помалу поглощала огромные дубы. Наступал торжественный вечерний час – звучали последние голоса леса, мерно покачивались высокие деревья, в тихой дреме замирала трава.
IV
Выйдя из леса, мы словно пробуждались от сна. На плато еще было совсем светло. Все еще испытывая какую-то смутную робость, мы бросали последний взгляд на темную громаду, оставшуюся позади. Обширная равнина расстилалась у наших ног, подернутая голубоватой дымкой, которая сгущалась в ложбинах в темно-лиловую пелену. Последний луч солнца озарял далекий склон холма, и тот становился золотым, словно поле зрелой пшеницы. Среди тополей серебристой ленточкой поблескивала Бьевра. Оставив справа от себя Волчью долину, мы шли по краю плато до дороги на Робинсон, спускавшейся по склону. И лишь только мы оказывались внизу, до нас доносились звуки шарманки, сопровождающей карусель, и громкий смех обедающих под деревьями.
Я вспоминаю некоторые вечера. Мы шли через Робинсон, любопытство привлекало нас ко всему этому шумному веселью. То там, то здесь среди каштанов зажигались огни, а откуда-то сверху доносился стук вилок, и мы поднимали голову и искали огромное гнездо, где чокались так звонко. По временам сухой выстрел карабина прерывал нескончаемые вальсы шарманки. Другие гуляющие обедали в кустах, у самой дороги, и смеялись прямо в лицо прохожим. Иногда мы останавливались здесь и дожидались последнего поезда.
А какое удовольствие было возвращаться светлой ночью! Шум затихал, как только мы удалялись от Робинсона. Медленно брели возвращавшиеся на вокзал парочки. Среди деревьев виднелись лишь белые платья, легкие муслиновые шарфы, словно туманные облачка, поднимавшиеся с травы. Теплый воздух был напоен благоуханием. По временам трепетал и тут же замирал смех; в тишине все звуки были слышны очень далеко, – с вершины горы, с других дорог до нас доносилось пение женщин, утомленными голосами напевавших какую-то песенку, и глупенькие куплеты приобретали бесконечное очарование в ласковом вечернем воздухе. Тяжелые майские жуки гудели под деревьями. В теплые вечера они до самой ночи жужжали в уши гуляющих. По временам раздавался девичий визг и, хлопая, как флаги на ветру, мелькали накрахмаленные юбки; или где-то, вероятно, в кабачке матушки Санс, трубач трубил в рог, и его заунывное эхо долетало, будто из глубины волшебного леса. Тьма все сгущалась, смех утихал, и лишь яркий фонарь на станции Фонтене-о-Роз сверкал в ночи.
На вокзале было полно народу. Станция была маленькая и зал ожидания очень тесный. Когда случалась гроза, утомленные путники здесь просто задыхались. В хорошую погоду все предпочитали оставаться на воздухе. Женщины были с охапками цветов. В толпе, нетерпеливо ожидавшей поезд, звучал смех. Наконец публика размещалась по вагонам, и зачастую целый поезд запевал все ту же незамысловатую песенку, заглушая этим громким хором грохот колес и пыхтение паровоза. Цветы просто вываливались из окон, мелькали обнаженные женские руки, обнимая плечи возлюбленных. Это опьяненная весной молодость возвращалась в Париж.
V
Ах! Какие чудесные воскресные дни я проводил на лоне природы, когда мне было двадцать лет! Они остались в моей памяти как одно из самых дорогих воспоминаний. Позднее я познал много других радостей, но ничто не может сравниться с молодостью и ощущением свободы, когда целый день можно полностью отдаваться на волю огромного леса.
I
Вот и зима. Я люблю тихую, неясную грусть, что приходит с первыми зимними днями, люблю крепкий запах опавших листьев и утреннюю рябь на реке. Иногда я беру лодку и уплываю в конец какого-нибудь маленького рукава между двумя островками. Там, в безмятежном покое, после светлой кончины лета, я остаюсь наконец один, вдали от всего мира, словно отшельник былых времен.
Ах! Как все далеко и каким все кажется незначительным! Ну к чему было столько волноваться вчера, пытаясь из глупого тщеславия установить истину? Сейчас я чувствую себя песчинкой, затерянной в огромном мире природы, я не знаю больше, что истинно в нашей муравьиной суете, в этих литературных и политических баталиях, – на наш взгляд, они полны значимости, а от них даже не шевельнется тростник на берегу. Знаю я лишь одно: мы словно соломинки, вовлеченные в извечную работу природы, и поневоле становишься скромным и мудрым, когда осенним утром прислушиваешься в одиночестве к этой работе.
Широко раскинулась водная гладь, в тусклом небе плывут мелкие облака, звенящая тишина спускается с деревьев. У меня лишь одно желание – погрузиться в небытие, исчезнуть в этих водах, в этих облаках, раствориться в этой тишине. Как хорошо – прекратить споры с самим собой и отдаться на волю природы, которая делает свое дело, не останавливаясь и не рассуждая! Завтра снова начнутся наши бесплодные распри. Так будем же сегодня сильными и бездумными, как эти кони, которые пасутся на свободе тут, на островах, по самое брюхо в траве.
Вся моя молодость всплывает передо мной. Я вспоминаю то время, когда отправлялся с приятелями на Сену, за несколько миль от Парижа. Счастливая пора, когда кажется, что ты все на свете завоюешь, а хранить тебе еще нечего!
II
Это была деревушка, расположенная вдали от железной дороги и потому оторванная от внешнего мира. Ее домики беспорядочно рассыпались по крутому берегу; однако во время больших паводков вода иной раз подходила к домам и жители ездили друг к другу на лодках. Летом мы спускались к Сене по заросшему травой склону, где петляло множество тропинок. В деревне мы нашли добряка – хозяина харчевни, который всю ее отдал в наше распоряжение. Постояльцы были редкостью, – только по воскресным дням заглядывали в харчевню крестьяне, поэтому хозяин был рад компании парижан, приезжавших на несколько недель.
В течение трех лет мы были настоящими властителями округи. Домик был маленький; и когда наша компания разрасталась до двенадцати человек, приходилось искать комнаты в деревне. Я снял комнату у кузнеца. До сих пор у меня перед глазами просторная комната – огромный дубовый шкаф, побеленные стены, с наклеенными на них картинками, оштукатуренный камин, на котором выставлена вся роскошь крестьянина: бумажные цветы под стеклянным колпаком, золоченые коробочки, выигранные на ярмарках, раковины, привезенные из Гавра. Чтобы взобраться на кровать, нужна была лесенка. В комнатах стоял приятный запах свежевыстиранного белья, которым был полон шкаф.
Сданная мне кузнецом комната принадлежала его старшей дочери, и на гвоздях все еще висели ситцевые юбки и полотняные лифы. Приятели шутя говорили, что я сплю среди юбок. И в самом деле гардероб этой крестьянки смущал мой покой. Иногда меня разбирало любопытство и я, забравшись в шкаф, рассматривал все, что в нем висело. До чего ж здорова была девка! Пояса ее платьев были мне широки, а в каждом ее лифе могли бы без труда поместиться по две парижанки. Как-то вечером я обнаружил под стопкой полотенец корсет; я обомлел, увидев эти доспехи: настоящие латы из китового уса, которые могли бы свободно облечь торс Венеры Милосской. Нужно сказать, что на второй год моего пребывания у кузнеца прекрасная Эрнестина вышла замуж за мясника из Пуасси.
В четыре часа утра ласточки, которые свили себе гнездо на печной трубе, будили меня своим звонким щебетаньем. И все-таки я засыпал вновь; но около шести часов начинался оглушительный грохот. Внизу кузнец принимался за работу. Моя комната находилась как раз над кузницей. Мехи ревели неистово, как морская буря, молоты ритмично падали на наковальню, весь дом сотрясался от этой музыки. В первое время мне казалось, что моя кровать подпрыгивает уж очень сильно, и я поневоле вставал; потом привык, и, когда, бывало, устану, песня молотов даже убаюкивала меня.
III
Мы приезжали сюда ради Сены и проводили на реке целые дни. За три года мы ни разу не совершили прогулки пешком; однако не было ни одного островка, ни одного маленького рукава или излучины реки, которых бы мы не знали. Прибрежные деревья стали нашими друзьями; мы могли бы сосчитать по памяти камни, все утесы, мы чувствовали себя как дома на целое лье вверх и вниз по течению реки. Еще и сегодня стоит только закрыть глаза, как передо мной возникает Сена, ее завесы из тополей, берега, усыпанные крупными голубыми и лиловыми цветами, пустынные острова, заросшие высокой травой.
У нашего хозяина была лодка, сделанная, думается, в Гавре, тяжеловатая барка, вмещавшая человек пять-шесть. Должно быть, она была весьма крепкой, если выдержала те злоключения, на которые мы ее обрекали. То мы, бывало, разгоним ее, и она со всего размаха врезается в берег, то мы ее протаскивали по упавшим в воду деревьям, то бедняга садится на мель, зарываясь в песок так глубоко, что нам приходится разуваться, влезать по колено в воду и вытаскивать ее. Она только кряхтела, а нас это смешило. Случалось, что просто из озорства, желая испытать лодку, мы нарочно бросали ее на камни сильным ударом весел. От резкого толчка все падали навзничь; она же, получив царапины, издавала глухой стон, что приводило нас в полнейший восторг.
Не знаю, подозревал ли хозяин о тех испытаниях на крепость, которым подвергалась его лодка; но помню, что он не раз смотрел на нее задумчивым и жалостливым взглядом, когда полагал, что его никто не видит. Наклонившись, он с отеческой тревогой осматривал и поглаживал свою лодку. Это был мягкосердечный человек. Он так и не решился высказать нам свое недовольство.
IV
А затем, утихомирившись, мы наслаждались бесконечным очарованием реки.
Берега ее расступаются, русло становится широким водоемом, и вот здесь-то, в ряд, стоят три острова. Первый слева, очень длинный, растянулся почти на пол-лье; второй отделен от него рукавом, протяженностью не более трехсот метров; третий просто холм с высокими деревьями. За ними разбросан целый архипелаг крохотных островков, увенчанных зеленью и разделенных протоками. По левому берегу тянутся возделанные поля; правый, высокий берег покрыт густым лесом.
Мы поднимались вверх по течению и, чтобы не устать, шли у самого берега; затем, выйдя на середину реки, отдавали лодку на волю течения. Она бесшумно скользила, предоставленная сама себе. Мы же лениво переговаривались, растянувшись на скамьях. Но всякий раз в тихую погоду, когда лодка подплывала к островам, мы умолкали и невольная задумчивость охватывала нас.
Прямо перед нами над светлой водой на одной линии стояли в ряд три острова, оконечности которых, закругленные и покрытые зеленью, напоминали огромные корабельные носы. В багровом свете заката три огромные купы могучих деревьев устремляли вверх свои зеленые верхушки и дремали в недвижном воздухе. Можно было подумать, что это стоят на якоре три корабля, три левиафана, мачты которых каким-то чудом покрылись листвой. Острова смотрятся в эту водную гладь, в это огромное, без единой рябинки серебряное зеркало и видят в нем уходящие вглубь отражения своих берегов и высоких деревьев. Покой и величие исходят от лазури неба и реки, где так безмятежно спят деревья. А по вечерам, когда не шелохнется ни один листок, когда вода отливает голубоватым блеском стали, картина становится еще более величественной и навевает думы о беспредельности.
Мы плыли все дальше по протокам между островами. Здесь царило более задушевное очарование. Деревья, наклонившиеся к воде с обоих берегов, превратили реку в длинную садовую аллею. Над нами лишь узкая полоса неба, а далеко впереди открывается Сена, которая убегает от нас, сверкая серебряными чешуйками; снова лесистые пригорки, а среди них затерялась деревенская колокольня. После покоса луга на островах покрыты нежным бархатным ковром, который бороздят косые лучи заходящего солнца. Розово-зеленой молнией с криком пронесся над водою зимородок. На верхушках деревьев воркуют горлицы. Величественный покой, какая-то удивительная свежесть создают необычайное впечатление: кажется, что мы попали в вековой парк, где некогда знатные дамы предавались любовным утехам.
Затем мы заплывали в какой-нибудь маленький рукав, и там нас ожидало новое удовольствие. Грести было невозможно. Приходилось бросать весла и в трудных местах отталкиваться багром. Деревья смыкались сплошной стеной, верхушки переплетались – и мы плыли под сводом, закрывавшим от нас все небо. Течение подмывало корни столетних ив, обнажив их серые корни, похожие на клубки ужей; подгнившие стволы наклонялись к самой воде и своим трагическим обликом напоминали утопленников, которые зацепились за что-то волосами и лишь поэтому не погружаются в воду; и все же из такого разбитого, растрескавшегося и покрытого грязной пеной дерева вырывается свежая поросль нежных ветвей и листьев, возносится вверх и дождем падает вниз. Проплывая под зеленым сводом, мы наклоняем голову, и ветки ласкают нас своим прикосновением.
Иногда нам приходилось плыть среди водяных растений; листья кувшинок, плотные и круглые, словно спины лягушек, лежали на воде, и мы рвали мясистые влажные желтые цветы; раскрывшиеся кувшинки выглядывали из воды, как глаза любопытных карпов. Были там и другие растения, названий которых мы не знали; но больше всего маленьких лиловых цветочков, удивительно изящных и нежных.
Тем временем лодка, шурша, раздвигала листья, продолжая свой путь вниз по течению. То и дело ее приходилось поворачивать, следуя изгибам рукава. Это вызывало бурное волнение, так как мы не были уверены, что нам удастся пройти. Часто на нашем пути возникали мели. И как же мы торжествовали, когда, преодолев затруднения, выплывали на широкий простор, миновав узкий проход, похожий на едва приметную лесную тропинку, где пробраться можно только гуськом и где кусты сами смыкаются за вашей спиной!
Сколько чудесных утренних часов провели мы на реке! По утрам от воды подымался пар. Будто нежные кисейные шарики взлетали над водой, цепляясь обрывками легкой ткани за ветви прибрежных деревьев. Тополя кажутся одетыми в белый наряд. А когда всходит солнце, этот наряд тихо спадает, словно платье новобрачной в день свадьбы; еще мгновение деревья укрыты пеленой, и вдруг листва их затрепетала, засверкала.
Нам нравились эти часы утренней белой дымки, и мы уплывали в лодке полюбоваться восходом солнца. Река дышала, и над ней поднимались белые, как молоко, испарения. Внезапно прорывался луч солнца, окрашивая туман золотом и багрянцем. В течение нескольких минут тончайшие тона – бледно-розовый, бледно-голубой, нежно-лиловый – переливались и таяли в воздухе. Затем словно проносился порыв ветра. Туман исчезал, и под ликующим солнцем голубая-голубая река искрилась мириадами блесток.
Ночами, особенно лунными, любили мы совершать прогулки вверх по течению в соседнюю деревню и возвращались обратно поздно, около полуночи. Лодка медленно спускалась вниз по реке, в необъятной тишине. В угасшей синеве неба вставала полная луна, бросая на водную ширь свой серебряный веер. Больше уже ничего нельзя было различить; оба берега с их полями и пригорками казались двумя темными массами, разделенными белой полосой реки. По временам с невидимых полей до нас долетали отдаленные голоса, крик совы, кваканье лягушки, дремотный шорох хлебов, колыхавшихся под ветром. Отражение луны плясало в борозде, которую оставляла за собой лодка; мы опускали в прохладную воду свои горячие руки.
Возвратившись в Париж, я еще долго ощущал приятное покачивание лодки. По ночам мне снилось, что я гребу, черный челн уносит меня во тьму. Возвращаться было всегда грустно. Камни мостовых удручали меня, а если мне случалось переходить через Сену, я бросал на нее взгляд ревнивого любовника.
Затем жизнь брала свое, ведь надо было жить. Работа вновь целиком захватывала меня, я вновь вступал в великое сражение.
VI
Вот почему теперь, когда я сам себе хозяин, я хотел бы затеряться в каком-нибудь глухом уголке, на цветущем берегу реки, между двумя старыми ивами. Как мало места нужно человеку для вечного упокоения! Суета мирская меня бы больше не волновала. Я лег бы на спину, раскинув по траве руки, и попросил бы милостивую природу навсегда взять меня к себе.
Перевод В. Орловской