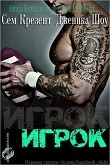Текст книги "Собрание сочинений. Т.23. Из сборника «Новые сказки Нинон». Рассказы и очерки разных лет. Наследники Рабурдена"
Автор книги: Эмиль Золя
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 44 страниц)
I
Графу де Вертейль пятьдесят пять лет; он принадлежит к одному из самых знатных родов Франции и владеет крупным состоянием. Не желая служить Республике, он применял свои способности в самых различных областях: печатал в ученых журналах статьи, благодаря которым стал членом Академии политических и моральных наук, занимался коммерческими делами, позднее – увлекался то земледелием, то разведением племенного скота, то искусством. Одно время он даже был депутатом и страстными нападками на правительство приобрел известность.
Графине де Вертейль сорок шесть лет. Она все еще слывет самой очаровательной блондинкой Парижа. С годами ее кожа как будто стала еще нежнее; она была несколько худощава; постепенно ее плечи приобрели бархатистую округлость спелого плода. Графиня в расцвете красоты. Когда она входит в гостиную, восхищая всех сиянием золотистых волос и матовой белизной полуобнаженной груди, она подобна ярко блистающей звезде, двадцатилетние светские женщины завидуют ей.
Семья графа и графини – одна из тех, о которых не сплетничают. Их союз был заключен так, как обычно заключаются браки в этом кругу. Говорят даже, что они прожили шесть лет очень согласно. За эти первые годы у них родился сын Роже, ныне офицер, и дочь Бланш, которую они в прошлом году выдали замуж за г-на де Бюссака, докладчика Государственного совета. Дети – единственное, что связывает их. Между ними давно нет близости, но сохранились дружеские отношения, в значительной мере основанные на эгоизме. Супруги советуются друг с другом, являют в свете картину полного единения, но после приемов удаляются каждый на свою половину, где принимают: она – своих близких друзей, он – своих.
Однажды Матильда возвратилась с бала около двух часов пополуночи. Горничная помогла ей раздеться и, прежде чем уйти, доложила:
– Господину графу сегодня вечером нездоровилось.
Графиня, уже задремавшая, лениво повернула голову и сонно пробормотала:
– Неужели? – Улегшись поудобнее, она прибавила: – Разбудите меня завтра в десять часов, я жду модистку.
На другое утро граф не выходит к завтраку; графиня сначала справляется о его здоровье через слуг, затем решается сама навестить его. Она застает мужа в постели, сильно осунувшегося, но, как всегда, подтянутого. К нему уже приглашали трех врачей; посовещавшись вполголоса, они оставили рецепты и ушли, предупредив, что вернутся вечером. За больным ухаживают два лакея, они молча, с сосредоточенным видом снуют взад и вперед, пушистый ковер заглушает их шаги. В просторной спальне царит дремотный покой, величавый порядок; ни одно кресло не сдвинуто с места, ни одна безделица не брошена куда попало. Здесь болеют опрятно и благопристойно, соблюдая светские приличия, учтиво принимая посетителей.
– Вы больны, друг мой? – спрашивает графиня, переступив порог.
Сделав над собой усилие, граф улыбается.
– Пустяки, – отвечает он, – я слегка переутомился… Мне нужен только покой. Благодарю вас за внимание…
Проходит два дня. Спальня сохраняет свой пышный вид; каждая вещь на своем месте, нигде ни пятнышка от микстур и настоек. На гладко выбритых лицах слуг не уловить ни раздражения, ни усталости. Но граф знает, что он при смерти. Он потребовал, чтобы врачи сказали ему правду, и безропотно подчиняется их предписаниям. Обычно он лежит с закрытыми глазами или же неподвижно глядит перед собой, словно размышляя о своем одиночестве.
В свете графиня говорит, что ее муж нездоров. Она ничего не изменила в своем образе жизни: спит, ест, гуляет в положенные часы. Утром и вечером она регулярно заходит к графу осведомиться о его состоянии.
– Ну как? Вам лучше, друг мой?
– О да, значительно лучше, благодарю вас, милая Матильда.
– Если вы желаете, я останусь ухаживать за вами.
– Нет, это лишнее. Достаточно Жюля и Франсуа. Зачем вам утруждать себя?
Они понимают друг друга: врозь они жили, врозь хотят умереть. Граф испытывает горькую радость эгоиста, решившего уйти в одиночестве, не допустив у своего одра докучной комедии притворной скорби. Он по возможности укорачивает, ради себя и ради графини, эти тягостные предсмертные свидания с ней. Последнее его желание – уйти с достоинством, как подобает настоящему светскому человеку, которому не пристало кого-либо беспокоить, вызывать отвращение в ком бы то ни было.
Но однажды вечером графу становится ясно, что он не доживет до утра; и когда жена, как обычно, заходит к нему, он, выдавив на лице слабую улыбку, говорит ей:
– Останьтесь… Мне плохо…
Он хочет оградить ее от светских сплетен. Она, со своей стороны, ждала этого предупреждения и тотчас располагается в спальне. Врачи не отходят от умирающего. Оба лакея ухаживают за ним все с тем же немым усердием. Сын и дочь – их вызвали – стоят рядом с матерью у постели. В соседней комнате собрались родственники. Ночь проходит в напряженном ожидании. Утром приносят святые дары; граф приобщается при всех, дабы в последний раз подать пример благочестия. Ритуал выполнен, он может умереть.
Но он не торопится; он словно напрягает последние силы, чтобы уйти без лишнего шума, без предсмертных судорог. В огромной роскошной спальне его дыхание слышится не более громко, чем звучало бы сиплое тиканье разладившихся стенных часов. Так уходят из жизни благовоспитанные люди. Поцеловав жену и детей, он жестом отстраняет их, поворачивается лицом к стене и умирает одиноким.
Один из врачей наклоняется, закрывает умершему глаза и вполголоса говорит:
– Все кончено.
В тишину вторгаются рыдания и вздохи. Графиня, Роже и Бланш опускаются на колени; они плачут, закрыв лицо руками; выражения их лиц не видно. Немного погодя дети уводят мать; на пороге она, чтобы подчеркнуть свою скорбь, с громким рыданием сгибает стройный стан. С этой минуты мертвец принадлежит тем, кто устроит ему пышное погребение.
Врачи ушли, смущенно сутулясь, изображая на лице подобие огорчения. Из приходской церкви пригласили священника читать молитвы над покойником. Вместе с ним бодрствуют оба лакея, чинно, неподвижно сидя на своих стульях; этим завершается их служба усопшему. Один из них замечает ложечку, забытую на кресле; он быстро встает и незаметно сует ее в карман, дабы ничто не нарушало безукоризненного порядка, царящего в спальне.
Сверху, из большой гостиной, доносится стук молотков: там обойщики прилаживают траурное убранство. Следующий день уходит на бальзамирование. Двери наглухо закрыты, в спальне – только бальзамировщик и его подручные. Когда спустя сутки графа переносят в большую гостиную и открывают доступ к нему, мертвец облачен во фрак, вид у него свежий, моложавый.
В день похорон особняк с утра наполняется негромким жужжаньем голосов. В одной из гостиных первого этажа сын и зять усопшего, неустанно раскланиваясь, с безмолвной учтивостью людей, удрученных скорбью, принимают соболезнования. Явилось множество знаменитостей: знать, военные, представители судебного ведомства, даже сенаторы и академики.
В десять часов процессия трогается в путь по направлению к церкви. Похороны – по первому разряду. Погребальная колесница украшена султанами, гроб скрыт под богатым покровом с серебряной бахромой. Одну из кистей покрова поддерживает старик, маршал Франции, другую – герцог, близкий друг покойного, третью – бывший министр, четвертую – знаменитый академик. За колесницей идут Роже де Вертейль и г-н де Бюссак, а за ними следует похоронная процессия – толпа провожающих в черных галстуках и черных перчатках, все люди известные: они тяжело переводят дух, шагая в пыли; слышен глухой топот, словно врассыпную бредет огромное стадо.
Весь квартал в волнении: одни теснятся у окон, другие стоят, сняв шляпы, вдоль тротуаров и, покачивая головой, глазеют на внушительное шествие. Длинная вереница сопровождающих процессию карет, почти сплошь пустых, затормозила уличное движение: на перекрестках скопляются омнибусы, фиакры, слышна ругань возниц и щелканье бичей. А тем временем графиня де Вертейль, под предлогом, что она обессилена горем, оставшаяся дома, уединилась на своей половине. Она с успокоенным, мечтательным видом лежит на кушетке, перебирая пальцами кисти пояса, устремив глаза к потолку.
В церкви заупокойная служба длится более двух часов; духовенство старается вовсю; с раннего утра священники с озабоченными лицами, в стихарях, суетятся, отдают распоряжения, утирают пот со лба, шумно сморкаются. Посреди задрапированного черным сукном нефа пылает сотнями свечей роскошный катафалк. Наконец все размещены: женщины по левую сторону, мужчины – по правую; церковь оглашается скорбным рокотом органа, глухими стенаниями певчих, щемящими душу возгласами дискантов, а зеленоватые огни факелов, вставленных в массивные торшеры, своей мертвенной тусклостью еще усугубляют мрачность пышного обряда.
– Кажется, будет петь Фор? – спрашивает какой-то депутат у своего соседа.
– Думаю, что так, – отвечает сосед, бывший префект, красавец мужчина, издали улыбающийся дамам.
А когда голос знаменитого певца разносится над замершими в восхищении слушателями, он, блаженно покачивая головой, вполголоса прибавляет:
– Ах! Какая школа! Какой диапазон!
Все млеют от упоения. Дамы с легкой улыбкой на губах вспоминают оперные спектакли. Да, этот Фор – действительно талант! Кто-то из друзей покойного увлекается настолько, что говорит:
– Он поет, как никогда! Какая жалость, что Вертейль его не слышит, бедняге так нравился его голос!
Певчие в черных облачениях расхаживают вокруг катафалка. Священники – их человек двадцать – истово выполняют сложный церемониал: преклоняют колена, искусно модулируют латинские возгласы, мерно раскачивают кадильницы. Наконец присутствующие дефилируют мимо гроба, окропляя его святой водой. Затем все, пожав, как полагается, руку членам семьи усопшего, выходят из церкви.
Их ослепляет яркий солнечный свет. Стоит чудесный июльский день. В жарком воздухе дрожат тонкие светлые нити. На небольшой площади перед церковью происходит заминка – не сразу удается снова наладить шествие. Те, кто не хочет дальше следовать за гробом, незаметно исчезают. Площадь еще запружена каретами, а султаны колесницы уже колышутся на расстоянии двухсот метров, в конце широкой улицы, и исчезают за поворотом. Слышно хлопанье дверец, цоканье копыт по мостовой. Экипажи гуськом съезжают с площади, и процессия направляется к кладбищу.
В каретах удобно, покойно, можно вообразить, что неспешно едешь по весеннему Парижу в Булонский лес. Колесницы уже не видно, поэтому о похоронах быстро забывают; завязываются разговоры: дамы говорят о летнем сезоне, мужчины – о делах.
– Скажите, дорогая, вы нынче опять поедете в Дьепп?
– Пожалуй, что да… Но никак не раньше августа… В субботу мы уезжаем в наше имение на Луаре.
– Так вот, милейший, ему попалось это письмо, и они стрелялись!.. О!.. На самых легких условиях, пустячная царапина… Вечером я обедал с ним в клубе… Он даже выиграл у меня двадцать пять луидоров…
– Общее собрание акционеров назначено на послезавтра, не так ли? Меня хотят выбрать в наблюдательный совет, но я так занят, что не знаю, смогу ли я…
Погребальная процессия уже несколько минут движется по широкой аллее; от тополей веет тенистой прохладой, солнечные блики играют в зеленой листве. Выглянув в окно кареты, какая-то дама необдуманно восклицает:
– Ах! Как здесь мило!
А ведь процессия вступила на кладбище Монпарнас. Разговоры смолкают, слышен только скрип колес по гравию аллей. Нужно дойти до самого конца аллеи, – фамильная усыпальница графов де Вертейль в глубине, по левую руку: внушительное, напоминающее часовню сооружение из белого мрамора, богато украшенное изваяниями. Гроб ставят у входа в усыпальницу, и начинаются речи.
Один за другим говорят четыре оратора. Сначала бывший министр обрисовывает политическую деятельность покойного, изображая его непризнанным гением, который, не будь он исполнен презрения к интригам, спас бы Францию. Затем близкий друг графа превозносит семейные добродетели того, кого все оплакивают. После него неизвестный господин говорит от имени акционерного общества, почетным председателем которого состоял граф де Вертейль. Последним – невзрачный человек с постной физиономией выражает сожаление от имени Академии политических и моральных наук.
Во время речей присутствующие с интересом разглядывают соседние могилы, читают высеченные на мраморных плитах надписи; до тех, кто прислушивается, долетают только обрывки фраз. Уловив слова: «…душевные качества покойного… доброта и благородство, присущие великим душам…» – высокий старик с поджатыми губами, мотая головой, бормочет:
– Как бы не так! Я-то его хорошо знал: отъявленный был мерзавец!
Прощальные слова замирают в воздухе. Священники в последний раз благословляют тело, и все расходятся; в этом дальнем уголке кладбища остаются одни могильщики, которые спускают гроб в глубокую яму. Веревки шуршат, дубовый гроб поскрипывает. Граф де Вертейль – у себя.
За все это время графиня не пошевельнулась на своей кушетке; устремив глаза к потолку, перебирая кисти пояса, она предается мечтам, вызывающим легкий румянец на ее нежных, отливающих тусклым золотом щеках.
II
Госпожа Герар – вдова. Ее муж, которого она потеряла восемь лет назад, был председателем суда. Она принадлежит к верхушке буржуазии и имеет состояние в два миллиона франков. У нее трое детей – три сына, которые после смерти отца унаследовали по пятьсот тысяч франков каждый. Но в этой семье – суровой, чопорной, холодной – сыновья росли, словно дички, и рано обнаружили неведомо откуда взявшиеся сумасбродные прихоти, нелепые причуды. За несколько лет все они промотали свое наследство. Старший, Шарль, увлекся техникой и ухлопал свои деньги на какие-то необыкновенные изобретения. Второго, Жоржа, в пух и прах разорили женщины. Третьего, Мориса, дочиста обобрал приятель, вместе с которым он затеял построить театр. Все три сына теперь жили на средства матери, которая согласилась давать им стол и квартиру, но, осторожности ради, ключи от шкафов всегда держит при себе.
Семья Герар занимает большую квартиру на улице Тюрен, в квартале Маре. Г-же Герар шестьдесят восемь лет. С годами у нее появились странности. У себя дома она требует монастырской тишины и опрятности. Она скупа, пересчитывает кусочки сахара, сама запирает в буфет недопитые бутылки вина, выдает белье и столовую посуду счетом, по мере надобности. Разумеется, сыновья очень любят ее, и хотя всем им перевалило за тридцать и они наделали кучу глупостей, она безраздельно властвует над ними.
Но когда она одна с этими тремя верзилами, ее охватывает смутная тревога; она постоянно боится – а вдруг они попросят денег и у нее не найдется веского довода, чтобы отказать им. Поэтому она предусмотрительно вложила все свои деньги в недвижимую собственность, – у нее три дома в Париже и незастроенные участки в окрестностях Венсена. Эти владения доставляют ей много хлопот, но зато она спокойна: у нее всегда есть уважительные причины не давать никому из сыновей крупных сумм зараз.
Впрочем, Шарль, Жорж и Морис стараются перехватывать у нее по мелочам, сколько могут. Они живут дома, как на биваке, ссорясь между собой из-за каждой подачки, упрекая друг друга в непомерной жадности. Смерть матери вернет им богатство; они это знают, и это кажется им достаточным основанием, чтобы жить в полной праздности. Хотя они никогда не говорят об этом, их постоянно занимает мысль, как будет произведен дележ. Если они не поладят, придется продать недвижимость, а это всегда убыточно. Они размышляют об этих делах без всяких дурных желаний, а только потому, что нужно ведь все предусмотреть. Все трое – парни веселого нрава, добродушные, заурядной честности. Как всем людям, им хочется, чтобы мать жила как можно дольше. Она им не мешает. Они дожидаются, вот и все.
Однажды вечером, встав от стола, г-жа Герар почувствовала недомогание. Сыновья уговорили ее лечь в постель и, после того как она уверила их, что ей лучше, что у нее всего-навсего сильная мигрень, ушли, оставив ее на попечение горничной. Но на другой день старухе стало хуже; домашний врач, встревоженный ее состоянием, предложил созвать консилиум. Г-жа Герар опасно заболела. И за неделю у кровати умирающей назревает драма.
Когда болезнь приковала г-жу Герар к спальне, она первым делом велела подать себе все ключи и спрятала их под подушкой. Лежа в постели, она силится по-прежнему управлять всем домом, охранять свое добро от расточительства. В ней происходит борьба, ее терзают сомнения. Только после долгих колебаний она решается на что-либо. Трое сыновей возле нее; она потускневшими глазами наблюдает за ними, дожидаясь, не осенит ли ее верная мысль.
Один день ей кажется, что нужно довериться Жоржу. Она знаком подзывает его:
– Смотри, вот ключ от буфета, достань сахар… Потом хорошенько запрешь и отдашь ключ мне.
Назавтра у нее зарождается недоверие к Жоржу; стоит ему шевельнуться, и она уже следит за ним глазами, словно опасаясь, что он засунет в карман безделушки, украшающие камин. В этот день она зовет Шарля и вручает ключ ему, бормоча:
– Горничная пойдет с тобой. Ты последишь за тем, как она вынет простыни, и сам запрешь шкаф.
В эти предсмертные дни она терзается тем, что уже не может следить за расходами по дому. Она вспоминает сумасбродные выходки своих сыновей; она знает, что они лентяи, обжоры, что у них шалые головы, мотовские руки. Она давно уже перестала уважать этих людей, которые не оправдали ни одной из ее надежд, попирают ее любовь к бережливости и порядку. И все же материнская привязанность берет верх и заставляет ее прощать им. Умоляющие глаза больной просят сыновей лишь об одной милости – дождаться, пока ее не станет, и только тогда опустошить ее хранилища и разделить между собой ее имущество. Дележ у нее на глазах был бы жесточайшей пыткой для ее неслабеющей скупости.
А между тем Жорж, Шарль и Морис во время болезни матери очень добры к ней. Они сговариваются так, что кто-нибудь из них всегда дежурит возле нее. В их заботе о ней сказывается искренняя привязанность. Но они невольно вносят в дом беззаботный дух бульваров, запах только что выкуренной сигары, новости и слухи, гуляющие по городу. И эгоистичная больная страдает оттого, что в последние дни она не заполняет без остатка жизнь своих детей. Позднее, когда она все более слабеет, подозрительность приводит к тому, что отчуждение между ней и сыновьями день ото дня растет. Даже если бы они совершенно не помышляли о том состоянии, которое им предстоит унаследовать, мать сама тем упорством, с каким она до последней минуты цепляется за свое богатство, заставила бы их думать о нем. Она смотрит на сыновей так пытливо, с таким явным опасением, что они отворачиваются. Тогда ей начинает казаться, будто они с нетерпением ждут ее смертного часа. Действительно, они думают о ее кончине, и на эту мысль их непрестанно наводит она сама своим безмолвно вопрошающим взглядом. Она сама возбуждает в них алчность. Стоит ей подметить, что кто-нибудь из сыновей бледнее и задумчивее обычного, она тотчас подзывает его к себе:
– Поди сюда… О чем ты размышляешь?
– Ни о чем, мама…
Но сын вздрогнул, и мать, медленно кивая головой, говорит:
– Я вам доставляю много хлопот, детки. Не расстраивайтесь, скоро меня не станет…
Они теснятся вокруг нее, наперебой уверяя, что любят ее и отвоюют у смерти. Она упрямым покачиванием головы отвечает, что не верит им, и все более укрепляется в своих подозрениях. Страшная агония, отравленная мыслью о деньгах!
Болезнь длится три недели. Уже пять раз устраивались консилиумы, приглашались крупнейшие медицинские светила. Горничная помогает сыновьям ухаживать за госпожой; несмотря на все старания, в квартире заметен некоторый беспорядок. Всякая надежда исчезла: врач предупредил, что конца следует ждать с часу на час.
Однажды утром сыновья, думая, что мать спит, вполголоса обсуждают у окна неожиданно возникшее затруднение. Завтра 15 июля. Г-жа Герар обычно сама взимала квартирную плату с жильцов своих домов; сыновья озабочены вопросом о том, как получить эти деньги. Консьержи запрашивают распоряжений. В том состоянии, в котором находится мать, сыновья не могут говорить с ней о делах. А между тем конец может наступить в любую минуту, и квартирная плата понадобится каждому из них на личные расходы.
– Ах, боже мой! – вполголоса говорит Шарль. – Если хотите, я могу сам обойти жильцов… Они поймут положение и заплатят.
Но Жоржу и Морису этот проект, как видно, не по душе. Они тоже стали подозрительными.
– Мы могли бы тебя сопровождать, – предлагает Жорж. – Всем нам предстоят расходы.
– Ну и что же! Я вам отдам деньги… Ведь не считаете же вы меня способным удрать с ними!
– Нет, но лучше, чтобы мы явились все вместе. Это будет более убедительно.
Они умолкают и вперяют друг в друга взгляды, уже сверкающие той злобой, той ненавистью, что вспыхивает при дележе. Спор о наследстве назрел, каждому хочется урвать как можно больше.
Вдруг Шарль громким голосом высказывает ту мысль, которую его братья не решаются выразить вслух:
– Послушайте, мы продадим недвижимость, это будет разумнее. Если мы уже сегодня ссоримся, завтра мы передеремся!
Хриплый вздох заставляет их поспешно обернуться. Мать, мертвенно-бледная, с блуждающими глазами, дрожа с головы до ног, приподнялась на постели. Она все слышала: простирая к ним исхудалые руки, она прерывающимся голосом повторяет:
– Дети мои… Дети мои…
 Предсмертная судорога отбрасывает ее назад, на подушки; она умирает с ужасной мыслью, что сыновья хотят ее обобрать.
Предсмертная судорога отбрасывает ее назад, на подушки; она умирает с ужасной мыслью, что сыновья хотят ее обобрать.
Все трое в ужасе падают на колени у ее кровати. Они целуют руки умершей, рыдая, закрывают ей глаза. В эту минуту в их памяти оживает детство, они сознают только одно – что осиротели. Эта страшная смерть всегда будет пробуждать в их сердцах укоры совести и взаимную ненависть.
Горничная обряжает покойницу. Посылают за монахиней, которая будет читать заупокойные молитвы. Тем временем сыновья усиленно хлопочут; нужно подать заявление в мэрию, заказать извещения, пойти в бюро похоронных процессий. Ночью они по очереди бодрствуют вместе с монахиней у тела матери. В спальне, где занавески плотно задернуты, покойница лежит, вытянувшись во весь рост, посреди кровати; голова запрокинута, руки сложены крест-накрест, на груди – серебряное распятие. У кровати горит свеча. В сосуде со святой водой – веточка самшита. Когда брезжит холодный рассвет, бдение заканчивается. Монахиня просит горячего молока, ей не по себе.
За час до похорон лестница запружена людьми. Подъезд увешан черными, обшитыми серебряной бахромой драпировками. Там, словно в узкой часовне, выставлен гроб, окруженный свечами, покрытый венками и букетами. Каждый, кто входит, окропляет покров святой водой из чаши, стоящей у подножия гроба. В одиннадцать часов похоронная процессия трогается в путь. Ее возглавляют сыновья покойной. За ними идут члены суда, несколько видных промышленников, – всё люди, принадлежащие к богатой, крупной буржуазии; они шествуют размеренным шагом, искоса поглядывая на любопытных, стоящих вдоль тротуаров. Шествие замыкают двенадцать траурных карет. Жители квартала считают и пересчитывают их; они поражены этим великолепием.
Меж тем друзья и знакомые сочувственно говорят о Шарле, Жорже и Морисе, которые во фраках, в черных перчатках следуют за гробом с покрасневшими от слез глазами, низко склонив головы. Все единодушно признают: они устроили матери очень приличные похороны. Погребальная колесница – второго разряда. Досужие люди прикидывают, что сыновья потратили несколько тысяч франков. Старик нотариус с лукавой улыбкой говорит:
– Если бы госпожа Герар сама платила за свои похороны, она заказала бы от силы шесть карет!
Портал церкви задрапирован черным сукном, орган гремит, приходский священник торжественно отпускает усопшей грехи. После заупокойной службы все три сына, выстроившись в ряд в начале нефа, принимают соболезнования тех, кто не может сопровождать тело до кладбища. В продолжение десяти минут они, закусив губы, с трудом удерживаясь от слез, непрерывно пожимают руку людям, которых даже не узнают. Для них огромное облегчение, когда наконец церковь пустеет и они снова шагают за гробом.
Фамильный склеп Гераров находится на кладбище Пер-Лашез. Многие из провожающих продолжают путь пешком, другие садятся в кареты. Процессия пересекает площадь Бастилии и сворачивает на улицу Ла-Рокет. Прохожие присматриваются, обнажают головы. Богатые похороны! Рабочие густо населенного квартала следят глазами за шествием, жуя ломти хлеба с колбасой.
Вступив на кладбище, процессия поворачивает налево и сразу же останавливается возле усыпальницы; небольшая готическая часовня, на фронтоне которой высечена надпись: Семья Герар.Решетчатые чугунные двери раскрыты настежь, в глубине виден небольшой алтарь со множеством зажженных свечей. Вокруг часовни длинными рядами, целыми улицами тянутся другие памятники в том же вкусе; это напоминает витрину мебельного магазина, симметрично заставленную только что отделанными шкафами, комодами, секретерами. Внимание провожающих рассеивается; они разглядывают памятники, ищут прохлады в соседней тенистой аллее. Одна из дам восхищается великолепным розовым кустом, выросшим на чьей-то могиле. Чудесный, ароматный букет!
Меж тем гроб сняли с колесницы. В отдалении могильщики в синих куртках ждут, пока священник дочитает последние молитвы. Сыновья всхлипывают, не отрывая глаз от зияющей ямы склепа, обычно скрытого под плитами пола; придет день, когда и они навсегда уснут в этом промозглом мраке. Друзья уводят их, как только могильщики приближаются.
Два дня спустя у нотариуса покойной матери они, без единой слезинки, стиснув челюсти, с остервенением врагов, твердо решивших не уступить один другому ни сантима, спорят о наследстве. В их интересах было бы повременить, не торопиться продавать дома и участки. Но они напрямик, грубо выкладывают друг другу свои подозрения. Шарль снова все ухлопает на свое изобретательство, у Жоржа есть любовница, которая его разорит, Морис, несомненно, опять уже носится с какими-нибудь сумасбродными проектами, которые поглотят все их состояние. Нотариус тщетно старается добиться, чтобы они кончили дело миром. Они расходятся, не придя к соглашению, угрожая друг другу судебным преследованием.
В них ожила умершая мать, с ее чудовищной скупостью, с вечным страхом, что ее оберут. Когда последний час отравлен мыслью о деньгах, смерть порождает только ненависть. На гробах беспощадно дерутся.
III
В двадцать лет г-н Руссо женился на восемнадцатилетней сироте Адели Лемерсье. В тот день, когда они повенчались, у них обоих было ровным счетом семьдесят франков. Сначала они продавали почтовую бумагу и палочки сургуча в подворотнях. Позднее они сняли крохотную лавчонку, убогую конуру, где прокорпели десять лет, мало-помалу расширяя свои дела. Теперь у них на улице Клиши писчебумажный магазин, инвентарная цена которому на худой конец пятьдесят тысяч франков.
Адель – слабого здоровья. Она всегда покашливает. Спертый воздух магазина, долгое стояние за прилавком – все это вредно ей. Врач, у которого они были, посоветовал ей отдохнуть и в хорошую погоду предпринимать дальние прогулки. Но этим советам никак нельзя следовать, если хочешь поскорее сколотить небольшое состояние и спокойно жить на доход с капитала. Адель говорит, что вволю отдохнет и погуляет позднее, когда они ликвидируют предприятие и будут мирно доживать свой век в провинции.
Правда, г-н Руссо сильно тревожится, когда видит жену бледной, с красными пятнами на щеках. Но он по горло занят делами, он не может постоянно следить за ней и заставлять ее беречь себя. Целыми неделями он не находит свободной минуты, чтобы поговорить с ней о ее здоровье. Иногда, слыша ее сухой, отрывистый кашель, он начинает сердиться, заставляет жену накинуть шаль и пройтись с ним по Елисейским полям. Но прогулка утомляет ее, и, возвратись домой, она кашляет еще сильнее; затем заботы и хлопоты снова целиком поглощают внимание г-на Руссо, и до следующего приступа он забывает о болезни жены. Такова уж судьба людей, занимающихся торговыми делами, – они умирают, не успев полечиться.
Однажды вечером г-н Руссо отводит врача в сторону и в упор спрашивает его, опасно ли больна жена. Врач сначала уклончиво говорит, что нужно надеяться на природную силу организма, что он видел случаи, когда гораздо более тяжелые больные выздоравливали. Но в ответ на дальнейшие тревожные расспросы мужа врач признается ему, что у г-жи Руссо – чахотка и что болезнь уже зашла довольно далеко.
Выслушав этот приговор, муж весь побелел. Он любит Адель за то, что она так долго делила с ним лишения, прежде чем они достигли нынешнего скромного достатка. Она для него не только жена, но и помощница, усердие, сметливость которой он хорошо знает. Если она умрет, это будет жестокий удар и для него и для дела. Но он должен мужаться, он не может закрыть магазин, чтобы дать волю слезам. И г-н Руссо ничем не выдает своего горя, старается не пугать Адель заплаканными глазами. Его жизнь снова идет своим чередом. Спустя месяц, размышляя об этих грустных предметах, он убеждает себя, что врачи ведь часто ошибаются. У жены вид не хуже, чем был. И она медленно умирает у него на глазах, а он, озабоченный делами, не слишком страдает. Он ждет катастрофы, но представляет себе, что она наступит в далеком будущем.
Адель иногда говорит:
– Ах! Ты увидишь, как я поправлюсь, когда мы переедем в деревню!.. Господи! Всего только восемь лет осталось ждать. Они быстро пролетят!
Господину Руссо и в голову не приходит, что они могли бы уйти на покой сейчас, когда их сбережения еще не достигли намеченной цифры. Да и сама Адель не согласилась бы на это. Когда цель поставлена, нужно ее достичь.
Однако г-жа Руссо уже два раза неделями не вставала с постели. Потом она перемогалась, опять стояла за прилавком. Соседи говорят: «Бедняжка недолго протянет!» И они не ошибаются. Как раз ко времени ежегодной инвентаризации в третий раз наступает ухудшение. Врач приходит утром, беседует с больной, с рассеянным видом пишет рецепт. Он предупреждает мужа, что роковая развязка близится. Но инвентаризация приковывает г-на Руссо к магазину, он с трудом урывает несколько минут, чтобы наведаться к жене. Он поднимается в спальню утром, когда приходит врач; снова забегает около полудня, перед завтраком; в одиннадцать часов ложится спать в каморке, где ему поставили складную кровать. За больной ухаживает служанка Франсуаза. Страшная женщина эта Франсуаза, уроженка Оверни, – грубая, сомнительной опрятности, с неуклюжими ручищами. Она неловко ухаживает за умирающей, с угрюмым видом подает ей лекарства, с невероятным шумом метет комнату, но не делает уборки; на комоде – груда липких пузырьков из-под лекарств, тазы никогда не моются, на спинке стульев висят какие-то тряпки; пол так завален всякой рухлядью, что недоумеваешь, куда ступить. Но г-жа Руссо ни на что не жалуется; она только колотит кулаком в стенку, когда служанка нужна ей и долго не является на зов. Ведь, кроме ухода за ней, у Франсуазы еще много дела; она должна содержать в чистоте магазин, готовить на хозяина и приказчиков, не считая беготни по закупкам и других непредвиденных хлопот. Поэтому хозяйка не может требовать, чтобы служанка безотлучно находилась при ней. За больной ухаживают, когда для этого есть время.