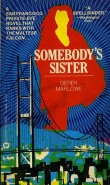Текст книги "Похищение лебедя"
Автор книги: Элизабет Костова
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 37 страниц)
Глава 92
1879
Она спускается к завтраку с небольшим опозданием, но свежая, умытая, только глаза припухли. Тело совсем новое, она его не узнает. Волосы уложены в простую прическу, как всегда, когда под рукой нет Эсми. Внутри стучится душа. Может быть, это и есть чувство греха: чувствовать свою душу, и как она шевелится в теле. Но на сердце бесстыдно легко, и утро кажется светлым. Море за окном, как огромное зеркало, муслин юбки приятно скользит под ладонью. Она небрежно спрашивает у хозяйки, где Оливье, старается смотреть ей прямо в лицо. Старая дама отвечает, что мсье с утра вышел на прогулку и оставил для Беатрис конверт на столике в передней. Она выходит туда, но конверта не находит: наверное, он взял с собой, чтобы отдать ей лично. Надо будет потом спросить.
Женщина ставит перед ней кофе и рогалики, тартинку с джемом, ее плотное немолодое тело обтянуто синим платьем, плечи согнуты, она не моложе Оливье. Беатрис невольно сердится на старуху, на которой Оливье мог бы подобающим образом жениться и сделать ее счастливой. Потом она вспоминает маленькие ночные происшествия, особые ласки, которые длились всего две или три минуты, но кожа еще чувствует их. Она скромно просит еще масла и слышит «Oui», произнесенное старухой на вдохе, и тяжесть теплой безразличной ладони на своем плече. Беатрис не понимает, почему чувствует себя виноватой скорее перед этой самодовольной незнакомкой в фартуке, чем перед замученным работой Ивом, который теперь – обманутый муж. Да, это правда. Так и есть.
И вот он перед ней – Ив Виньо. Это один из двух самых странных в ее жизни моментов. Он входит в столовую, как галлюцинация, стягивает перчатки, шляпу и трость он уже оставил где-то у входа. Теперь она вспоминает, что слышала, как раскрылась и закрылась дверь. Он наполняет маленькую гостиницу, он повсюду, размытое пятно опрятного темного сюртука, улыбка в бороде, его «Eh bien!». Он хотел сделать ей сюрприз, но поразил едва ли не до обморока. На миг эта приятная провинциальная столовая, чуть грубоватая, непривычная, сливается с их комнатами в Пасси, словно его радость и ее вина перенесли его к ней.
– Да я тебя напугал! – Он отбрасывает перчатки и подходит поцеловать ее, и она умудряется встать ему навстречу. – Прости, моя дорогая. Мне следовало быть умнее. – На его бородатом лице раскаяние. – А ты все еще не совсем здорова – как мне пришло в голову появиться без предупреждения?
Он тепло целует ее в щеку в уверенности, что поцелуй поможет ей оправиться.
– Очень милый сюрприз, – выдавливает она. – Как тебе удалось вырваться?
– Сказал им, что моя любимая жена больна и что мне необходимо ее повидать. О, я не ссылался на опасные болезни, но начальник отнесся с пониманием, а поскольку все на моей ответственности… – Он улыбается.
Она не может подобрать слов, которые прозвучали бы естественно и не показались бы ложью. К счастью, его переполняет радость свидания и возбуждение после поездки, и к тому времени, как они снова подсаживаются к ее чашке остывшего кофе, он успевает заключить, что она выглядит лучше, чем он ожидал, и что железнодорожное сообщение действует лучше, чем ему помнилось, и что он чрезвычайно рад сбежать из конторы. Вымыв руки и проглотив две чашки кофе с солидной порцией хлеба с маслом и джемом, он просит провести его в комнату. Он уже заказал номер для себя: он не станет вторгаться в ее маленькое королевство, добавляет он, пожав ей плечо. Он такой большой, такой приличный и в то же время бодрый, густая борода так аккуратно подстрижена. Он, думает она, так молод. Поднимаясь наверх, он обнимает ее за талию. Он говорит, что соскучился даже больше, чем ожидал. Не то, чтобы он не думал, что станет по ней скучать, но скучал больше, чем думал. От его радости ей хочется плакать. Она забыла, как спокойно в его крепких руках: его прикосновение напомнило. Войдя в ее спальню, он закрывает дверь, с отпускным легкомыслием восхищается обстановкой, собранными на берегу раковинами, маленьким полированным столиком, на котором она рисует в плохую погоду. Она рассказывает, как все устроила, стараясь подольше задержаться на каждой детали обстановки.
– Теперь, приглядевшись, я вижу, что ты на удивление поправилась. У тебя даже румянец на щеках.
– Ну, я почти каждый день пишу, с утра и после обеда. – Сейчас она покажет ему холсты.
– Надеюсь, Оливье сопровождает тебя? – довольно строго спрашивает он.
– Конечно, сопровождает. – Она находит первый написанный ею вид с лодками и подает ему. – Собственно говоря, он настаивает, чтобы я работала каждый день, только одевалась потеплее. Я никогда не забываю тепло одеться.
– Очень красиво.
Он минуту рассматривает картину, и она с болью думает, что он поощрял ее занятия искусством задолго до Оливье. Потом он осторожно откладывает холст, не забывая, что краска еще сырая, и берет ее за руку.
– А ты просто сияешь.
– Я еще чувствую легкую усталость, – говорит она, – но спасибо тебе.
– Ты даже раскраснелась – действительно снова стала самой собой.
Он крепко держит ее ладонь двумя руками и целует, долго не отрывается. Она знает его губы, как свои, и пугается. Он обнимает ее лицо ладонями и снова целует, потом снимает сюртук, бормочет, что не успел принять ванну. Он задвигает шторы и закрывает замок. Дорога и свобода снова сделали его молодым, говорит он. Или ей это чудится, слова доносятся к ней из-за занавеси волос, из которых уже вынуты шпильки, а потом он бережно расстегивает, развязывает, разнимает крючки, обводит ладонью линии ее тела на постели, берет ее медленно и деловито, как всегда, и она привычно отвечает, пространство между ними заполняется яростной близостью, вопреки образам, стоящим перед ее закрытыми газами. Они уже несколько месяцев не были близки, и теперь она понимает, что его, возможно, сдерживала забота о ее здоровье. Как она могла предположить иное?
Наконец он засыпает на несколько минут у нее на плече – усталый, удивительно молодой мужчина с растущим счетом в банке, мужчина, ненадолго сбежавшей от своей жизни и севший в поезд, чтобы оказаться рядом с ней.
Уважаемый мсье Робинсон!
Прошу извинить за это письмо от незнакомого человека. Я – психиатр, работаю сейчас в Вашингтоне. Среди моих пациентов известный американский художник. Его случай довольно необычен, в числе прочих нарушений он страдает манией, относящейся к французской импрессионистке Беатрис де Клерваль. Мне стало известно, что вы связаны с ней как в профессиональном, так и в личном плане, и что у вас находятся ее работы, в том числе полотно, известное как «Похищение лебедя».
Не позволите ли вы нанести вам короткий визит в следующем месяце? Я с благодарностью принял бы любые новые сведения о ее жизни и работах. Они могут оказаться очень важны для лечения моего одаренного пациента. Пожалуйста, дайте мне знать, если вам это будет удобно.
Искренне ваш,
Эндрю Марлоу.
Глава 93
МАРЛОУ
Отчасти, чтобы отвлечься от своих видений, отчасти, чтобы проверить, чем он занят, я нанес Роберту внеочередной визит. В то утро, в пятницу, я застал его перед принесенным мною мольбертом. Для меня неделя выдалась длинной, и я плохо спал. Мне хотелось бы, чтобы Мэри чаще навещала меня, с ней я всегда хорошо отдыхал. Я, как обычно, подумал о ней, входя в комнату Роберта. На самом деле я удивлялся, как он, глядя на меня, не видит моих секретов, и это напомнило мне, как мало я о нем знаю. Я не мог рассмотреть бьющейся в нем жизни в его застиранной старой одежде, в его потертой желтой рубахе и измазанных краской брюках, в закатанных рукавах, открывающих руки, и загорелом лице, в его буйных волосах с серебряными нитями. Я не видел его даже сквозь покрасневшие усталые глаза, обращенные на меня. Как я мог отпустить его, зная так мало? А если отпущу, как я смогу отделаться от мыслей о его любви к женщине, умершей в 1910 году?
Сегодня он писал ее – никаких сюрпризов, – и я сел в кресло в углу и стал смотреть. Он не отвернул от меня мольберт. Я решил, что из своеобразной гордости, той же, что заставляла его молчать. Лица еще не было, он набрасывал розовый тон халата, черную софу, на которой она сидела. Его искусство сказывается и в этой способности писать без натуры, – подумал я. Может быть, это один из ее даров ему?
Внезапно я не выдержал. Вскочил с кресла и шагнул к нему. Он писал, подняв руку, двигая кистью, игнорируя меня.
– Роберт!
Он промолчал, но на долю секунды скосил на меня глаза, а потом снова вернулся к холсту. Я уже говорил, что я приличного роста и в приличной форме, хоть и не наделен небрежной статностью Роберта. Я гадал, каково будет ему врезать, Кейт, несомненно, меня бы одобрила, я мог сделать это за нее. И за Мэри. Я мог бы сказать: «Это для нее. И можете говорить, с кем хотите».
– Роберт, посмотрите на меня.
Он опустил кисть, обратил ко мне терпеливый ироничный взгляд – так, помнится, я подростком смотрел на родителей. У меня нет детей-подростков, но этот взгляд взорвал меня больше, чем любая грубость с его стороны. Он как будто ждал, когда закончится эта утомительная интерлюдия, и можно будет работать дальше.
Я откашлялся, справляясь с собой.
– Роберт, вы что, не понимаете, что я хочу вам помочь? Вам не хочется вернуться к нормальной жизни – к жизни там? – я махнул рукой на окно, но уже понимал, что проиграл, сказав «нормальная».
Он отвернулся к мольберту.
– Я хочу вам помочь, но не могу без вашего участия. Я, знаете ли, потратил ради вас немало сил, а вы, если достаточно здоровы, чтобы писать, вполне могли бы и говорить.
Его лицо теперь было мягким, но замкнутым.
Я ждал. Что может быть хуже, чем орать на пациента? (Или, скажем, спать с его бывшей любовницей?) Я чувствовал, что невольно повышаю голос. И больше всего меня выводило из себя ощущение, что он знает: я стремлюсь ему помочь не только ради него.
– Черт с вами, Роберт, – спокойно сказал я, вместо того чтобы заорать, но голос у меня дрогнул.
За все годы учения и практики я ни с кем так себя не вел. Никогда. Я продолжал оглядываться на него и выходя из комнаты. Я не боялся, что он бросится на меня или чем-то швырнет – это меня сейчас следовало опасаться. Позже я пожалел, что не сводил с него глаз в тот момент, когда его лицо изменилось: он не ответил на мой взгляд, но взглянул на холст, и на его лице появилась легкая улыбка. Торжествующая улыбка, пустяковая победа, но, может быть, в те дни других у него не было.
Глава 94
1879
Ив остается до середины недели, гуляет по пляжу, обняв Оливье за плечи, целует Беатрис в шею, когда она наклоняется, закалывая волосы. У него настоящий отпуск, про себя он называет его медовым месяцем. Ему нравится смотреть на Канал – это такой отдых! Но, к сожалению, ему надо возвращаться, и он извиняется, что так скоро покидает их. Все время, пока Ив здесь, она не смеет взглянуть на Оливье, разве что передавая хлеб или соль за обедом. Это невыносимо, и все же бывают минуты, когда она смотрится в зеркало или видит, как они прогуливаются вдвоем, и чувствует себя окруженной любовью, любимой обоими, как будто так и надо. Они провожают Ива до вокзала в Фекамне, Оливье отговаривается, однако Ив настаивает, чтобы он тоже поехал, и Беатрис не пришлось возвращаться одной в кебе. Поезд шумно вздыхает, колеса медленно начинают вращаться. Ив высовывается из окна и машет шляпой.
Они возвращаются в гостиницу и сидят на веранде, беседуя об обыденных делах. Они пишут на пляже и ужинают – старая пара, теперь, когда третий уехал. По какому-то взаимному согласию она больше не заходит в его комнату, а он – к ней. Все стены, разделявшие их, уже рухнули, и она не мечтает о повторении. Достаточно того, что между ними – это безмолвное воспоминание. Миг, когда он… или миг, когда она… и когда его слезы удивленной радости упали ей на лицо. Она думает, что теперь он всегда будет принадлежать ей, но верно и обратное.
В поезде в Париж, оставшись с ней вдвоем, он держит ее ладонь, как птицу, в своей большой перчатке, и целует ее, прежде чем она вскакивает собирать вещи. Они очень мало говорят. Она, не спрашивая, знает, что завтра он придет к ужину. Они вместе расскажут папá почти все о своей поездке. Они начнут работать над большим полотном. Она будет помнить его, его гладкое тело, серебристые волосы, влюбленного юношу внутри, до дня своей смерти. Он навсегда останется рядом с ней, дух Канала.
Глава 95
МАРЛОУ
Ответ Генри Робинсона меня потряс.
Mounsieur le Docteur!
Благодарю вас за письмо. Полагаю, Вашего пациента зовут Роберт Оливер. Он дважды побывал у меня в Париже около десяти лет назад, и у меня имеются веские основания подозревать, что при втором визите он унес из моей квартиры некую ценность. Не могу притворяться, что стремлюсь ему помочь, однако если Вы сумеете пролить свет на это дело, я буду счастлив Вас видеть. Я обдумаю, позволить ли Вам посмотреть на «Похищение лебедя». Прошу Вас иметь в виду, что полотно не продается. Если Вас это устроит, мы можем встретиться на первой неделе апреля в любое утро.
С уважением,
Генри Робинсон.
Глава 96
МАРЛОУ
Я всей душой хотел бы взять Мэри с собой в Париж, но у нее была работа. По тому, как она отказалась, я понял, что она не поехала бы, даже если бы я сумел приурочить поездку к ее следующим каникулам: такого крупного подарка она после Акапулько от меня принять не могла. Один раз был удовольствием, но второй оказался бы одолжением. Я нашел книгу о музее д’Орсе, зная, что она мечтает там побывать, и она медленно пролистала ее от начала до конца.
И все же покачала головой, стоя у меня в кухне, и ее длинные волосы блеснули на свету. Решительный жест: нет. Тут был не столько отказ, сколько спокойное знание себя. Она как раз готовила нам завтрак, удивительно домашнее занятие. То был четвертый раз, когда она осталась – я еще мог сосчитать разы. Когда она уходила раньше меня в университетскую студию, или в аудиторию, или в кафе, где любила рисовать в дни, кода было меньше работы, я оставлял постель незастеленной и закрывал дверь в спальню, чтобы сохранить ее запах. Сейчас она выложила на тарелку четыре яйца с ветчиной и с ухмылкой поставила передо мной.
– Поехать с тобой во Францию не могу, но приготовить тебе разок яичницу – пожалуйста. Только ты ничего не думай.
Я налил кофе.
– Если бы ты поехала со мной во Францию, попробовала бы эти чудесные яйца вкрутую в маленьких чашечках, с хлебом и джемом, и кофе куда лучше моего.
– Мерси. Ответ тебе известен.
– Да. Но что ты будешь делать, когда я попрошу выйти за меня замуж, если даже слетать со мной во Францию не можешь?
Она застыла. Я говорил небрежно, словно не задумываясь, хотя думал об этом не первую неделю. Она крутила в руках вилку. Моя ошибка, запоздало понял я, приняла образ Роберта Оливера, стоявшего где-то за моей спиной. Не стоило спрашивать ее, что приковало ее взгляд, напоминать, что там никого нет, и что вместо знакомого ей Роберта теперь есть полусонный мужчина, растянувшийся на больничной кровати. Предлагал ли ей замужество Роберт хотя бы в шутку? Мне подумалось, что ответ записан морщинами у ее губ, в ее глазах, в линии упавших волос.
Она рассмеялась.
– Я уже зашла так далеко, доктор, что замуж мне ни к чему. – И удивила меня осведомленностью, какой я не ждал от человека ее поколения, процитировав строчку из Кол Портер: «Ведь мужья так скучны, от них столько хлопот».
– «Поцелуй меня, Кейт», – немедленно подхватил я, хлопнув ладонью по столу. – Все равно ты слишком молода, чтобы выйти замуж без позволения матери. А я не краду младенцев из колыбели, я не Гумберт Гумберт, я не…
Она рассмеялась и брызнула на меня апельсиновым соком.
– Не нужно льстить. – Она подобрала вилку и отрезала кусочек яичницы. – Когда тебе исполнится восемьдесят, дружок, я буду…
– Моложе, чем я теперь, а значит, совсем молодой, посмотри на меня! «Поцелуй же меня, Кейт!» – воскликнул я, и она рассмеялась уже более естественно и, обойдя стол, села ко мне на колени.
Но в комнате остался странный отзвук имени Кейт, жены Роберта. Мы оба промолчали, но услышали его. Может быть, чтобы заглушить его, Мэри крепко поцеловала меня. Тогда я отдал ей свой последний кусок ветчины, и так мы закончили завтрак: Мэри у меня на коленях, и мы отгоняем злых духов, обнимая друг друга.
Перед поездкой было много дел, и все утро перед отъездом в аэропорт я разбирал бумаги. В полдень зашел к Роберту и застал его в обычном молчании; я пока не собирался говорить ему, что намерен повидаться с Генри Робинсоном. Возможно, он заметит мое недельное отсутствие, но я с удовольствием предоставлял ему гадать, куда я подевался – ведь спрашивать он не станет.
Оставалось еще одно дело, и я вернулся в комнату Роберта в четыре часа, зная, что в это время он пишет на лужайке. Дверь, к моему облегчению, была открыта, так что я не чувствовал себя настоящим взломщиком, хоть пару раз и оглянулся через плечо. Я нашел письма на верхней полке в шкафу: аккуратная пачка. Приятно было снова взять в руки оригиналы, я как будто, сам не замечая, скучал по ним – пожелтевшая бумага, коричневые чернила, изящный почерк Беатрис. Очень может быть, Роберт всполошится, обнаружив пропажу, и наверняка догадается, кто их взял. Тут уж ничего не поделаешь. Я положил письма в портфель и поспешно вышел.
Мэри провела ту ночь у меня. Один раз я проснулся и увидел, что она тоже не спит, разглядывает меня в полутьме. Я тронул ладонью ее щеку.
– Что ты не спишь?
Она вздохнула и повернула голову, чтобы поцеловать мои пальцы.
– Я спала. Меня что-то разбудило. Потом я задумалась о тебе и о Франции.
Я притянул к себе ее шелковистую голову.
– Что?
– По-моему, я ревную.
– Я же тебя звал.
– Не в том дело. Я не хочу ехать. Но ты, можно сказать, собираешься встретиться с ней,верно?
– Не забывай, я не…
– Ты не Роберт. Знаю. Но ты не представляешь, как это было: жить с ними.
Я приподнялся на локте, чтобы заглянуть ей в лицо.
– О ком ты?
– О Роберте и Беатрис. – Ее голос звучал резко и четко, без сонной хрипотцы. – Думаю, я только психиатру и могу об этом рассказать.
– А я могу выслушать только от моей самой любимой. – Я уловил в темноте блеск ее зубов, поймал и поцеловал ее лицо. – Брось это, милая, и засыпай.
– Пожалуйста, дай ей умереть спокойно, бедняжке.
– Дам.
Она пристроилась лбом ко мне на плечо, а я раскинул ее волосы шалью по плечам, и она уснула. Теперь не спалось мне. Я думал о Роберте, который спит или не спит в Голденгрув, на кровати, которая чуть маловата для его массивного тела. Зачем он дважды ездил во Францию? Потому ли, что, как и я, задумался, кто написал «Леду»? Нашел ли он ответ? Может быть, это действительно был слишком смелый сюжет для женщины в католической стране в 1879-м. Если Роберт полагал, что это работа его Мисс Меланхолии, зачем он бросился на нее? Из ревности к лебедю или по каким-то невообразимым для меня причинам? Я подумал, не стоит ли встать, одеться, взять ключи от машины и съездить в Голденгрув? Я знал шифр сигнализации, мог войти. Я бы бесшумно дошел до комнаты Роберта, постучался в дверь, вошел бы и встряхнул его, разбудил. Спросонья, от неожиданности, он мог бы заговорить.
«Я пришел в музей с ножом. Я бросился на нее потому…»
Я снова уткнулся лицом в волосы Мэри и переждал, пока порыв прошел.
Глава 97
МАРЛОУ
Аэропорт Де Голль был шумнее, чем мне помнилось, и как-то больше и официальнее. Через три года, прилетев сюда на запоздалый медовый месяц, я увижу те же терминалы, очищенные полицией, и услышу с безопасного расстояния, из-за каких-то киосков, взрыв: они взорвут чемоданчик, оставленный бесхозным посреди одного из больших залов, эхо отзовется у нас в сердце. Но в 2000-м нервы были спокойнее, и я был один. Я взял такси до отеля, рекомендованного Зои: мой номер оказался немного усовершенствованной бетонной коробкой, единственное окно выходило во двор-колодец, постель была жесткой и скрипучей, зато он был в двух шагах от Лионского вокзала и на одной улочке с кафе, маркизы над окнами которого хозяин по утрам скатывал лебедкой. Я бросил сумки и впервые вышел перекусить: это было особенно приятно после полета. Кофе был горячий и крепкий, с молоком. Потом я вернулся в свой номер-коробку и, никакой кофеин не помешал мне проспать целый час. Когда я проснулся, день перевалил за середину: я, постанывая от удовольствия, вымылся под горячим душем, побрился и прогулялся по городу с карманным путеводителем.
Генри жил на Монмартре, но к нему я собирался только утром. Едва выйдя из отеля, я завидел на фоне неба купола собора Сакре-Кер. Эту достопримечательность я запомнил с первого приезда добрых двенадцать или тринадцать лет назад. Путеводитель напомнил, что прекрасный как сон белый собор был задуман как символ государственной власти после расстрела Парижской Коммуны. Впрочем, мне было не до осмотра достопримечательностей, хотелось просто побродить: я за остаток дня так и не раскрыл книгу, кроме одного раза, когда заблудился, зайдя слишком далеко по Сене, осматривая книжные развалы. День был сырой, где-то между холодным и теплым, временами пробивалось солнце и блестело на воде. Я пожалел, что так давно не бывал здесь, а ведь лететь от Вашингтона не так долго. На спуске к воде я постелил на гладкий камень расправленный носовой платок и присел зарисовать причаленную у другого берега баржу – ресторан, обставленный цветочными горшками.
Мне еще не терпелось посмотреть картины Беатрис де Клерваль, выставленные в музее д’Орсе, пока он не закрылся: те, что в музее Мантенон, могли подождать до завтра, я зайду туда после визита к Генри Робинсону. Я прошел по набережной до музея д’Орсе: когда я в последний раз был в Париже, он еще не открылся. Не стану и пытаться описать впечатление от залов со стеклянными крышами, выставки скульптуры, еле заметного призрака вокзала, служившего когда-то поколению Беатрис и другим. Все было поразительным, и я застрял там на несколько часов.
Первым делом я прошел к Мане: есть нечто бодрящее в том, чтобы остановиться перед «Олимпией» и встретить ее вызывающий взгляд. Потом я наткнулся на прекрасный сюрприз – полотно Писсарро, изображающее дом в Лувесьене после снегопада. Не припомню, чтобы когда-нибудь раньше видел этот красноватый дом и зловещие деревья, склонившиеся под снегом, реалистичный снег под ногами, женщину с девочкой, жмущихся друг к другу от холода. Я подумал о Беатрис и ее дочери, но полотно было датировано 1872-м – за несколько лет до рождения Од. В галерее были и другие зимние виды, Моне и Сислея, и еще Писсарро, «effet d’hiver», снег, кареты и изгороди, деревья и опять снег. Я видел тяжелое небо над церковными башенками в принявших их селениях: Лувесьен, Марли-ле-Руа и других, и над парижскими парками. Они, как и Беатрис, любили свои сады зимой.
Рядом с Сислеем и Писсарро я нашел двух Беатрис де Клерваль: портрет служанки за шитьем, золотоволосой девушки, должно быть, той, о которой говорилось в письмах. На втором полотне был лебедь, задумчиво плывущий по темной воде: обычный лебедь, не божество. Беатрис прилежно изучала птиц, подумал я, возможно, готовилась к работе над полотном, которое я завтра увижу у Генри Робинсона. Я нашел пейзаж Оливье Виньо, буколическую сцену, пасущихся коров, поле, полоску маков, ленивые пышные облака. Возможно, Беатрис относилась к его работам с большим, нежели мне представлялось, почтением: это была искусная работа, хотя вряд ли новаторская. На табличке значилось: 1854. Беатрис, подумал я, было тогда два года.
Закончив обход, я поужинал стейком и жареной картошкой и вернулся в отель. Здесь, попытавшись прочесть главу из истории франко-прусской войны, я заснул, проспал тринадцать часов и проснулся в разумное время со столь же разумным оправданием, что я уже не молодой путешественник.