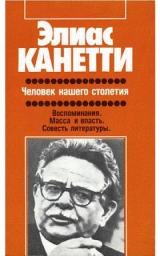
Текст книги "Человек нашего столетия"
Автор книги: Элиас Канетти
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 38 страниц)
Ессе Homo – т. е. Георг Грос (см. коммент. к с. 124), один из значительных художников-экспрессионистов и лидеров возглавляемого Р. Хюльзенбеком берлинского дадаизма в 1917–1920 гг. Характерное для этих течений анархическое бунтарство приобрело в карикатурах Г. Гроса острую социально-критическую направленность. «Ессе Homo» (1922) – так называлась серия графических работ Гроса, выполненная в характерной для него гротескной манере.
[Закрыть]
«Сейчас мы пойдем к Гросу», – сказал Виланд. Мне не верилось, что можно вот так запросто взять да и пойти к художнику. Виланд хотел прихватить у него кое-что для издательства, но еще больше ему хотелось поразить меня, он давно заметил, что в Берлине есть человек, с которым я горел желанием познакомиться. Ему доставляло удовольствие знакомить меня со всем, что было примечательным в этом городе. Моя неопытность была ему но душе. Я напоминал ему его самого в пору первого появления в Берлине. Он не был властолюбив, как Брехт, всегда окруженный поклонниками. Брехту нравилось выглядеть этаким прожженным плутом, он, похоже, с ранних лет стремился к этому.
Лишь бы не казаться молодым, лишь бы выглядеть старше своего возраста. К неопытности он относился с презрением, невинность ненавидел, ставил ее наравне с глупостью. Он не хотел стать чьей-либо жертвой, и даже тогда выставлял напоказ свою раннюю зрелость, когда в ней никто не сомневался. Он напоминал школьника, который впервые в жизни закурил сигарету и собрал вокруг себя товарищей, чтобы подбить их на то же самое. Виланд же был влюблен в невинную пору своего детства, она виделась ему идиллией. Ему удалось утвердить себя в циничном Берлине. Беззащитным он не был, в его распоряжении были все необходимые приемы самообороны, он доказал свою способность к так называемой борьбе за выживание, для которой нужны твердость и в еще большей мере хладнокровие. Но утвердить свое достоинство он мог только в одном случае: если цепко держался за образ невинного мальчика-сироты, каким он когда-то был. В своих воспоминаниях он все еще оставался мальчишкой. Иногда мы вместо работы отводили душу в таких разговорах. Несмотря на всю нашу занятость – а человек в Берлине всегда занят чрезвычайно, – мы, сидя за круглым столом в чердачной комнатке, забывали о предмете наших занятий, Эптоне Синклере, и говорили о юности Виланда. Ему и сейчас было только тридцать два года, но нынешнего Виланда от Виланда пятнадцатилетней давности отделяло огромное расстояние.
Он показывал мне все, в первую очередь людей, которых можно было увидеть в Берлине, с такой непосредственностью, будто он сам только что оказался в этом городе. Ему нравилось видеть мое изумление, но он не отличался особой наблюдательностью, его занимал не столько я, сколько он сам в ту пору, когда он был в моем возрасте. Мне было приятно, что он никогда не унижал меня и всюду представлял своим «другом и сотрудником». При этом он был знаком со мной всего лишь несколько дней, и я еще ничего не успел для него сделать. Он не требовал от меня доказательств моих литературных способностей, не читал ничего из написанного мной, вероятно, это было ему в тягость (удивительно, но он, издатель, с которым меня связывали самые добрые и самые тесные отношения, ни в то время, ни позже не опубликовал ни одной моей книги). Ему было достаточно наших разговоров. Кое-что он узнал обо мне от Ибби, кое-что рассказал я сам, но главным для него было то, что в своем Берлине он мог поведать мне о своей невинности, о любви к своему детству, а также то, что я внимательно слушал его. Я завоевал его дружбу благодаря своему умению слушать, мне сейчас трудно сказать, делал ли я это из хитрости или же просто потому, что всегда любил слушать людей, рассказывающих о себе, эта на первый взгляд тихая, незаметная страсть так во мне сильна, что составляет глубочайшую суть моей жизни. Я просто умру, если не буду слушать то, что люди рассказывают мне о своей жизни.
Почему я так много ждал от Гроса? Что он значил для меня? С тех пор как в витрине магазина молодежной книги во Франкфурте я увидел его рисунки, прошло шесть лет, но я не переставал восхищаться ими, хранил их в своей памяти, а ведь шесть лет для молодости – срок немалый. Его рисунки с первого взгляда запечатлелись в моем сознании. Точно такие же чувства обуревали меня после того, что я увидел в годы инфляции, после визита господина Хунгербаха[177]177
…после визита господина Хунгербаха… – Посещение господина Хунгербаха, человека грубого и малообразованного, описано в одной из первых глав второй книги воспоминаний Э. Канетти. Это посещение связано с намерением давнишнего знакомого матери взять воспитание шестнадцатилетнего подростка в свои руки и «сделать из него человека».
[Закрыть], после глухоты матери, не желавшей обращать внимание на то, что происходило вокруг нас. Мне нравились его рисунки – резкие, грубые, беспощадные и страшные. Он изображал крайности, а крайности я почитал за истину. Правда примиряющая, смягчающая, объясняющая и извиняющая была для меня не в счет. О том, что такие, как на его рисунках, люди существуют, я знал, знал с детских лет, проведенных в Манчестере, когда моим врагом стал – и остался им навсегда – дядя Огер[178]178
Огер– так называл в детстве автор воспоминаний своего дядюшку с материнской стороны Соломона Ардитти. Господин Ардитти был преуспевающим торговцем в Манчестере и воплощал для маленького Элиаса все отрицательные качества – жестокость, бессердечность, расчетливость и высокомерие.
[Закрыть]. Когда некоторое время спустя я слушал в Вене Карла Крауса, впечатление было точно такое же, с той лишь разницей, что я, избравший своим поприщем литературу, начал подражать Краусу, учился у него искусству слушать и в какой-то мере (не без внутреннего сопротивления) риторическим приемам обвинения. Георгу Гросу я не подражал никогда, я был начисто лишен таланта рисовальщика. Правда, я искал и находил в реальной жизни его характеры, но между его и моим способом воплощения действительности всегда оставалась дистанция. Его искусство было мне недоступно, он говорил на другом языке, который я хотя и понимал, но не умел воспользоваться им в собственном творчестве. Это значит, что он никогда не был для меня образцом. Он был объектом величайшего восхищения, но не примером для подражания. Когда я впервые появился у него, Виланд по своему обыкновению представил меня как своего «друга и сотрудника». Благодаря этому я не выглядел в собственных глазах слишком уж ничтожной личностью. Я не подумал о том, что Грос отлично знает всех друзей Виланда и легко поймет, что я не из их числа. В Берлине я появился неожиданно, никаких разговоров обо мне не было, просто Ибби сообщила о моем скором приезде из Вены – только и всего. Но моя неуверенность в себе улетучилась, как только Грос начал показывать свои рисунки. Я мог рассматривать вещи, которые только что были созданы. У Гроса вошло в привычку показывать рисунки Виланду, который их публиковал, представляя на суд общественности. Они вместе отбирали рисунки для публикации, и Виланд придумывал им названия. Вот и сейчас он, по обыкновению, придумывал подписи. Делал он это сразу, без колебаний. Грос без лишних слов соглашался, ведь названия Виланда обеспечивали успех его рисункам.
На нем была мягкая шерстяная куртка, он, не в пример Виланду, выглядел крепким и загорелым. С неизменной трубкой во рту, Грос походил на молодого морского волка, только не на английского, поскольку любил поболтать, а на американского. Он был сама откровенность, сама благожелательность, поэтому его костюм не показался мне маскарадом. В его присутствии я чувствовал себя раскованно, что бы он ни показывал, все вызывало во мне восхищение. Это радовало его, будто мое восхищение и впрямь что-то для него значило, время от времени, когда я высказывал свое мнение о том или ином рисунке, он одобрительно посматривал на Виланда. Я чувствовал, что попадаю в точку, тогда как в присутствии Брехта мне рта не удавалось раскрыть, чтобы не вызвать его раздражение. Грос относился ко мне с интересом и симпатией. Он спросил, знаю ли я его серию «Ессе Homo», Я ответил, что нет, ведь она запрещена. Тогда Грос подошел к ларю, открыл крышку, достал папку с рисунками и как ни в чем не бывало протянул мне. Я подумал, что он дает ее мне посмотреть, и тут же раскрыл папку, но меня поправили: я могу сделать это дома, папка мне подарена. «Такой подарок достается не каждому», – заметил Виланд, знавший импульсивную натуру своего друга. Он мог об этом и не говорить, я подмечал любое проявление людского великодушия, но то, что сделал Грос, меня поразило.
Чтобы не выглядеть смешным с папкой в руках, я отложил ее в сторону и не успел договорить до конца слова благодарности, как появился еще один посетитель, которого я менее всего ожидал и хотел здесь увидеть. Это был Брехт. Он пришел выразить свое уважение, едва заметно поклонился и подарил Гросу карандаш, самый обыкновенный карандаш, который, однако, был положен на рабочий стол с многозначительной миной. Грос принял этот скромный знак внимания, придав ему особый смысл. «Карандаша-то мне и не хватало, – сказал он. – Пригодится». Этот визит нарушил состояние восторга, в котором я пребывал, но мне было интересно узнать Брехта с другой стороны. Таким, значит, он был, когда хотел выразить свое расположение. Его сдержанная, скупая манера держаться производила впечатление. Я спрашивал себя, как к нему относится Грос, любит ли он его. Брехт долго не задержался. Когда он ушел, Грос как бы между прочим бросил Виланду фразу, предназначенную, похоже, для меня: «У европейского рагу нет времени». Это прозвучало беззлобно, быть может, с легким оттенком сомнения, будто у него было несколько мнений о Брехте, и все они противоречили друг другу.
Распрощавшись в Гросом, мы пошли в разные стороны: Виланд отправился в редакцию, а я подался в свою мансарду, где меня ждали на круглом столе материалы о жизни Эптона Синклера. В сравнении с тем, что он раскопал как «muck-raker», как «разгребатель грязи», его собственная жизнь выглядела скучной. Скука шла не от обстоятельств жизни, ему приходилось нелегко, а от прямолинейности взглядов. Он был человеком насквозь пуританских воззрений, и хотя в этом я мало чем от него отличался, хотя я всей душой одобрял его выпады против пороков общества, против унижения и несправедливости, этим выпадам все же недоставало сатирического блеска. Неудивительно, что я не сел тут же за работу, а открыл папку с рисунками «Ессе Homo»: там я нашел все, чего так недоставало Эптону Синклеру.
Серия была запрещена как непристойная. Не стану отрицать, кое-что в ней действительно могло показаться скабрезным. Я впитывал все это со странным смешанным чувством ужаса и одобрения. На рисунках были изображены отвратительные создания ночной жизни Берлина, но такими, думалось мне, они были лишь потому, что их создатель испытывал к ним отвращение. Гадливое чувство, возникавшее во мне, когда я на них смотрел, я принимал за отношение к ним самого художника. Пока еще я мало знал о нем, в Берлине я был не больше недели, и Грос оказался в числе первых, кому я нанес визит. С Брехтом меня познакомила в ресторане Шлихтера Ибби, он был поэт, и она считала его самой интересной берлинской достопримечательностью. Мы ходили туда ежедневно, Брехту нравилась Ибби, но она каждый раз тащила с собой меня, вероятно поэтому я стал мишенью его язвительных насмешек. Но и Виланд не прятал от меня своих друзей, Грос был для меня несравненно интереснее, и уже на шестой день моей жизни в Берлине состоялся этот визит к художнику.
Но вот я принес «Ессе Homo» к себе домой, папка легла между мной и Берлином, и отныне я смотрел на многое глазами художника, особенно на то, что открывалось мне по ночам. Быть может, в ином случае эти вещи вошли бы в меня не столь быстро. Свобода в вопросах секса все еще не очень меня занимала. Теперь же неслыханно жестокие, безжалостные рисунки Гроса лицом к лицу столкнули меня с этим миром, мне и в голову не приходило сомневаться в его подлинности; и так же как иные ландшафты мы воспринимаем глазами известных художников, так и я стал смотреть на Берлин глазами Георга Гроса.
Первое разглядывание рисунков захватило меня и в то же время напугало, я до тех пор не мог от них оторваться, пока не пришла Ибби и не увидела разложенные на столе цветные акварели, которые я по одной доставал из папки. Ей еще не приходилось видеть меня за подобным занятием, и она принялась надо мной подшучивать:
– Быстро же ты освоился в Берлине. В Вене тебя интересовали гипсовые маски, снятые с покойников, а тут… – Она повела рукой над листами, как бы давая понять, что я разложил их на столе намеренно, с умыслом. – Видишь ли, – продолжала она, – Грос обожает натуру. Подвыпив, он заводит речь об «окороках», имея в виду женское тело, и взгляд у него становится какой-то особенный. Приходится делать вид, что не понимаешь. А он знай себе поет гимны «окорокам».
– Неправда! – возмутился я. – Он ненавидит все это! Именно поэтому так хороши его вещи. В противном случае они бы мне не понравились.
– Я знаю, знаю, тебе такое не может нравиться, – возразила она. – Поэтому я и не скрываю от тебя ничего. Но ему это по нутру! Погоди, вот увидишь его в подпитии, когда он заведет свою шарманку об «окороках».
В устах Ибби это звучало естественно. Мне было ясно, что она имела в виду, когда произносила слово «окорока»: пьяный Грос искал близости с ней и нахваливал ее тело. Других женщин такое ухаживание покоробило бы или по крайней мере разозлило. «Окорока» относились к ней, она повторила это слово несколько раз, и оно звучало так, будто не имело к ней никакого касательства. Оно не пристало к ней, несмотря на приставания Гро-са, ее, похоже, интересовало только одно: рассказать мне о том, что произошло.
Я потому и нужен был ей в Берлине, чтобы было кому изливать душу. Стоило ей где-нибудь появиться, как за ней тут же увязывались мужчины, говорили двусмысленности. К ней приставали трое или четверо сразу, рассчитывая, видимо, что хотя бы одного из них ждет удача, и были в полном недоумении, когда все оставались с носом. Дело доходило до самых нелепых домыслов, говорили, например, что она лишь внешне похожа на женщину, а внутри устроена совсем по-другому, серединка на половинку. Самый недоверчивый из окружения Брехта, некто Борхардт[179]179
Борхардт Ганс Герман (1891–1951) – педагог и писатель, коммунист, в двадцатых годах сотрудничал с Б. Брехтом, в частности помогал ему в работе над пьесой «Святая Иоанна скотобоен» (1929–1930).
[Закрыть], объявил ее шпионкой: «Откуда она взялась? И кто она такая? Появилась вдруг среди нас и прислушивается к нашим разговорам». Она в ответ смеялась и не теряла присутствия духа. Все это забавляло ее, но она помалкивала, пока была в Берлине одна: эти люди, считавшие, что им все позволено, к вопросам секса относились с благоговейной серьезностью, они не простили бы Ибби насмешек и равнодушия к этой стороне их жизни. Но она жить не могла без насмешки, без шутки, без язвительных уколов, в этом была ее внутренняя потребность, ее натура, поэтому она не успокоилась, пока не заманила меня в Берлин.
Нас связывал ненасытный интерес к разнообразию человеческих характеров. У нее этот интерес был окрашен шуткой, мне же просто нравилось слушать ее рассказы. Но в ее шутках я не находил ничего смешного. Меня смущало многообразие человеческой природы. Каждый старается изо всех сил, рассчитывая найти понимание у других. Но понимания не было. Каждый был предоставлен самому себе, и хотя, вопреки всем иллюзиям, избавиться от одиночества не удавалось никому, все по-прежнему из кожи вон лезли в поисках взаимности. Возникали смешные недоразумения, о которых и рассказывала мне Ибби. С многими из тех, о ком шла речь, я сталкивался в жизни, но она обогащала меня опытом иного рода, – опытом, о котором я, как мужчина, не имел ни малейшего представления. Она была красива и пользовалась успехом, но предложения получала самые нелепые, адресованные не живому человеку, не ей самой, а только ее оболочке. То, как она отвечала на приставания, никого не интересовало, ее ответы не доходили до ушей ухажеров, они только заявляли о своем желании и требовали его скорейшего удовлетворения. Им было невдомек, почему у них ничего не получается, они были просто не в состоянии уловить смысл ее ответов. Даже соперники их не интересовали, хотя цель у всех была одна; мысль о соперничестве казалась им дикой и непонятной. Ибби совершенно точно во всех подробностях помнила их подходы и попытки, но, чтобы понять другого, нужно забыть о себе, а этого не хотел никто.
Большое место в моих воспоминаниях о Берлине занимает Исаак Бабель. По всей вероятности, он оставался там недолго, но у меня такое чувство, будто я видел его ежедневно многие недели подряд, час за часом, хотя говорили мы мало. Он пришелся мне очень по душе, больше, чем множество других людей, с которыми я тогда встречался. В моей памяти он занял такое прочное место, что она охотно отвела бы ему любой из 90 моих берлинских дней.
Он приехал из Парижа, где его жена, художница, училась живописи у Андре Лота[180]180
Лот Андре (1885–1962) – французский художник, теоретик искусства и педагог. В 1922 г. на Одесской улице в Париже основал частную академию, где безвозмездно обучал молодых людей технике живописи.
[Закрыть]. Во Франции он побывал в разных городах. Французскую литературу он предпочитал всем другим, Мопассана считал своим непосредственным учителем. Бабеля открыл Горький, он же помогал ему советами, делая это настолько умно и деликатно, что лучше и не пожелаешь. Горький заботился о его будущем, развивал его способности, критиковал без самолюбования, с мыслью только о нем, а не о себе, серьезно и без насмешки, хорошо понимая, как легко уничтожить младшего по возрасту, слабого, неизвестного, не успевшего узнать, на что он способен.
Бабель задержался в Берлине, возвращаясь в Россию после долгого пребывания за границей. Мне кажется, он приехал в конце сентября и оставался в Берлине не более двух недель. В издательстве «Малик» вышли на немецком языке две его книги, «Конармия» и «Одесские рассказы». Последнюю я читал не раз и не два. Я восхищался им, я чувствовал, что он мне чем-то близок. Еще в детстве я слышал об Одессе, имя этого города было связано с самым ранним периодом моей жизни. Черное море я считал своим, хотя видел его только несколько недель, в Варне. Казалось, буйство красок и необузданную силу одесских рассказов Бабель почерпнул из воспоминаний о моем собственном детстве; сам того не ведая, я нашел у него естественную столицу той маленькой области в нижнем течении Дуная, где я родился, я бы ничуть не удивился, если бы его Одесса возникла в устье Дуная. Тогда знаменитое путешествие, о котором я мечтал в детстве, можно было бы совершать вниз и вверх по Дунаю, из Вены в Одессу и из Одессы в Вену, и Рущук, расположенный очень далеко в нижнем течении, занял бы на этом пути свое истинное место.
Бабель возбуждал мое любопытство, мне казалось, что он выходец из той самой местности, которую я с некоторым усилием называл своей родиной. По душе мне было только такое место на земле, которое впускало в себя весь мир. Таким местом была Одесса. Именно так воспринимал Бабель город и те истории, которые в нем случались. В доме моего детства все окна выходили на Вену. Теперь в глухой стене появилось окно, открытое в сторону Одессы.
Бабель был маленький, приземистый человек с очень круглым лицом, на котором выделялись очки с толстенными стеклами. Может быть, из-за них его широко раскрытые глаза тоже казались круглыми и выпученными. Едва он появился, как у меня возникло ощущение, что он уже успел разглядеть меня с ног до головы; как бы в отместку за его наблюдательность я тоже отметил про себя, что он широк в плечах и отнюдь не производит впечатления хилого очкарика.
Встреча произошла в ресторане Шванеке, казавшемся мне шикарным, вероятно, потому, что мы ходили туда поздно вечером, после театра; в ту пору он буквально кишел театральными знаменитостями. Едва обратишь внимание на одного знаменитого человека, как тут же появляется другой, еще более знаменитый. В то время – время расцвета театра – их там было пруд пруди, так что очень скоро приходилось замечать далеко не каждого. Помимо них, там бывали писатели, художники, меценаты, критики, известные журналисты, и Виланд, с которым я приходил в ресторан, всякий раз любезно растолковывал мне, кто есть кто. Он уже давно знал их всех, они не производили на него никакого впечатления, в его устах их имена звучали отнюдь не возвышенно, а скорее так, будто он оспаривал их право на славу, будто они вознеслись незаслуженно и скоро опять исчезнут со сцены. У него были свои любимчики, те, на кого он делал ставку, кого сам открыл, чьи книги напечатал, к кому хотел привлечь внимание общественности; естественно, он любил подробно рассказывать о них. У Шванеке он не садился за особый стол вместе со своими любимчиками и не отделялся от остального общества, а предпочитал раствориться в большой компании, где друзья сидели рядом с врагами, и выбирал себе среди них жертву. Свои дела он обделывал, не защищаясь, а нападая, но по обыкновению оставался в одной группе недолго, а тут же подмечал другую и в ней того, кто возбуждал его воинственный пыл. Я скоро выяснил, что он был не единственный, кто прибегал к этому агрессивному способу общения. Но были и такие, что обращали на себя внимание своими жалобами на жизнь. Попадались даже типы, которые приходили сюда только затем, чтобы помолчать среди всеобщего шума, их было немного, но они бросались в глаза: спокойные островки лиц с поджатыми губами посреди бурлящего ландшафта, кролики, знающие толк в выпивке; о них приходилось расспрашивать других, потому что сами они на вопросы не реагировали.
В тот вечер, когда впервые появился Бабель, в первом зале ресторана за длинным столом собралась большая компания. Я пришел с опозданием и робко устроился у самого выхода, на краешке стула, готовый в любой момент сорваться с места и убежать. «Гвоздем» программы был Леонгард Франк. У него было запоминающееся, изборожденное глубокими морщинами лицо, как бы говорившее, что его владелец прошел огонь, воду и медные трубы и теперь не прочь, чтобы об этом узнали все; его стройная мускулистая фигура в элегантном, сшитом точно по мерке костюме напоминала сжатую пружину: одно слово – и она пантерой распластается над столом, не нарушив при этом ни одной складочки на костюме. Несмотря на глубокие морщины, он отнюдь не выглядел стариком. Это был мужчина в расцвете сил. О нем с уважением говорили, что в молодые годы он работал кузнецом (другие называли менее поэтическую профессию слесаря). При его силе и проворстве в этом не было ничего удивительного. Я представил себе, как он стоит у наковальни, разумеется, не в этом раздражавшем меня костюме, но нельзя не признать, что и у Шванеке он чувствовал себя преотлично.
То же можно было сказать и о русских писателях, сидевших за столом. В те годы они много путешествовали и любили останавливаться в Берлине, раскованное бурление здешней жизни пришлось им по нраву. Они хорошо знали своего издателя Херцфельде, он не был единственным, кто интересовался их книгами, но самым активным из всех. Тому, кого он издавал, известность была обеспечена, хотя бы благодаря обложкам, которые создавал его брат, Джон Хартфилд. Там сидела Аня Аркус[181]181
Аркус Аня – немецкая писательница, поэтесса.
[Закрыть], женщина замечательной, невиданной красоты, о ней говорили как о начинающей поэтессе. Трудно поверить, но у нее было рысье лицо. Я потом ничего о ней не слышал, может быть, она стала писать под другим именем или рано ушла из жизни.
Мне надо бы рассказать о многих, сидевших тогда за столом, особенно о тех, что сегодня уже забыты, в памяти моей остались только лица, имен я уже не помню. Но сейчас не время для этого, поскольку значительность вечеру придавало то, перед чем бледнело все остальное: на этом вечере впервые появился Бабель, человек, ничем не походивший на завсегдатаев Шванеке: он не был актером, не изображал самого себя, он не был «берлинцем», хотя ему и нравился Берлин, он был скорее «парижанином». Жизнь знаменитостей интересовала его ничуть не больше жизни остальных смертных, а может быть, даже чуточку меньше. В кругу знаменитостей ему было неуютно, он старался ускользнуть от них, вот почему он обратил внимание на единственного человека за столом, который не был знаменит и чувствовал себя в этом кругу чужаком. Этим единственным был я, и уверенность, с какой Бабель это сразу же определил, говорит о его проницательности и непоколебимой ясности его взгляда.
Я не помню первых фраз, которыми мы обменялись. Я предложил ему место рядом с собой, но он остался стоять. Казалось, он колебался – сесть на предложенное место или уйти. Но и в этой ситуации он производил впечатление незыблемости и напоминал человека, собственным телом загородившего одному ему известную расселину. Вероятно, эта мысль возникла во мне оттого, что своими широкими плечами он закрыл от меня входную дверь. Я не видел тех, кто входил и выходил, я видел только Бабеля. Он сделал недовольную мину и бросил сидевшим за столом русским писателям несколько фраз, которые я не понял, но которые вселили в меня чувство уверенности. Я не сомневался, что он высказал свое мнение о ресторане, который ему не понравился. Мне это заведение тоже не нравилось, но он сразу сказал об этом. Вполне возможно, что только благодаря ему я осознал, что меня здесь отталкивало. Поэтесса с лицом рыси сидела недалеко от меня, и ее красота все искупала. Мне хотелось, чтобы он остался, и я связал свои надежды с ней. Ради нее остался бы кто угодно. Она кивнула ему и знаками дала понять, что освобождает место рядом с собой, но он покачал головой и показал пальцем на меня. Этим он всего лишь хотел сказать, что я первый предложил ему место. Его вежливость меня восхитила и смутила. Я сам не колеблясь, хотя и не без смущения, сел бы рядом с ней. Однако он не захотел меня обидеть и отказался. Я заставил его сесть на мое место и отправился на поиски стула. Найти его оказалось непросто, я подходил к каждому столу и какое-то время безуспешно рыскал по залу, пока наконец не возвратился на место с пустыми руками. Бабеля не было. Поэтесса сказала, что он ушел, чтобы не оставлять меня без места.
Этот его первый поступок, связанный со мной, может показаться незначительным, но на меня он произвел огромное впечатление. Его крепкая, коренастая фигура напомнила мне о «Конармии», об удивительных и жутких историях, которые он пережил, находясь среди казаков во время русско-польского похода. Подмеченное мной неудовольствие, которое вызвал в нем ресторан, тоже не противоречило облику человека, который прошел через страшные, жестокие испытания, но умел проявить нежность и такт к совсем еще зеленому незнакомому юнцу, выделив его своим вниманием из всех остальных.
Он был очень любознателен и хотел увидеть в Берлине все, но «всем» для него были люди, причем люди самые разные, а не только те, что вращались в изысканных аристократических ресторанах. Больше всего ему нравилось обедать у Ашингера, мы стояли рядом и не спеша ели гороховый суп. Он оглядывал зал своими круглыми глазами за толстенными стеклами очков, разглядывал каждого в отдельности и всех вместе и никак не мог наглядеться. Когда суп кончался, он недовольно морщился, ему хотелось, чтобы тарелка была бездонной, он жаждал одного – наблюдать и наблюдать. Люди приходили и уходили, наблюдать было за кем. Мне еще не приходилось видеть человека, который бы с такой страстью отдавался наблюдению, оставаясь при этом совершенно спокойным. Менялись люди – и беспрерывно менялось выражение его глаз. Он замечал все и ко всему относился с одинаковой серьезностью, ему было интересно и обыденное, и необыкновенное. Скучал он только среди тех, кто пиршествовал у Шванеке или у Шлихтера. Входя, он отыскивал меня глазами и усаживался рядом со мной. Долго он, однако, не выдерживал и очень скоро предлагал: «Пошли к Ашингеру!» И с кем бы я в это время ни сидел, его предложение я воспринимал как высочайшую в тогдашнем Берлине честь для себя, поднимался и шел с ним.
Однако, произнося слово «Ашингер», он осуждал не расточительство шикарных ресторанов. Его отталкивала павлинья самовлюбленность людей искусства. Каждый выпендривался как мог, воздух был буквально насыщен бездушным тщеславием. Сам он был человеком широкой души, и, чтобы быстрее попасть к Ашингеру, он брал такси, даже если ехать было совсем недалеко, а когда дело доходило до расчета, он стремительно подсаживался к шоферу и объяснял мне с изысканной вежливостью, почему именно он должен платить. По его словам, он только что получил большую сумму денег, которые не имело смысла брать с собой, их нужно было потратить в Берлине, и хотя я догадывался, что все это неправда, я заставлял себя верить ему, потому что меня восхищало его великодушие. Он даже не заикнулся о том, о чем не мог не подумать: что я скорее всего студент и вряд ли что-либо зарабатываю. Я признался, что еще ничего не опубликовал. «Ничего, успеется», – сказал он таким тоном, будто желание быстрее напечататься считал позором. Я думаю, он потому проявил ко мне интерес, что среди сплошных самовосхвалений воспринимал мое смущение как свое собственное. Я мало говорил в его присутствии, значительно меньше, чем в присутствии других. Да и он не отличался разговорчивостью, предпочитая разглядывать людей. Словоохотливее он становился, когда речь заходила о французской литературе. Стендаля и Мопассана он ставил выше всех.
Я надеялся многое услышать от него о великих русских писателях, но они, надо думать, были для него чем-то само собой разумеющимся. Вполне вероятно, он не хотел распространяться о литературе своей страны, чтобы не показаться хвастуном. А может быть, в этом было еще что-то, может быть, его отпугивала неизбежная поверхностность такого разговора: он сам творил на языке, на котором были написаны великие произведения русской литературы, я же в лучшем случае знал ее лишь по некоторым переводам. Мы говорили бы о разных вещах. Он с такой серьезностью относился к литературе, что все приблизительное, кое-как пристегнутое было ему ненавистно. Да и я боялся не меньше его: мне так и не удалось преодолеть робость и высказать свое мнение о «Конармии» и «Одесских рассказах».
Но по нашим разговорам о французских писателях, о Стендале, Флобере и Мопассане, он мог почувствовать, что значили для меня его рассказы. О чем бы я ни спрашивал его, втайне я всегда имел в виду его собственные произведения. Он сразу догадывался, о чем я не решался спросить прямо, и давал простой и точный ответ. По выражению моего лица он видел, что я удовлетворен, видимо, ему нравилось и то, что я не приставал к нему с дальнейшими расспросами. Он рассказывал о Париже, где вот уже год жила его жена, художница. Совсем недавно он встречался с ней там, и вот его уже снова терзала тоска по Парижу. Мопассана он предпочитал Чехову, но, когда я произнес имя Гоголя – его я любил больше всего на свете, – он сказал, к моему радостному удивлению: «Гоголя у французов нет, им недостает Гоголя». Потом подумал немного и, чтобы не показаться хвастуном, добавил: «А у русских нет Стендаля».
Я замечаю, что рассказываю о Бабеле очень мало конкретного, и все же он значит для меня много больше, чем кто-либо другой из тех, с кем я тогда встречался. Я не отделял его от его произведений, которые я прочитал, их было немного, но они были так концентрированны, что окрашивали собой все остальное. Я, кроме того, видел, как он впитывал в себя все вокруг в незнакомом, говорившем на другом языке городе. Он не произносил высоких слов и старался держаться незаметно. Лучше всего он видел тогда, когда за ним никто не наблюдал. В других он замечал все, не упускал ни одной мелочи, даже того, что ему не нравилось, что ему глубоко претило, – к таким вещам он присматривался особенно внимательно. Я знал об этом по «Конармии», никто не мог устоять перед ее кровавым блеском, но никто и не упивался кровью. Теперь, когда он столкнулся с блеском Берлина, я видел, каким равнодушным оставляло его то, чем другие восторженно тешили свое тщеславие. Он с недовольной миной проходил мимо пустого блеска, зато жадными глазами разглядывал тех, кто довольствовался миской горохового супа. Чувствовалось, что все ему давалось с трудом, но он об этом никогда не говорил. Литература была для него священным делом, он не щадил себя и был просто не в состоянии щадить и приукрашивать что бы там ни было. Цинизм был ему чужд, это вытекало из его серьезного отношения к литературе. Он никогда бы не смог воспользоваться чужими находками, подобно тем, кто принюхиваются ко всему вокруг, а потом дают понять, что считают себя венцом творения. Он знал, что такое литература, и не ставил себя выше других. Он был одержим самой литературой, а не теми почестями и преимуществами, которые она давала. Не думаю, что Бабель был другим, не таким, каким он предстал передо мной в наших разговорах. Я знаю: не будь встречи с Бабелем, Берлин, как щелок, разъел бы мою душу.








