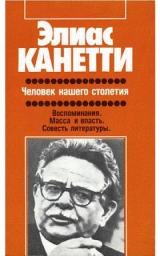
Текст книги "Человек нашего столетия"
Автор книги: Элиас Канетти
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 38 страниц)
Речь в Баварской академии изящных искусств[53]53
Речь в Баварской академии изящных искусств – произнесена Канетти в 1969 г. в связи с присуждением литературной премии Баварской академии изящных искусств.
[Закрыть]
Было бы дерзко с моей стороны и, разумеется, бессмысленно говорить вам о том, чем обязаны люди языку. Я всего лишь гость в немецком языке, который я выучил только в восьмилетнем возрасте, и то, что вы сегодня приветствуете мое присутствие в нем, для меня значит больше, чем если бы я родился в его среде. Я не могу даже считать своей заслугой, что сохранил ему верность, когда более тридцати лет тому назад приехал в Англию и решил там остаться. Ибо то, что в Англии я продолжал писать по-немецки, было для меня столь же естественно, как дышать и ходить. Иначе бы я не мог, другая возможность даже не возникала. Впрочем, я был добровольным пленником нескольких тысяч книг, которые мне посчастливилось привезти с собой, и я не сомневаюсь в том, что они изгнали бы меня из своей среды, как отщепенца, если бы я хоть в самой малости изменил свое отношение к ним.
Но, быть может, я вправе сказать вам несколько слов о том, что при таких обстоятельствах происходит с языком. Как он обороняется против неотступного нажима нового окружения? Меняется ли каким-то образом его агрегатное состояние, его удельный вес? Становится ли он более властолюбивым, более агрессивным? Или же уходит в себя и прячется? Становится более интимным? Могло ведь случится, что он стал бы тайным языком, которым пользуешься только для себя.
Так вот, первое, что произошло: язык стал восприниматься с любопытством какого-то иного рода. Приходилось чаще сравнивать его с другим, особенно в самых повседневных оборотах, где разница была броской и осязаемой. Литературные сопоставления превращались в совершенно конкретные бытовые. Прежний или основной язык становился все более странным, особенно в деталях. Все в нем теперь бросалось в глаза, тогда как раньше – лишь немногое.
Одновременно стал ощущаться спад самодовольства. Потому что перед глазами были случаи, когда пишущие люди сдавали позиции и из практических соображений переходили к языку новой страны. Теперь они жили, так сказать, своими новыми тщеславными усилиями, имевшими смысл вообще только в случае удачи. Сколь часто приходилось мне слышать, как люди, одаренные и неодаренные, с прямо-таки дурацкой гордостью заявляли: «Я пишу теперь по-английски!» А тот, кто без всякой перспективы на достижение внешнего успеха оставался верен прежнему литературному языку, должен был казаться себе самому человеком, порвавшим с внешним миром. Он ни с кем не тягался, он был одинок и даже немножко смешон. Он находился в более трудной ситуации, ситуация эта казалась безысходной, среди товарищей по несчастью он слыл чуть ли не дураком, а для людей приютившей его страны, среди которых он, в конце концов, должен был жить, долгое время был Никем.
Можно ожидать, что при таких обстоятельствах многое из написанного станет более частным, интимным. Кое-что начинаешь высказывать только для себя, чего бы ты раньше никогда не сделал. Убеждение, что это никуда не пойдет, так и останется при тебе – ведь читателей для этого уже на найти, – дает тебе необычайное ощущение свободы. Среди всех этих людей, которые говорят о своих повседневных делах по-английски, ты владеешь неким тайным языком, он не служит больше никакой внешней цели, ты пользуешься им почти один, ты держишься за него с возрастающим упорством, как люди бывают привержены вере, которую поголовно все окружающие осуждают.
Но это лишь внешний аспект дела, есть и другой, который ты уясняешь себе лишь постепенно. Как человек с литературными интересами, ты склонен думать, что язык для тебя представляют произведения писателей и поэтов. Разумеется, это так и есть, и в конечном итоге ты ими питаешься, но к числу открытий, какие делаешь в иноязычной сфере, принадлежит одно совершенно особое: что тебя не отпускают сами слова, отдельные слова как таковые, вне каких бы то ни было широких духовных связей. Присущую словам силу и энергию особенно чувствуешь тогда, когда тебе часто приходится заменять одни слова другими. Словарь прилежного ученика, старающегося изучить другой язык, внезапно переворачивается: все хочет называться по-прежнему, так, как оно называлось раньше, называлось по-настоящему, второй язык, который ты и так слышишь все время, становится чем-то естественным и банальным, а первый, который защищается, предстает в каком-то особенном свете.
Я вспоминаю, что в Англии во время войны я страницу за страницей исписывал немецкими словами. Они не имели ничего общего с тем, над чем я работал. Не складывались они и в целые фразы и, естественно, не фигурировали в моих заметках тех лет. Это были изолированные слова, они не составляли смысла. На меня вдруг будто бешенство нападало, и я с молниеносной скоростью покрывал словами листы бумаги. Очень часто это бывали существительные, но не только, попадались также глаголы и прилагательные. Я стыдился своих припадков и прятал эти листки от жены. С нею я говорил по-немецки, она приехала со мной из Вены. Кроме этого, я мало что от нее скрывал.
Эти пароксизмы слов я воспринимал как нечто патологическое и не хотел ее этим тревожить, ведь в те годы у нас, как и у всех других людей, было достаточно много тревожного, чего нельзя было скрыть. Может быть, я должен также упомянуть, что мне крайне претит разбивать слова или каким-то образом их искажать, их облик для меня неприкасаем, я оставляю их нетронутыми. Так что трудно представить себе занятие более пустое, чем это нанизывание неприкосновенных слов. Когда я чувствовал, что предстоит такой пароксизм, я запирался, как для работы. Я прошу у вас извинения за то, что рассказываю вам про эту свою личную блажь, но должен еще добавить, что за этим занятием чувствовал себя особенно счастливым. С тех пор для меня нет сомнений в том, что слова заряжены особым видом страсти. В сущности, они такие же, как люди, они не дают себя забросить или забыть. Как бы их ни прятать, они сохраняют жизнь, внезапно выскакивают вперед и предъявляют свои права.
Подобного рода пароксизмы слов, конечно, признак того, что нажим на язык стал очень сильным, что английский – в данном случае – не только хорошо знаешь, но что он часто и неоднократно тебе навязывается. В динамике слов произошла перегруппировка. Повторяемость услышанного приводит не только к тому, что это запоминаешь, но и к новым поводам, толчкам, движениям и встречным движениям. Какое-то старое привычное слово мертвеет в единоборстве со своим противником. Другие возвышаются над любыми соответствиями и сияют в своей непереводимости.
Здесь речь идет – это необходимо подчеркнуть – не о случае изучения иностранного языка у себя дома, в комнате, с учителем, при поддержке всех тех, кто в твоем городе с утра до ночи говорит так, как давно привык говорить ты. Речь идет о беззащитности перед чужим языком на его собственной территории, где все стоят на его стороне и все вместе, с видимостью правоты, беспечно, неуклонно и непрестанно наносят тебе удары его словами. Дело еще и в том, что человек знает: он останется здесь, не уедет обратно ни через несколько недель, ни через несколько месяцев, ни через несколько лет. Поэтому для него важно понимать все, что он слышит, а это, как всякий знает, поначалу всегда самое трудное. Потом подражаешь услышанному, пока тебя тоже не начнут понимать. А еще происходит нечто, относящееся к прежнему языку: надо заботиться о том, чтобы он не вылезал не к месту. Так он постепенно оттесняется: его обносят забором, успокаивают, держат на поводке; и как ни гладят и ни ласкают втайне, на людях он чувствует себя заброшенным и отверженным. Неудивительно, что иногда он за себя мстит и выпускает на человека рой слов, которые остаются изолированными, не складываются ни в какой смысл и чья атака покажется другим такой смешной, что принуждает тебя к еще большей скрытности.
Может показаться совершенно неуместным, что подобным личным языковым ситуациям я уделяю так много внимания. В наше время, когда все становится более и более загадочным, когда существование не только отдельных групп, но буквально всего человечества поставлено на карту, когда ни одно решение не оказывается идеальным, так как имеется слишком много противоречащих друг другу возможностей и большую их часть никто даже не в силах предвидеть, случается слишком много всего, и это застает нас врасплох, и прежде, чем мы это освоим, мы опять узнаем что-то новое; в наше время, быстрое, опасное и насыщенное, которое благодаря этой опасности становится все насыщеннее, – в такое время от человека, все же дерзающего мыслить, можно ожидать чего-то иного, нежели рассказ о состязании слов, происходящем независимо от их смысла.
Если же я все-таки кое-что об этом сказал, то обязан дать вам объяснения. Мне кажется, что нынешний человек, на которого в его увлеченности Всеобщим ложится все большая тяжесть, ищет для себя такой частной сферы, которая была бы его достойна, которая была бы четко отграничена от Всеобщего, но в которой это Всеобщее отражалось бы полностью и точно. Речь идет о своего рода переводе одного в другое, но не о таком переводе, который выбирают себе как свободную игру ума, а о таком, что столь же нескончаем, сколь и необходим, к которому ты принужден обстоятельствами реальной жизни, и все же это больше чем принуждение. Вот уже много лет, как я погружен в такой перевод; частная сфера, где я устроился вовсе не так уж уютно, где все должно делаться добросовестно и ответственно, это немецкий язык. Удается ли мне воздавать ему должное таким способом, я сказать не могу. Но я принимаю честь, которую вы мне сегодня оказываете и за которую я вас благодарю, как благоприятное предвестие того, что это еще может удасться.
1969
Гитлер по ШпееруВеличие и долговечность
Строительные планы Гитлера, как их показывает Шпеер[54]54
Шпеер Альберт (1905–1981) – немецкий архитектор, с 1942 г., после смерти Ф. Тодта (см. коммент. к с. 72), занимавший должность имперского министра военной промышленности; приговорен Международным военным трибуналом в Нюрнберге к 20 годам лишения свободы и отбывал заключение в крепости Шпандау в Берлине.
[Закрыть], – это, пожалуй, самая ошеломляющая часть его книги[55]55
Строительные планы Гитлера… самая ошеломляющая часть его книги. – Речь идет о «Воспоминаниях» (1969) Л. Шпеера.
[Закрыть].
Поскольку они представлены в фотографиях и являют разительный контраст со всем, к чему стремится современная архитектура, то, естественно, привлекли к себе наибольшее внимание. Каждому, кто бросит на них хоть беглый взгляд, они запомнятся навсегда.
Но мы не можем довольствоваться такими поверхностными констатациями. Нельзя полагаться на неповторимость подобных феноменов. Необходимо пристальней в них вглядеться и определить, из чего они состоят, как, в сущности, сложились.
Первое, что бросается в глаза – это подчеркивает и сам Шпеер, – соседство созидания и разрушения. Проекты строительства нового Берлина создавались в мирное время. Их окончание было намечено на 1950 год. Даже Шпееру, чудодею, быстротой своих свершений снискавшему доверие Гитлера, нелегко было бы осуществить их за такой срок. Одержимость, с какою Гитлер проводил в жизнь эти планы, не позволяет сомневаться в их серьезности. Однако одновременно разворачивался и его план покорения мира. Шаг за шагом, от успеха к успеху все больше раскрывались размах и серьезность также и этого намерения. Невозможно было себе представить, чтобы его удалось осуществить без войны, значит, война с самого начала принималась в расчет. Какой бы сильной позиции ни удалось добиться без войны, в конце концов она становилась неизбежной. Империя, которая поставила себе целью возвысить немцев, а возможно, и всех «германцев», поработив остальную землю, могла оперировать только страхом, должны были пролиться реки крови. Стало быть, Гитлер последовательно готовился к войне. Одновременность подготовки к войне со сроками осуществления строительных планов наводит на мысль, что этими планами Гитлер хотел прикрыть свои воинственные намерения. Это возможно, и Шпеер тоже допускает такое предположение, но удовлетвориться им не может. Приходится с ним согласиться, когда он обе стороны натуры Гитлера принимает как данность и ни одну из них не подчиняет другой. Обе эти страсти – к строительству и к разрушению – существуют и действуют в Гитлере с одинаковым напором.
Этим определяется и то сильное впечатление, какое его строительные замыслы производят на человека, знакомящегося с ними в наши дни. Рассматривая их, представляешь себе чудовищное разрушение немецких городов. Знаешь конец, а тут тебе вдруг показывают начало со всем его размахом. Именно в этом соседстве и кроется потрясающая сила такой конфронтации. Она кажется загадочной и необъяснимой. Но это концентрированное выражение чего-то другого, что беспокоит нас помимо Гитлера. В сущности, она и есть единственно неоспоримый, постоянно повторяющийся результат всей предшествующей «истории».
Она вынуждает нас исследовать всеми способами то внезапное обострение истории, каким можно считать появление Гитлера. Нельзя с негодованием и омерзением от этого отвернуться, хоть это и было бы так естественно. Но и довольствоваться обычными средствами исторического исследования тоже нельзя. То, что здесь их недостаточно, очевидно. Где тот историк, который сумел бы прогнозировать Гитлера? Даже если необычайно совестливой истории удалось бы сегодня раз и навсегда удалить из своего кровообращения присущее ей преклонение перед властью, то она в лучшем случае оказалась бы способна предостеречь от нового Гитлера. Но поскольку он появился бы в каком-нибудь другом месте, то и выглядел бы по-другому, и предостережение оказалось бы напрасным.
Для истинного постижения этого феномена нужны новые средства. Их надо обнаружить, привлечь и применить, где бы они нам ни подвернулись. Метод для такого исследования пока еще утвердиться не может. Строгость специальных дисциплин оборачивается здесь предрассудком. Именно то, что от них ускользает, и составляет суть дела. Важнейшее условие – рассмотрение самого этого феномена как целого. Всякое самодовольство понятия, как бы это понятие себя ни оправдало, будет вредным.
Гитлеровские строения предназначены для того, чтобы собирать и удерживать вместе огромные массы людей. Он пришел к власти благодаря созданию таких масс, но он знает, насколько большие людские массы склонны к распаду. Чтобы противодействовать распаду массы, существуют, не считая войны, только два средства. Первое – это ее рост, второе регулярное возобновление. Эмпирический знаток массы, каких найдется немного, он знает соответствующие ей формы и средства.
На гигантских площадях, столь огромных, что их трудно заполнить, массе дана возможность расти, она остается незамкнутой. Ее пыл – а он особенно заботит Гитлера – с ее ростом усиливается. Ему и его помощникам хорошо известно все, что обычно способствует образованию таких масс, – флаги, музыка, марширующие отряды, которые действуют как кристаллы массы, но особенно – долгое ожидание перед появлением главного действующего лица. Здесь незачем описывать все это в подробностях. Имея в виду характер строительных планов Гитлера, важно указать на понимание им незамкнутости массы, возможности ее роста.
Для регулярного возобновления сборищ служат здания культового характера. Прообразом для них являются соборы. «Купол-гора», запланированная для Берлина, должна иметь площадь в семнадцать раз большую, чем площадь собора святого Петра. В конечном счете такие здания служат для замкнутых масс. Сколь бы огромными ни были они задуманы, стоит им заполниться, и масса перестанет расти, она натолкнется на границы. Следовательно, вместо дальнейшего роста массы здесь важно, чтобы поводы для сборищ стали регулярными. Масса, которая расходится, покидая такое помещение, должна доверчиво ждать ближайшего повода, чтобы собраться снова.
Во время спортивных мероприятий масса собирается в замкнутый (или полузамкнутый) круг; бесчисленное количество людей сидит друг против друга, масса видит себя, следя за событиями, которые разыгрываются на середине. Как только образуются две партии, возникает двухмассовая система, порожденная борьбой на арене. Прообразы этой формы восходят к Древнему Риму.
Другая форма массы, которую я обозначил как медленную, образуется во время процессий, манифестаций и парадов. Я не хочу повторять здесь то, что излагал по поводу этой формы в книге «Масса и власть». Однако Гитлер, несомненно, сознавал ее важность. В его планах ей особо предназначена Парадная улица шириной в 120 метров и протяженностью в 5 километров.
Эти здания и сооружения, которые на бумаге самой своей грандиозностью вызывают холодное и отталкивающее впечатление, в сознании их созидателя заполнены людскими массами, и те ведут себя по-разному в зависимости от характера вмещающего их сосуда, от характера поставленных им границ. Чтобы дать точное представление о действах, которых здесь следовало ожидать, надо было бы с начала до конца описать ход какого-нибудь массового мероприятия в каждом из этих сооружений в отдельности. Здесь мы себе такой задачи не ставим, достаточно будет отметить в общих чертах, каким образом оживлялись людьми эти здания и сооружения.
Оживление должно продолжаться и после смерти их созидателя. «Ваш муж, – торжественно заявляет Гитлер жене Шпеера в тот вечер, когда они познакомились, – воздвигнет для меня здания, каких не строят уже четыре тысячи лет». Он думает при этом о египетских сооружениях, прежде всего о пирамидах из-за их величины, но и потому, что все эти четыре тысячи лет они неизменно стоят на месте. Их никак нельзя было спрятать, их ничем не заслонили, никакие события не могли им повредить, кажется, будто они, словно запас прочности, вобрали в себя тысячелетия, ради которых воздвигнуты. Их доступность, а также их долговечность произвели на Гитлера глубочайшее впечатление, возможно, он не вполне ясно сознавал, что эти пирамиды, по самому процессу их создания, служат также символами массы, однако при его чутье ко всему, связанному с массой, он, видимо, это чувствовал. Ибо эти сооружения из камней, свезенных и сложенных трудом бесчисленных людей, являются символом массы, которая больше не распадется.
Но его сооружения не были пирамидами, им надлежало перенять у последних только величие и долговечность. Они вмещали в себя пространство, которое должны были заново заполнять живые массы каждого поколения. Их следовало воздвигнуть из наипрочнейшего камня, во-первых, ради долговечности, но также и затем, чтобы продолжить традицию тех построек, что сохранились до его времени.
Понять эти тенденции с позиции самого созидателя не составляет трудности. Конечно, вопрос долговечности – дело сомнительное, над ее сутью и ценностью следовало бы еще хорошенько задуматься. Однако, принимая во внимание, что человек охвачен таким стремлением к долговечности, что его безрассудство препятствует какому бы то ни было исследованию его смысла или бессмысленности, представляется все же вполне возможным проследить, как оно выражается в подобных планах.
Массам, которые он привел в движение и благодаря этому пришел к власти, надо дать возможность возбуждаться снова и снова, даже когда его самого уже не станет. Поскольку его преемники не смогут делать это так, как делал он, ибо он неповторим, он оставляет им в наследство наилучшие средства, образцовые сооружения всех видов, которые послужат для дальнейшего возбуждения масс. То, что это его постройки, придает им особую ауру: он надеется прожить еще достаточно долго, чтобы их освятить и в течение нескольких лет даже заполнять собой. Воспоминание о его крепостных, его массах, которые всколыхнул он сам, должно в этих зданиях служить поддержкой его более слабым преемникам. Возможно, даже вероятно, что такого наследства они не заслуживают, но тем не менее власть, которую он приобрел благодаря своим массам, таким образом сохранится.
Ибо в конечном счете дело, разумеется, сводится к власти. К «вместилищам массы» надо прибавить то, что, так сказать, относится к его двору, резиденции власти: его рейхсканцелярию – его дворец, а неподалеку от нее – помещения министерств, которые получают власть от него.
Его особый каприз: он думает сохранить старое здание рейхстага. Это намерение вызвано у него, по-видимому, разницей в масштабах. Каким маленьким будет выглядеть старый рейхстаг рядом с новыми колоссами!
Его презрение к веймарскому времени, единственный смысл коего заключался в том, чтобы способствовать его возвышению, сообщится всем, кто углядит рейхстаг-карлик в тени его монументов-гигантов. Мы были так малы, а благодаря ему стали так велики. Но здесь играет роль и пиетет перед его собственной историей. В этом рейхстаге разыгралось множество важных для него событий, так что он должен быть причислен к алтарям его культа.
Свое собственное восхождение он почитает с суеверным трепетом. Ему недостаточно того, что каждая фаза этого восхождения будет описана официально, – этого он, как чего-то само собой разумеющегося, ждет от своей раболепной историографии, он и сам говорит об этом в присутствии своего большого и малого двора. Часами, все снова и снова распространяется он на эту тему. История его трудностей и его переменчивого счастья так хорошо известна его слушателям, что они могли бы продолжить рассказ, если сам он умолкнет. Иногда он и в самом деле умолкает и к тому же засыпает.
Особое расположение питает он к Линцу – городу своей юности. Он ничего не может забыть, а потому вспоминает и о том, с каким презрением венское правительство относилось к Линцу. Против Вены он все еще таит глубокую злобу, там ему пришлось хлебнуть лиха, даже его триумфальный въезд туда в марте 1938 года не примирил его с Веной, и его по-прежнему интересует в этом городе только Ринг с его великолепными зданиями. Он считает непростительным, что при закладке Вены Дунай остался слева. Линц, напротив того, должен стать вторым Будапештом, с великолепными зданиями по обоим берегам Дуная. Это будет его резиденция в старости, и там он хочет воздвигнуть себе надгробный памятник. В конце концов Линц станет значительнее Вены и отомстит за унижения раннего периода его жизни своими впечатляющими новыми постройками. Лелеемое им представление – чтобы Линц превзошел Вену.
Поскольку прозвучало это слово, мне представляется своевременным сказать кое-что о том, какую роль играет у Гитлера стремление к превосходству. Это дает, по-видимому, наилучшую возможность глубже вникнуть в механику его ума. Каждое из его предприятий, но также его самые глубокие желания продиктованы стремлением что-либо превзойти: можно пойти дальше и назвать его рабом стремления к превосходству. Но в этом он отнюдь не одинок. Если бы кому-то поручили определить сущность нашего общества одной-единственной чертой, то можно было бы ограничиться только этой: стремление к превосходству. У Гитлера это стремление достигло такого размаха, что на него то и дело невольно натыкаешься. Вполне вероятно, что это стремление как-то объясняет его внутреннюю пустоту – Шпеер к концу своей книги находит для ее описания впечатляющие слова.
Все соизмеримо, и все соизмеряется в борьбе, но тот, кто превосходит других, – неизменно побеждает. Представление о неизбежности борьбы и оправдании победой всех видов претензий сидит в Гитлере так глубоко, что хоть он никогда не принимает в расчет собственное поражение, но на случай, если оно все-таки произойдет, находит справедливым также свое падение и гибель. Сильнейший – это лучший, сильнейший заслуживает того, чтобы побеждать. Пока это возможно, он, перехитрив противника, одерживает бескровные победы. Он рассматривает их как накопление сил для окончательного решения, которое должно быть кровавым без кровопролития ничто по-настоящему не скреплено. Над столь быстро нарушенными договорами, которые заключил Риббентроп и которыми тот так гордился, Гитлер хохочет до слез. Договоры он не может принять всерьез уже хотя бы потому, что они не стоят крови, и политиков противной стороны, опирающихся на договоры, он считает ущербными, потому что они страшатся войны.
Но страсть к тому, чтобы мериться силой и добиваться превосходства, Гитлер доказывает не только войнами. Он буквально этим отравлен, непрестанно и любыми способами ищет он возможности достичь превосходства, оно применяется как панацея против всех зол. Гитлер считает важным поручать одну и ту же задачу двум разным людям, чтобы каждый из них попытался превзойти другого.
Нет на всей земле ничего выдающегося, что не побудило бы Гитлера постараться это превзойти. Наполеон – это, несомненно, та фигура, которая сильнее всего возбуждает у него дух соперничества. Елисейские поля, ведущие к Триумфальной арке, имеют протяженность в два километра. Его Парадная улица будет не только шире, она и длиной будет в пять километров. Arc de Triomphe имеет в высоту 50 метров, его Триумфальная арка будет высотой в 120 метров. Объединение Европы было целью Наполеона, а вот ему оно действительно удастся. Поход в Россию предуказан ему Наполеоном. Энергия, какую он проявил в этом деле, упрямство в удержании позиций, завоеванных в России, позиций, которых уже нельзя было удержать, упорство вопреки всем советам и доводам людей более компетентных можно объяснить также стремлением перехлестнуть Наполеона. Кавказ он хочет удержать как базу для прорыва в Персию, здесь он соприкасается с индийскими планами Наполеона. То, что Наполеона в свою очередь подзадоривал пример Александра Македонского, свидетельствует о единой исторической традиции, по-видимому неискоренимой традиции неизменного возрождения Превосходящего.
Есть и более обыкновенные достижения, которые колют ему глаза. Почетная трибуна в Нюрнберге увенчана фигурой, которая на 14 метров превосходит высотой нью-йоркскую статую Свободы. «Большой стадион» в том же Нюрнберге вмещает в два-три раза больше народу, чем Circus Maximus в Риме. Тодт[56]56
Тодт Фриц (1891 1942) – национал-социалистский политик, архитектор и инженер, с 1933 г. руководил дорожным строительством, был имперским министром военной промышленности.
[Закрыть] делает проект висячего моста в Гамбурге, который должен превзойти Golden Gate Bridge в Сан-Франциско. Центральный вокзал в Берлине должен был затмить Grand Central Station в Нью-Йорке. В грандиозном зале собраний под куполом могли бы многократно уместиться вашингтонский Капитолий, римский собор св. Петра и еще многое впридачу. Сам Шпеер отнюдь не преуменьшает собственной роли в этих «перещеголяниях». Он был, по его словам, опьянен замыслом создать каменных свидетелей истории. «Но я воодушевлял и Гитлера, когда удавалось ему доказать, что мы „побили“ выдающиеся исторические сооружения хотя бы в том, что касается размеров». Ясно, что Шпеер заразился гитлеровской манией величия и не мог противостоять все возраставшему доверию, какое выражал ему Гитлер. Но уже тогда он сделал одно наблюдение, вся важность которого, возможно, прояснилась для него гораздо позже:
«Его страсть к сооружениям на века лишала его всякого интереса к проблемам транспорта, жилым кварталам и зеленым насаждениям: социальный план был ему безразличен».
Маниакальное стремление к превосходству сочетается, как я показал в книге «Масса и власть», с иллюзией продолжения роста. Последнее же воспринимается как своего рода гарантия продолжения жизни. Так что на самом деле эти планы, рассчитанные на долгие годы, следует рассматривать также как средство для продления его жизни. В эти годы он часто выражает сомнения в том, что его жизнь будет долгой.
«Я проживу недолго. Я всегда думал, что у меня останется время для моих планов. Я должен осуществить их сам!»
Подобные опасения в их специфической окраске характерны для параноической натуры. В мнимой или действительной хилости тела выражаются другие опасности, связанные с неодолимой претензией на величие. В случае Шребера[57]57
В случае Шребера… – Даниель Пауль Шребер был параноиком, проведшим 8 лет в психиатрической лечебнице Зонненштайн близ Дрездена и описавшим свою болезнь в книге «Размышления нервнобольного» (Лейпциг, 1903). Сочинение Шребера подробно рассматривается в исследовании З. Фрейда «Психоаналитические заметки по поводу одного автобиографического случая описания паранойи» (1911).
[Закрыть], у которого паранойя зашла гораздо дальше, эта связь просматривалась очень наглядно. Опасения такого рода, разумеется, вовсе не означают, что человек хоть в самой малости отказывается от своих притязаний на величие. Но достигается «полезное» взаимодействие между опасениями и притязаниями. Планы, за осуществление которых приходится опасаться, поскольку время, отпущенное человеку, часто оказывается слишком коротким, остаются столь же грандиозными или еще более разрастаются, дабы он мог требовать для себя продления жизни. Он должен жить до 1950 года, когда планы нового Берлина воплотятся в жизнь, и еще несколько лет после этого, чтобы он успел зарядить собой эти здания для своих более слабых преемников, то есть смог бы увековечить их для назначенной им функции.
Постепенное воздействие таких интенсивно преследуемых целей на людей, даже не столь честолюбивых, в сущности, поразительно. Не будь войны, повернувшей судьбу Гитлера к катастрофе, можно предположить, что в 1950 году он увидел бы свой новый Берлин, вопреки всем опасениям и всякой хилости.








