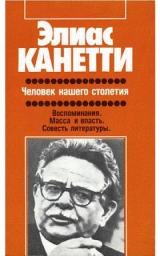
Текст книги "Человек нашего столетия"
Автор книги: Элиас Канетти
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 38 страниц)
Старинные путевые заметки станут так же драгоценны, как величайшие творения искусства, потому что священна была неизведанная земля, а ей уже не стать такою снова.
Дьявол оказался столь вредоносен потому, что выглядел так безобидно и усыпил бдительность людей ложным ощущением безопасности.
Это эпоха, особенностью которой являются новые вещи, но отнюдь не новые мысли.
Главная отвага жизни в том, что она ненавидит смерть, и презренны и безнадежны в своем отчаянии те религии, что затушевывают эту ненависть.
Если бы какой-то совет, который мне пришлось бы дать, некий технический совет, привел к гибели одного-единственного человека, я не мог бы более признавать за собой права на жизнь.
И вообразить невозможно, до чего опасным станет мир без животных.
Тысячелетние царства были: царство Платона, Аристотеля, Конфуция.
Судить о людях по тому, приемлют они историю или стыдятся ее.
Власть кружит голову и тем, кто не обладает ею вовсе; только выветривается она здесь скорее.
Не могу я стать скромным, слишком на многое чешутся руки; прежние ответы рассыпаются в прах, к новым мы не приблизились ни на йоту. Вот я и принимаюсь за все сразу, будто в моем распоряжении сто лет. Но смогут ли другие, когда истекут немногие действительно отпущенные мне годы, как-то воспользоваться этими сырыми догадками и предположениями? Я не в силах помириться на меньшем: ограничение чем-то отдельным, так, будто это все, слишком ничтожно. Хочу все ощутить, перечувствовать в себе, прежде чем думать над этим. Мне требуется время; это долгая история, пока то да се обживется во мне и я без предвзятости могу взглянуть на все. Эти вещи должны во мне пережениться и завести детей, и детей детей, по которым я их испытаю и оценю. Сто лет? Какие-то несчастные сто лег! Да разве ж это много для серьезного замысла?
Лишь в изгнании осознаешь, в какой степени этот мир всегда был миром изгнанников и ссыльных.
Какими только хитростями, какими уловками, обманами, предлогами и подлогами ни воспользовался бы человек лишь затем, чтобы умерший снова оказался здесь.
Что есть человек без поклонения? И что поклонение сделало с человеком!
Великие авторы афоризмов читаются так, будто все они хорошо знали друг друга.
Если мне вопреки всему и довелось выжить, то обязан я этим Гёте – так, как можно быть обязанным только Богу. Но не какое-то одно произведение, а атмосфера и подробная тщательность полноты бытия – вот что нежданно захватило меня. Я могу раскрыть его где угодно, могу прочесть стихотворения тут и письма или несколько страниц описания здесь – уже после немногих фраз это завладевает мной, и я полон такой надежды, какой мне не в силах дать ни одна религия. Я отлично сознаю, что именно главным образом воздействует на меня. Все годы я был суеверно убежден, будто внутреннее напряжение широко мыслящего и богато одаренного духа должно в каждое мгновение заявлять о себе. Ничто, мнилось мне, не может быть вяло и равнодушно, да, даже успокоительно – ничуть и никогда. Я презирал освобождение и радость. Революция была мне своего рода образцом; и чем-то вроде ненасытимой, непрерывной, неожиданными и непредсказуемыми мгновеньями освещаемой революции представлялась отдельная жизнь. Я стыдился иметь какую-либо собственность, даже для обладания книгами измышлял искусные оправдания и уловки. Стыдился, коли оно было недостаточно жестким, кресла, на котором сидел за работой, и ни под каким видом оно не должно было принадлежать мне. Но это хаотическое пламенное существование выглядело так лишь в теории. На деле же все больше и больше оказывалось областей знания и мысли, возбуждавших мой интерес и не проглатывавшихся тотчас, потихоньку прибывавших и разраставшихся год за годом, как у разумных людей, и я не выставлял их за дверь, будто посторонних, из-за того, что они не устраивали немедленно тарарама, обещая плоды лишь много позднее, но тогда порой действительно принося их. Так подрастало, почти неприметно, нечто вроде разума и души. Но они находились под владычеством своенравного деспота, превыше всего ставившего непокой и горячность, проводившего свою внешнюю политику так неверно, лениво и скачкообразно, что все вечно шло вкривь и вкось, а в остальном беззащитного перед лестью любого червя.
Мне кажется, что Гёте постепенно освобождает меня от этой деспотии. До того как снова начать его читать – просто один пример, – я всегда немного стыдился своего интереса к животным и тех знаний, которые постепенно о них приобрел. Никому не отваживался я признаться в том, что сейчас, среди этой войны, почки растений могут так же неудержимо привлекать меня и волновать, как и человек. Мифы я читал охотнее, чем любое сложное психологическое творение современности, и чтобы оправдать перед самим собой этот голод по мифам, я подвел под него научные мотивы и подробно вникал в историю народов, их создавших, и проводил зависимости между ними и жизнью этих народов. Но важным для меня было не что иное, как сами мифы. С того момента как я читаю Гёте, все мне представляется законным и естественным, не то чтобы это были его начинания, нет, это другие, и еще весьма сомнительно, приведут ли они к каким-либо результатам, но он поддерживает во мне чувство собственной правоты: делай что должен, говорит он, пусть даже и нет в этом никакого неистовства, дыши, наблюдай, обдумывай!
А не переоцениваешь ли ты способность других к перевоплощениям? Как много таких, что носят всегда одну и ту же маску, а попытайся сорвать ее, так увидишь: это и есть их лицо.
Не могу больше видеть географических карт. Имена городов смердят горелым мясом.
От каждой бомбы отлетает кусок назад, в неделю Творения.
Все яснее для меня становится то, что в лице Фрэнсиса Бэкона перед нами одна из тех редких и центральных фигур, у которых можно научиться всему, чему можно желать научиться от человека. Он не только знает то, что можно было знать в его время, он беспрестанно высказывается об этом, преследуя своими высказываниями отчетливо различимые цели. Есть великие умы двух родов: открытые и замкнутые. Он принадлежит к последним: он любит цели, намерения его ограниченны; всегда он чего-то хочет, и он знает, чего хочет. Инстинкт и сознание достигают в таких людях полнейшего совмещения. Что именовали его загадкой, есть его полная беззагадочность. У него очень много общего с Аристотелем, на котором он все время пробует свою силу; он желает сменить Аристотеля на его троне. Эссекс – его Александр[194]194
Эссекс – его Александр. – Греческий философ Аристотель был воспитателем подростка Александра – будущего Александра Македонского. Английский философ Френсис Бэкон (1561–1626) пользовался покровительством знатного вельможи графа Эссекса, которого впоследствии предал.
[Закрыть]. Многие лучшие свои годы он употребляет на осуществление этого замысла. Но как только замечает, что это предприятие обречено на неудачу, равнодушно оставляет его. Власть в любой ее форме – вот что интересует Бэкона. Он методичный любитель власти. Ни один из ее потайных уголков не остается необысканным. Одних лишь корон для него недостаточно, сколь бы ни был великолепен и заманчив их блеск. Ему известно, насколько скрыто можно властвовать. Особенно притягательно для него правление человека, простирающееся за пределы собственной смерти: в качестве законодателя и философа. Вмешательство извне, чудеса, он презирает, признавая их разве только как сознательные средства влияния на верующих. Чтобы лишить старые традиционные чудеса их силы, он стремится делать собственные: его философия эксперимента – не что иное, как метод подобраться к чудесам, чтобы похитить их.
Эта давняя уверенность в языке, отваживающаяся нарекать вещам имена. Поэт в изгнании, в особенности же драматург, заметно лишается силы более чем в одном отношении. Вырванный из своей языковой атмосферы, воздуха, которым дышал, он страдает без привычной пищи имен. […]
Вот и остается поэту на чужбине, если он не сдается окончательно, только одно: вдыхать новый воздух до тех пор, пока и он не оживет обращенным к нему окликом. Тот сопротивляется долго, принимается и умолкает. А он это чувствует и глубоко уязвлен; может статься, сам зажмет уши, и тогда ни единому имени не достигнуть его. Чужбина нарастает, и когда он очнется – возле него лишь старый иссохший ворох, и он утоляет свой голод зернышками, сохранившимися от времен юности.
Даже рациональные следствия существования мира без смерти никогда не были продуманы до конца.
Есть одно законное поле напряжения для поэта: близость к современности и сила, с какою он отталкивает ее прочь; жадное стремление к ней и сила рывка, с которой он снова притягивает ее к себе. И потому ей никак не удастся достаточно приблизиться к нему. И потому ему никак не удается оттолкнуть ее достаточно далеко.
Истина это море травинок, колыхающееся под ветром; она хочет, чтобы ее ощущали как движение, втягивали как дыхание. Скала она лишь тому, кто не чувствует ее, не дышит ею; такой может в кровь биться о нее головой.
В день Страшного суда из каждой братской могилы восстанет лишь одно-единственное существо. И пусть Господь отважится судить его!
Сколько нужно сказать, чтоб тебя слышали и тогда, когда ты наконец умолкнешь.
Почти до непереносимости мучительна даже мысль о том, сколько знания никогда не войдет в твою жизнь. И уж совершенно невозможно по собственной воле решиться исключить его.
Все, что записывается, еще содержит крупицу надежды, каким бы отчаяньем это ни диктовалось.
1944
Величайшее духовное искушение в моей жизни, единственное, с которым мне приходится вести тяжелую борьбу, таково: быть вполне евреем. Ветхий завет, где бы я его ни раскрыл, захватывает меня. Почти в каждом месте я нахожу что-то соответствующее мне. Я бы охотно звался Ноем или Авраамом, однако и мое собственное имя наполняет меня гордостью. Я пытаюсь говорить себе, когда истории Иосифа или Давида грозят поглотить меня, что они околдовывают меня как поэта[195]195
…мое собственное имя наполняет меня гордостью. Я пытаюсь говорить себе, когда истории Иосифа или Давида грозят поглотить меня, что они околдовывают меня как поэта… – Здесь Канетти сближает истории Давида (1 Царств. 16; 2 Царств. 2, II; I Парал. 10–29) и Иосифа (Быт. 37–49) и значение их имен (Давид, евр. – любимец и Иосиф, евр. – Бог да умножит) по общему для этих фигур смыслу: в равной мере как иудаистскому, так и христианскому представлению о них как праобразах, выражающих мессианские чаяния, а также идею богоизбранничества и спасительной миссии. Видимо, по этому же знаменательному смыслу он соотносит с фигурами Давида и Иосифа также и фигуру Илии (3 и 4 Царств.), греческий вариант имени которого – Элиас; в значении этого имени Канетти усматривает собственное предназначение и утешение: Илия (евр. – Бог мой, Яхве) – чудотворец, пророк, предсказатель будущего от имени Бога, после смерти поселившийся на небе, где записывает людские деяния, извлекает души грешников из геенны, появляется там, где нужно вмешательство Бога; он исцелитель, советчик, примиритель; и главное, подобно Давиду и Иосифу, он предтеча и провозвестник Спасителя – Иисуса Христа. (Комментарий А. Науменко.)
[Закрыть], да и какого поэта они бы оставили равнодушным. Это, однако, неправда, тут скрыто много больше. Иначе почему я снова встретился в Библии с моей мечтой о будущем человеческом долголетии, представшей здесь в виде списка старейших патриархов, в образе минувшего? Почему псалмист ненавидит смерть так, как только я сам? Я презирал своих друзей, когда они оставляли все прелести и соблазны культуры других народов и слепо снова становились евреями, всего лишь иудеями. Как же мне трудно теперь не последовать их примеру. Все эти новые мертвецы, все эти задолго до своего срока ставшие мертвыми, просят так настойчиво, и у кого хватит духу отказать им. Но разве же новые и новые покойники не повсюду, не со всех сторон, не от каждого народа? Отгородиться от русских, потому что существуют евреи, от китайцев, потому что они далеко, от немцев, потому что дьявол обуял их? Разве не могу я и впредь принадлежать ко всем, как и прежде, и все же быть евреем?
Все несноснее для меня случайность большинства убеждений.
Одна отдельная фраза чиста. Но уже следующая что-то отнимает у нее.
У прогресса есть свои недостатки: время от времени он взрывается.
Языком моей души и мысли и впредь будет немецкий, и именно потому, что я еврей. То, что останется от этой всеми возможными способами опустошаемой страны, я, еврей, хочу сохранить в себе. И их судьба – это тоже моя судьба; но от себя я привношу также нечто из общечеловеческого наследия. Я хочу возвратить их языку тот долг, что числится за мной. Хочу внести свою лепту в то, чтобы и им остались кое за что благодарны.
Плохие поэты стирают следы превращений, хорошие – открыто демонстрируют их.
Идущий к толкователям снов разбазаривает лучшее свое добро и заслуживает того рабства, в котором неизбежно из-за этого оказывается.
Египтянин встречается с китайцем и обменивает мумию на предка.
Кто не верует в Бога, принимает всю вину за этот мир на себя.
1945
В пространстве меж двумя основополагающими полярными взглядами на человека разыгрывается все происходящее в сегодняшнем мире:
1. Всякий – еще чересчур хорош для смерти.
2. Всякий – уже достаточно хорош для смерти. Примирение обоих этих мнений невозможно. Одно либо
другое победит. И вовсе не решенное дело, которое из них победит.
Германия, разрушенная в начале года, как еще никакая страна. Но если возможно так разрушить одну страну, разве может это закончиться одною только Германией?
Города гибнут, люди заползают поглубже.
В случившемся в Германии осуществились все исторические возможности, какими еще располагает человек. Все минувшее вынырнуло разом. Происходившее последовательно вдруг одновременно оказалось рядом. Ничто не выпало, не было упущено или забыто. Нашему поколению привелось узнать, что все лучшие усилия человечества тщетны. Плоха, говорят немецкие события, жизнь как таковая. Она ничего не забывает. Она повторяет все. И ты даже не знаешь, когда она затеет это. На нее накатывают капризы, в этом наибольший ужас. Но в своем содержании, в этой скопившейся эссенции тысячелетий, она не поддается воздействию; кто жмет слишком сильно, тому гной брызжет в лицо.
Изобретение, которого еще недостает: загонять обратно взрывы.
Непомерное тщеславие всяких занятий, имеющих дело с Богом, – как если бы кто-то беспрестанно восклицал: Подобие! Подобие!
Слишком в нас много от прошлого. Слишком ничтожно подвигаемся мы вперед.
От ничтожнейшего из людей научаешься наибольшему. Чего ему недостает, то задолжал ему ты. Без него никак не определить размеров этого долга. А долг этот как раз то, для чего и живешь.
О прекрасном. В прекрасном есть что-то очень знакомое, но отодвинутое далеко-далеко, будто и не могло это никак быть знакомо. Потому-то прекрасное и волнующе и холодно в одно время. Стоит заполучить его – и оно уж и не прекрасно. Но его нужно распознать, иначе оно не волнует. В прекрасном всегда как бы некая отрешенность. Оно было в свое время здесь, а после долго находилось далеко, и потому оно неожиданно, когда вновь встречаешься с ним. Любить его нельзя, но к нему стремятся. На пройденные им таинственные пути далекой отрешенности оно богаче, чем все, что в тебе самом.
Прекрасное должно оставаться вовне. Есть безумцы, полагающие, что прекрасны. Но даже и сами они знают, что могут быть таковы только совсем, совсем снаружи. Выражение «внутренняя красота» заключает в себе противоречие. Зеркала прибавили красоты в мире; они изобразят вам и отдаленность; многое в древнейшей красоте обязано, должно быть, своим происхождением взгляду, скользящему по воде. Однако зеркала стали слишком часты, потому и получаешь от них обыкновенно то, чего ждешь. Лишь самые грубые натуры склонны полагать, будто прекрасное противоречит себе. Для человека может обрести красоту все, что долгое время было знакомо, затем отдалено, а потом, нежданно, возвратилось опять. Когда-то любимый и умерший человек оказывается прекрасен, если видишь его, но не помнишь уже о том, что он мертв, и все же не можешь его любить: во сне.
Всему древнему легко быть прекрасным, поскольку оно долгое время было погребено и не существовало. Следы минувшего исчезновения в виде патины красоте весьма на пользу, и то, что ценится при этом, – не старина и древность сама по себе, а старина, столетиями скрытая от глаз. Прекрасному угодно, чтобы его находили на долгих путях, по прошествии многих времен.
Народам следовало бы одалживать друг другу своих высокопоставленных представителей, месяца на два, и пусть бы те разъезжали туда и сюда, произносили на многих языках одни и те же речи да разрешали в спальных вагонах дела войны и мира.
«Беседы» Конфуция – самый ранний, наиболее полный духовный портрет человека; поразительно, как много можно дать в пяти сотнях заметок, какой полноты и завершенности можно достигнуть; как все понятно и как непостижимо до конца, будто пробелы – сознательно брошенные складки одежд.
С ужасающими событиями в Германии в жизнь пришла новая ответственность. Прежде, во время войны, он стоял в одиночку. Что он думал, думалось за всех; ему предстояло, возможно, в какие-то будущие времена держать за это ответ, но он не обязан был отчитываться и оправдываться ни перед кем из живущих сегодня. Все стало им не по силам, они довольствовались беспорядочными порывами ветра жизни; дышать полнотой бытия было не для них, они спасовали. В то время ему еще не виделось никакого особого значения в том, что на этом немецком языке он думал и писал. В любом другом языке он нашел бы то же, случай выбрал для него этот. Что ж, язык этот был ему послушен, им можно было пользоваться; он был еще богат и темен, не сверх меры гладок для не лежавших на поверхности вещей, за которыми он охотился, не слишком китайский, не слишком английский; педагогически-нравственное, небезразличное, разумеется, и для него, не преграждало пути к познаниям, а лишь вытекало из них. Этот язык был, безусловно, на свой лад всем, но он был ничто по сравнению со своею свободой.
Сегодня, после свершившегося в Германии крушения, все это стало для него иным. Люди, живущие там, очень скоро начнут искать свой язык, украденный у них и изуродованный. И всякому, кто содержал его в чистоте во все эти годы безумия, придется его выложить. Что ж, верно, он и дальше живет за всех, и он всегда должен будет жить в одиночку, ответственный перед самим собой как высшей инстанцией… Однако теперь он задолжал немцам их язык. Он содержал его в чистоте, но теперь придется его выложить, с любовью и благодарностью, с процентами и процентами на проценты.
Август 1945
Материя разрушена, мечта о бессмертии разлетелась вдребезги, мы были близки к тому, чтобы прикоснуться к ней. Звезды, придвинувшиеся было так близко, теперь потеряны. Ближайшее и отдаленнейшее спеклись в одно, под сверканье молний. Лишь тишина, лишь неспешное еще стоит жизни. Время его сочтено. Краткой была радость полета. Существуй души, эта новая катастрофа настигла бы и их. Вот и нет желания, чтобы что-то было, потому что – чему ж уцелеть? Разрушение, в сознании божественности собственного происхождения, проникает до мозга вещей, и Творец раздавливает вместе с глиной свою созидающую руку. Существование! Долголетие! Прочность! О недостойные речи! Деревья были мудрейшею формой жизни, но и они падут вместе с нами, разбойниками, укравшими атом.
Коли сумеем выжить, тогда важно и многое другое. Но мысль о том, что нам, возможно, не жить, – невыносима. Всякая уверенность шла от вечности. Без нее, без этого восхитительного чувства какой-то, пусть даже не твоей собственной, продолженности все пресно и тщетно.
Какое благо, что все это время нас не жгло пылающее сознание вероятностей, о которых мы не подозревали. Рай был вначале, да вот теперь кончился. И больней всего мне за судьбу других созданий. Мы так виновны, что почти и не важно, что станется с нами. Остается лишь спать, чтоб не думать об этом. Бодрствующий разум чувствует себя виновным, и не без оснований.
Последовательность открытий в нашей истории сама по себе трагедия. Несколько небольших изменений – и все сложилось бы по-иному. Горсточка десятилетий времени на то да се, и эта участь уже не постигла бы нас. Несомненно, как все, так и это несчастье имеет свои законы. Но кого уж там могут интересовать законы мира, наверняка не имеющего перспектив на долголетие.
Не то чтобы ничего не виделось впереди. Но будущее расщеплено. Выпадет либо так, либо этак: на этой стороне весь кошмар, на той – вся надежда. И у тебя нет больше возможности распорядиться этим, даже в себе самом. Двуязыкое будущее, пифия снова в почете.
Свергнуто Солнце, последний живой миф уничтожен. Повзрослевшая Земля вышла из-под опеки, как-то она распорядится собой? До сей поры была она, ясно и бесспорно, дитя Солнца: в полной зависимости от него, неспособная без него выжить, без него – пропащая. Но свергнут с престола свет, атомная бомба стала мерою всех вещей.
Мельчайшее победило. Парадокс власти. Путь к атомной бомбе – путь философский; есть же и пути куда-то еще, не менее заманчивые. Время, о только бы время, чтобы найти их; ты потерял, возможно, четырнадцать лет, за которые можно было что-то спасти. Так и сам ты ничем не отличаешься от тех, что те же четырнадцать лет работали над разрушением.
Сатирик, неспособный более обращаться против внешнего мира, погибает как нравственное существо: судьба Гоголя.
Постепенно ненависть против собственных персонажей осознается им как ненависть к самому себе. Что бы там ни было предметом отвращения, это было отвращение к себе. Он выискивает для себя строгого судью, грозящего ему адом. Заключительная часть «Мертвых душ», его собственная судейская миссия, не удается. Швыряя ее в огонь, он швыряет туда и себя самого, и становится горсточкой пепла.
Мучительная мысль: что, если, начиная с определенного пункта во времени, развитие истории не было настоящим? Просто все человечество целиком, не заметив этого, покинуло пределы действительности; все происходившее после – неистинно, но мы неспособны были этого заметить. И вот теперь наша задача отыскать этот пункт, и пока мы его не ухватим, оставаться нам в теперешней истории разрушения.
В философских идеях греков меня все снова пугает то, что мы еще полностью опутаны ими. Все наши устремления имеют греческий облик. Разрозненность дошедшего увеличивает впечатляющую силу его воздействия. Выглядит наш мир сегодня так потому, что нет в нем ни одной вполне новой, вполне оригинальной мысли? Или же он выглядит так потому, что слишком различное от греков действует в нем?
1946
Подлинные поэты встречаются со своими персонажами лишь после того, как создали их.
Меня в самом деле глубоко волнует всякая вера. В каждой вере мне покойно, пока я знаю, что могу снова расстаться с нею. Но мне при этом важны не сомнения. Мне свойственна загадочная готовность к вере и легкость в ней, будто мое назначение в том, чтобы изобразить вновь все то, во что когда-либо веровалось. На само религиозное чувство я посягнуть не в состоянии. Оно сильно во мне и живет на разные лады. Я вполне мог бы представить, что провожу свою жизнь возле таинственно скрытого уголка, хранящего источники, мифы, диспуты и истории всех известных форм веры. Там я читал бы, размышлял и медленно переверовал бы все, что только вообще существует.
Меня радуют любые системы, если они хорошо обозримы, будто игрушка на ладони. Становясь же подробней, они пугают меня. Слишком многое от нашего мира оказывается тогда не там, где следует. И как же прикажете вызволять все это оттуда снова?
И что выдумывал ужасаясь, оказывается позднее простой истиной.
Как легко говорится: найти самого себя! Какой испуг, если это и в самом деле случается!
Читать, пока ресницы не зазвенят тихонько от усталости.
В буквах собственного имени заключена страшная магическая сила, из них будто составлен весь мир. Мыслим ли мир без имен?
Мучительнейшее представление: все драмы уже разыграны до конца, и лишь меняются маски.
Хочу знать о людях больше, чем все, даже поэты, знали до сих пор. И потому я должен углубиться в собственных, немногих известных мне людей, как если бы мне предстояло целиком, до мельчайших подробностей сделать их, как если бы, не будь меня, они и не существовали бы вовсе, будто слово мое – их дыхание, моя любовь – биение их сердца, мой разум – их мысль. Таинственность этих связей, которые мне никогда не исчерпать, служит мне оправданием.
Литература как профессия – разрушительна: следует иметь больше страха перед словами.
Леонардовы цели были столь многочисленны, что он остался свободен от них. Он мог пускаться на любые начинания, поскольку ничто не делало его ни на йоту беднее. Меж его созерцанием и воображением не было расщепленности. Готовым он не брал ничего; или же то, что он брал, становилось для него новым. Наиболее выделяющаяся черта его натуры – рассудочность: он указатель на нашем погибельном пути. Наши разрозненные устремления еще заключены в нем все вместе. Хотя оттого и не менее разрозненны. Вера его в природу холодна и ужасна; это вера в новый вид господства. Он, пожалуй, и предвидит его последствия для других, сам же не страшится ничего. Это как раз то самое бесстрашие, что обуяло нас, и техника – продукт его. Сосуществование в Леонардо машины и организма – самый зловещий факт в истории развития человеческого духа. Его машины пока еще не более чем рисунки, игра, сдержанный каприз. Поглощающая его интерес анатомия человеческого тела, главная его страсть, позволяет ему эти маленькие машинные игры. Открытие смысла и назначения в той или иной телесной конструкции пробуждает в нем стремление к созданию остроумных устройств собственного изобретения. Знанию еще присущ тот удивительный характер брожения, когда оно не желает успокоенно храниться где-то в укромном уголке и чуждается системы. Его непокой есть непокой созерцания, не желающего просто видеть то, во что верит: бесстрашное созерцание, всегда и ко всему готовое бесстрашие и всегда готовый взгляд. Это движение Леонардова духа противоположно тому, к которому стремятся мистические религии. Те хотят достигнуть бесстрашия и покоя через созерцание. Леонардо же его своеобразное бесстрашие служит как путь к созерцанию, которое для него, направленное на любой отдельный предмет, заключает в себе цель и предел всех усилий.
Моя ненависть к смерти требует непрерывной осознанности ее существования; удивительно, как я могу так жить.
Придумать для себя, что похвального могли бы животные найти в человеке.
Каждому следовало бы прийти к своей фундаментальной аскезе; моя была бы аскезой молчания.
Жить так, будто впереди неограниченно много времени. Свидания, назначенные на сто лет вперед.
1947
Указ, согласно которому скупцы оплачивают все по двойной цене. […]
Мифы значат для меня больше, чем слова, и это то, в чем наиболее глубоко мое различие с Джойсом. Но и почтительность моя к словам тоже иного рода. Их суверенная целостность почти свята для меня. Мне претит расчленять их, и даже их старинные формы, из тех, что и в самом деле употреблялись, вселяют в меня робость, я не любитель пускаться с ними на безудержные авантюры. То таинственное и жутковатое, что содержится в словах, их сердце, я не хочу вырывать им из груди подобно мексиканскому жрецу на жертвоприношении; мне эти кровавые замашки ненавистны. Изображение должно развертываться лишь в образах, соотноситься всегда только с ними, а не со словами как таковыми. В одних словах, без губ, произносящих их, мне чудится что-то надувательское. Как поэт я все еще живу в дописьменные времена, во времена кликов.
Если он долго не читает, дырочки в сите его разума расширяются, и все пролетает насквозь, и всего этого, кроме самого грубого, как не бывало. Именно прочитанное служит ему для улавливания собственных впечатлений и чувств, а нет прочитанного – и пережитого нет.
Каждому назначено быть пастырем нескольких жизней, и горе тому, кто не находит те, что должен оберегать. Горе ему, коли худо пасет он те, которые нашел.
Больше всего не нравятся мне мысли, которые слишком скоро подтверждаются. Что уж там такого сказано, если через каких-нибудь два года оказывается, что это верно?
Крики, должно быть, умолкли. Но я слышу еще молчание мыслей.
Ненавижу людей, быстренько выстраивающих системы, и послежу за тем, чтобы моя никогда не завершилась окончательно.
Кафке и в самом деле чуждо какое-либо тщеславие поэта, он никогда не чванится, он не способен к чванству. Он видится себе маленьким и передвигается маленькими шажками. Куда бы ни ступила его нога, он чувствует ненадежность почвы. Она не держит; пока ты с ним, тебя ничто не держит. Так он отказывается от поэтических обманов и трюков. От того блеска, который он прекрасно чувствовал у других, в собственных его словах нет и следа. С ним приходится ходить его маленькими шажками, и это учит скромности. Нет ничего в современной литературе, что делало бы тебя таким скромным. Он сбивает спесь со всякого. Читая его, становишься хорошим, не раздуваясь от гордости за это. Проповеди наполняют взволнованного ими чувством гордости, Кафка отказывается от проповеди. Он не занимается передачей заповедей отца; некая удивительная закоснелость, его величайший дар, позволяет ему оборвать цепной привод заповедей, все передаваемых с давних пор сверху вниз, от отцов к сыновьям. Он чуждается их насильственноста; внешне энергичное, животное в них – все улетучивается у него без следа. Но тем больше интересуется он их внутренним содержимым. Заповедь оборачивается размышлением и сомнением. Он из всех поэтов единственный, кого абсолютно не задела инфекция власти; нет никакой власти, в каком бы то ни было виде, в его руках. Он лишил Бога последних покровов отеческой драпировки. И все, что осталось, – это плотная и несокрушимая сеть размышлений, относящихся к самой жизни, а не к претензиям ее породителя. Другие поэты гримируются под Бога и принимают позу творцов. Кафка, никогда не стремящийся к божественному рангу, также никогда не дитя. То, что воспринимается в нем некоторыми как пугающее и что выводит из равновесия и меня, – его неизменная взрослость. Он мыслит не повелевая, но также и не играя.
А может, Бог никакой не творец, а прежде всего – чудовищное сопротивление: он защищает мир от нас; медленно он подается назад; мы, люди, становимся все могущественней; пока не станем могучими настолько, чтобы разрушить все разом – и мир, и нас, и его.
Коренной вопрос всякой этики: следует ли говорить людям, до чего они плохи? Или следует оставить их в невинном неведении? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно быть в состоянии прежде решить, останется ли, при знании того, как они плохи, для людей возможность стать лучше или же именно это знание непоправимо закроет перед ними путь к исправлению. Ведь может быть и так, что плохому придется оставаться плохим, как только оно будет выделено и обозначено в качестве такового; оно хотя и могло бы тогда благополучно скрывать себя, продолжало бы, однако, существовать.
Человека, если уж он привык самостоятельно мыслить, может спасти от отчаянья только одно: та весть, которую он не делает достоянием других, которую он записывает для себя и забывает, которую с полнейшим удивлением обнаруживает позднее снова. Потому что все, что он сознательно продолжает, над чем планомерно размышляет изо дня в день, плотней и плотней вплетает его в судьбы мира, который гнетет его и теснит. Остаться свободным он может, лишь мысля впустую. Спасти его должны противоречия, их многообразие, их неисповедимая бессмысленность. Потому что человек творческий становится жертвой собственной дотошности; погибель его– продолжение, в которое он впутывается, даже чтение превращается в самопродолжение, как если бы листаемые страницы уже прежде сформировались в нем. Одно-единственное может ему помочь: самосотворенный хаос его мыслей – непродолженных, разрозненных, позабытых.








