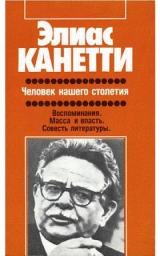
Текст книги "Человек нашего столетия"
Автор книги: Элиас Канетти
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 38 страниц)
Коли прожил достаточно долго, то существует опасность подпасть под власть слова «бог», просто потому, что оно всегда было тут.
Что-то есть нечистое в этих сетованиях на опасности нашего времени, будто они могли бы послужить нам для оправдания собственной несостоятельности.
Нечто от этой нечистой субстанции содержалось от начала в плаче по умершим.
Существуют различные причины того, что художник склоняется к образам. Одна из них, важная и серьезная, коренится в протесте против разрушения, другая, пустая и курьезная, – в самовлюбленности, жаждущей на разный манер отразить себя самое.
Обе причины выступают в тесном сплетении, от соотношения их зависит, приходят ли к образам значительным и сильным или к тщеславным и пустым.
Что записывается как «окончательное», менее всего является таковым. А вот неуверенному или, может, поверхностному, беглому – недостающее придает жизнеспособности.
Назад, к завершенным, спокойным фразам, уверенно стоящим на ногах, а не протекающим по всем щелям.
Музиль – мой разум, как с давних пор были некоторые из французов. Он не ударяется в панику либо не подает виду. Стоек перед грозящей опасностью, как солдат, но понимает ее. Восприимчив, но непоколебим. Кого страшит мягкость, может укрыться у него. И не стыдно при мысли о том, что ты мужчина. Он не только лишь внимающее ухо. Он умеет ранить молчанием. Его оскорбления успокаивают.
Все тот же страх, вот уж семьдесят лет, но всегда за других.
У него не идет из головы, что, может быть, все напрасно. Не то чтобы он один – все.
Но несмотря на это, он способен продолжать жизнь лишь так, будто это не напрасно.
Не избежать никакого истолкования. Тебя выворачивают в угоду любому. Возможно, ты и существовал только для того, чтобы тебя извратили.
Народы обнаруживают то, чем обязаны друг другу. Празднества долговых обязательств.
Год, состоящий из островов.
Самое тяжкое для того, кто не верит в Бога, – что некого поблагодарить.
Больше, чем для своих бед, в Боге нуждаются для благодарности.
Скверная ночь. Не хочу читать, что записано этой ночью. Наверняка это было слабо, наверняка запретно, но все же успокоило меня.
Сколько позволительно сказать для собственного успокоения и какие это имеет последствия?
Ты не единственный из тех, кто не забывает. Сколько ты обидел таких же впечатлительных, которым никогда не перешагнуть через это.
До сих пор из всех древних народов египтяне и китайцы интересуют его больше всего: эти пишущие.
Великолепна в Шопенгауэре его обусловленность очень немногими ранними моментами, никогда не забываемыми им, никогда не подвергающимися искажению. Все последующее не более чем солидная орнаментика. Он ничего за ней не скрывает. И ничто не является неосознанно. Он читает, ища подтверждения раннему. Никогда не узнаёт он нового, хотя постоянно учится. Ему бы и за сто лет не выносить первоначального.
Каждый день еще один пытается отгрызть кусок от его имени.
Разве никто не знает, до чего это горько на вкус?
И как только те, кому понятен весь ужас власти, не видят, в какой громадной степени она использует смерть! Не будь смерти, власть оставалась бы безобидна. Вот они и ведут речи о власти, воображая, что атакуют ее, и оставляют смерть в сторонке. До того, что они почитают данным от природы, им дела нет. Да не бог весть что эта их природа. Я себя неважно чувствовал на природе, когда она изображала из себя неизменяемую, а я почитал ее за таковую. Сейчас, когда повсюду, со всех сторон и во всех направлениях натыкаешься на ее изменяемости и измененности, я чувствую себя еще хуже, потому что ни единому из ее преобразователей неизвестно, что именно никогда и ни под каким видом преобразованию подвергаться не должно.
Совсем нет, не убывает для него из-за грозящей опасности значение минувшего, напротив, он прощупывает его все дальше назад, будто там можно найти то место надлома, которое нужно знать для того, чтобы успешно противостоять угрозе.
Но существует много надломов и каждый – в своем роде единственный.
Обязательно ли время от времени совершать по отношению к себе предательство, признавая невозможность осуществления своих начинаний и делая из этого подобающие выводы? Почему значительно больше симпатии вызывают люди, которые неспособны на это, которые верят себе, так сказать, насмерть?
Художник, чье искусство – в бездистанционности: Достоевский.
Наиболее ярко каждое время проявляется в том, что выражающий его современник не принимает в нем.
Форма «Массы и власти» еще станет ее достоинством. Продолжи – и ты разрушил бы эту книгу своими надеждами. Такою, какова она есть, ты вынуждаешь читателей к поиску их собственных надежд.
Он хотел бы самоотречения, не отказываясь от своих произведений. Квадратура поэта.
1983
Там люди живее всего – умирая.
Там люди появляются в обществе строем, считается бесстыдством показываться в одиночку.
Там каждый, кто заикается, должен еще и хромать.
Там всякая фраза вытекает из предыдущей, а между ними – столетие.
Располосованные религии, конспективно притиснутые друг к другу, лишенные живого дыхания и тем извращенные.
Как чудесно выделяется буддизм на фоне теорий наших жизнеотрицателей!
Отвращение к жизни, да, но с тысячью историй перерождения.
Больше всего тебе хотелось бы – какая скромность! – бессмертия, чтобы читать.
Ему жаль каждого слова, которое умрет вместе с ним.
Понять одно-единственное имя.
Наиболее чреватое следствиями в Аристотеле: его обстоятельность.
Письмо, делающее счастливым. Сразу вслед телефонный разговор с написавшим. И письма как не бывало.
Никому не ведомо тайное сердце часов.
Наистраннейшим человеком из всех, кого я знаю, представляется мне в настоящее время X. Он сердится на меня за то, что я через 50 лет после огненной смерти Петера Кина все еще в него не превратился.
Сколько ты мог бы прожить без восторга? Еще одна причина для возникновения богов.
Необычайнейшим из зажившихся был Ницше, двенадцать лет не знавший о собственном существовании.
«Фортуна» всем уже стала не ко двору. На земле для нее больше нет места.
Неотвязное подозрение о том, что Земля должна достигнуть определенной плотности человеческого населения, до этого ей никак нельзя разлететься на куски.
Всякое место, не мешающее складываться фразам, цело. Разбитые места несут невнятицу.
Если все сходится без зазора, как у философов, то утрачивает всякое значение. Разобщенное ранит и становится важным.
С тех пор как опасность так близко, сетования ему ненавистны.
Он оставался в одиночестве до тех пор, пока не появился на свет.
Вчерашний день, наполненный ужасом от нависшей опасности: этот сбитый самолет.
Так, именно так все может начаться и тотчас закончиться. И нет слова для этого, нет хода событий, нет длительности.
Уж так ли заслужили мы это? Случается что-нибудь по заслугам? Сами мы – последняя инстанция? Свело это нас с ума? Было все с самого начала безумием? Было ли начало? Или уже был конец?
Как долго еще будет прятаться Бог?
Можно ли еще что-то изобретать, не боясь изобретенного?
С каким удовольствием он бы сам повыспросил тех, которые набрасываются на него именно с этой целью.
Столь многих знает он лучше себя и все-таки опять и опять возвращается к себе самому, которого хотел бы знать.
Надо жить так, словно все будет продолжаться. В самом деле надо? Даже если ежечасно думаешь о том, что через 50 лет может не быть больше ни одного человека?
Он может еще говорить «человек», еще не отворачивается с омерзением и скукой.
Слышать этого он не в состоянии.
Люди, способные прокрадываться вслед за каждой его мыслью. И что только они делают со всем этим?
Чего ты боишься? Разрушения, еще не имеющего названия. Как было бы просто, если бы мог выручить Бог. Нежданно-негаданно он помогает: чтобы иметь возможность молиться ему и дальше, верующие хотят спасти Землю.
Слишком много прошедшего. Душит.
А как великолепно было прошедшее, когда начиналось.
Лучше становиться не собирается. Но, может, хотя бы помедленнее?
От каждого года по двенадцати капель. Все кап да кап. А что за камень?
По недоразумению угодил в историю литературы. Уже не отскрести.
Запоздалый эффект разговоров, будто лишь днями позже понимаешь то, что сам же и сказал.
Слова, раскрывающиеся лишь понемногу.
Слова, что тотчас здесь, будто выстрел.
Слова, под влиянием осмоса изменяющиеся в воспринявшем.
Для параноика нет путей-перепутьев. Все внешнее становится частью его внутреннего лабиринта. Он не может из себя выбраться.
Затеривается и пропадает, не забывая о себе.
Иной раз говоришь себе, что все, мол, сказано, что можно было сказать. Но тут раздается голос, хотя и говорящий все то же, но это – ново.
Тогда с легким жестом поднялась со своего места нежность и все взрывы смолкли.
1984
«Можно, по-видимому, утверждать, что тот, кто неспособен сочувствовать радостям и горестям всех живых существ, и не человек вовсе».
«Цуредзурегуса» [229]229
«Цуредзурегуса» – памятник японской литературы XIV в., сочинение буддийского монаха Кэнко-хоси, в миру Урабэ (Ёсида) Ка-нэёси (1283(?) – после 1352). См.: Записки от скуки. М., «Наука», 1970.
[Закрыть]
От слов и фраз он берет себе одни жилы и расплескивает их кровь.
Высокое чудо человеческого духа: воспоминания. Это слово так волнует меня, будто само оно, древнее и позабытое, было снова возвращено из небытия.
Брох сделал Зонне[230]230
Зонне Абрахам (1883–1950) – немецкий поэт и ученый, друг Г. Броха.
[Закрыть] своим Вергилием. Разве нельзя мне назвать его без околичностей и уловок – по имени?
Кто посмел сорвать с лика египетских богов маски животных?
Отец в обличье волка, мой первый Бог.
Животные! Животные! Да откуда тебе знать их? А по всему, что ты не есть, но чем охотно побыл бы на пробу.
Он больше не желает придумывать никакого другого мира, даже и такого, что был бы волнующим я чудесным. Есть один только этот.
Что будет последним? Возмущение? Боль? Чувство благодарности? Отмщение?
Все, кого оплодотворил Ницше: столь великие, как Музиль. И все, кого он оставил девственными: Кафка.
Для меня все определяется этим разграничением: Здесь был Ницше. Здесь Ницше не было.
Испанской литературы преданный немецкий побег.
Г. предсказывает судьбу лауреатов. Самоубийство, бесплодие, забвение, падение по наклонной плоскости. Спрашиваю его о судьбе нелауреатов.
От Галлея до Галлея – время твоей жизни.
Страна, где произнесший «я» немедленно скрывается под землей.
Ах, как они отвратительны мне, эти намеренно загадочные речи!
Он не стыдится приписывать ему собственных сморщенных мыслей.
Как ты сопротивлялся всему, что признает закон кармы[231]231
Карма – одно из основных понятий индуистской религии и философии, связанное с представлением о перевоплощении душ. В самом общем смысле кармой обозначается общая сумма совершенных поступков и их последствий, определяющая характер нового рождения каждого существа после его смерти.
[Закрыть]! Каким милосердным представляется тебе теперь даже это ужасное верование!
Ты оплакиваешь их, гибнущие языки, гибнущих животных, гибнущую Землю.
Оскорбление смертью. Но как изобразить это?
За свои блуждающие фантазии я не обязан Зонне ничем, но многим – за постоянную и собранную готовность к ним.
Ее он олицетворял в совершенстве, как никто другой. Я всегда мог его найти. Он отчитывался передо мною во всем. Честолюбие его – если когда и существовало – было делом прошлого. Несмотря на величайшее смирение и самоотречение, он продолжал жить жизнью проницательного и ясного духа. Он единственный человек, которого я никогда и ничем, даже мысленно, не обидел.
Его поддерживает смерть, которой он терпеть не может.
Большие слова отказывают теперь и тебе; что остается из малых?
Предпочитал бы ты жить намеками?
Некто, обладающий даром всеми забываться.
Два рода грабителей: благодарные и ненавидящие.
Самоубийство, способное спасти другого, – дозволенное это самоубийство?
Он читает о себе и замечает – то был другой.
Старцы знают все меньше, но с достоинством осознают это.
Исторжение понятий, коли слышал их слишком часто, становится потребностью: мокрота духа… Так происходит у тебя сегодня с фетишем, Эдипом и прочими пакостями. Так же придется и другим с властью, стаей, стрекалом.
«Я умираю от жажды, дай мне испить от вод памяти».
Орфическое
Отдельные буквы отскакивают сами собой и теряются; не угадать какие.
Злые слова падают с твоего карандаша, будто черви с носа Энкиду.
Не сбавлять хода перед смертью – скорей, скорей.
Там, где кончаются твои воспоминания и начинаются воспоминания других.
Несносна жизнь, о которой известно слишком многое.
Его народ ему недостаточно древен. Что Иордан! Что Синай! Раньше, раньше!
У тебя ни одного друга среди животных. Полагаешь, что это жизнь?
Читать. До тех пор, пока не перестанешь понимать ни единой фразы. Только это и значит – читать.
Краткость пути в сатире становится ему несносна.
Шум схлынул, и он стал никто. Какое счастье! И он еще успел его испытать!
Пьянящая передышка. Сколько выиграно? Одна зима? Одна бесконечная зима?
Не слишком ли они стали важны для тебя, эти давнишние люди? Забыл, кто сегодня пускает по ветру мир?
Говорит ли оно о зрелости, это стремление все дальше назад? Спасти и сберечь, разумеется. Но сегодня, не больше ли поставлено на карту сегодня: все?
Он говорит «нет», просто для практики.
Пусть отзовется тот, кто сумел научиться чему-нибудь на чужом опыте. А на собственном?
Любовь к каждому слышанному слову. Ожидание всякого слова, какое еще может раздаться. Ненасытная жажда слов. Это бессмертие?
Философы, сокращенные до колоды карт.
Он растворяется, исчезает, если не рассказывает. Какая власть речи, его собственной, над ним самим.
1985
Да пей же, пей, ты иссохнешь от жажды, не рассказывая! Сумма жизни, меньшая, чем ее части.
И каждой правдой ты так выдавал себя, словно это была неправда.
Если б это было согласно принято всеми, то утратило бы достоверность. Ловушка рассказанной истории жизни: все вызванное из небытия – вот оно, здесь, и продолжает действовать. Ни остановить, ни отменить, ни спрятать. Оно заявляет свои права. Отыгрывается за долгую сокровенность. Разгорается гневом на недоверие.
Он бы и рад стать лучше, да слишком дорогое это удовольствие.
Десять минут Лихтенберга – и в его голове разом проносится все, что он целый год подавлял в себе.
Ни дня без знака на бумаге. Кому-нибудь пригодится.
Так краток, как хотелось, ты никогда еще не был.
Человек из частей речи.
Они презирают тебя, оттого что ты скрываешься. Они бы презирали тебя не меньше, продолжай ты торчать на виду.
Старость слишком зависима от своих законов. Недостаточно в ней случайности.
Тебе ставят в укор сопряженность событий рассказанной истории жизни, то, что все происходящее указывает на нечто последующее.
А существуют ли такие жизни, которые не развертываются навстречу своему будущему? Если кто дожил до 80, то ведь не может он изображать свою жизнь так, будто прикончил себя в 40. Если главная его книга после немыслимых оттяжек наконец готова и продолжает работать дальше, то не может он в угоду чьему-то капризу делать вид, будто она не удалась.
Так что пусть тебя упрекают в том, что ты веришь в «Массу и власть», в то, что раскрытое в ней – несмотря на легкомыслие, с которым этим пренебрегли, – сохраняет свою истинность и актуальность. В этом убеждении ты писал историю своей жизни: и форма ее, и добрый кус содержания обусловлены им.
Что она так густо населена и что многие из этих людей занимают больше места, чем сам рассказчик, может показаться странным. Однако это единственная возможность передать действительный облик отдельной судьбы, ее направленной силе наперекор.
Думай о людях, тогда кое-что узнаешь.
Жаждущий власти, которому не дано ее обрести, становящийся поэтому историком.
Ему 80. Такое ощущение, будто он недозволенно вступил в другое столетие.
В Шопенгауэре подкупает то, что он отворачивается от Бога решительно и бесповоротно.
Свободное от влияния власти мышление, исходящее из существования Бога, невозможно.
Свое вызывает раздражение. Не то чтобы оно стало хуже, просто слишком знакомо.
Во многом можно позавидовать Стендалю. Особенно – его прямо-таки заброшенности после смерти.
Все искажается и на тот или иной манер пускается в распродажу. С чего бы это быть важным тому, что тебе думалось? Поскольку ты не сумел повлиять ни на что, даже на самую малость, все это может спокойно исчезнуть. Откуда тебе, впрочем, знать, может, позже, в изменившихся обстоятельствах, это и могло бы дать какой-нибудь результат. А может, и не должно быть никакого результата. Может, что-то должно быть ни для чего, лишь самого себя ради, но уж тогда неискаженно, только и всего.
[…] Ты пугаешься себя, потому что обнаруживаешь в других так много своего. Тебя приводит в ужас и другой, едва осмеливающийся пошевелиться, который слушает тебя, стараясь ничего не упустить, будто дело касается чего-то драгоценного. Но ты ведь вовсе не драгоценен, тебе отвратительно считаться таким, просто вот уже 80 лет ты живешь на свете, и наибольшая часть узнанного и пережитого все еще неисчерпанной заключена в тебе.
Ты делаешь все возможное, чтобы усилить сознание неизбежности смерти. Опасность, которая и без того велика, ты раздуваешь еще, чтобы она ни на мгновенье не исчезла из поля зрения. Ты полная противоположность человеку, принимающему наркотики: твое знание ужасного не должно знать передышки.
Но что ты выигрываешь от этого своего недремлющего сознавания смерти?
Становишься так сильнее? Можешь лучше защитить тех, кто в опасности? Вселяешь в кого-нибудь мужество, все время думая об одном?
Весь этот чудовищный аппарат, воздвигнутый тобой, не служит ничему. Никого не спасает. Он создает обманчивую видимость силы: сплошная похвальба и от начала до конца та же беспомощность, как и у любого другого.
Правда в том, что ты еще не нашел той позиции, которая была бы верна, истинна и полезна людям. Тебя не хватило на большее, чем сказать «нет».
Но я проклинаю смерть. Я не могу иначе. И даже если бы мне пришлось ослепнуть на этом, я не могу иначе, я отталкиваю смерть. Признан я ее, я был бы убийца.
И нет у меня мелодий, что принесли бы с собою покой, нет гамбы, как у них, нет жалобы, никому не различимой как плач, оттого что звук ее сдержан, оправленный в несказанно нежную речь, у меня только эти черточки на желтоватой бумаге и слова, что никогда не новы, целую жизнь говорящие все то же.
Он нуждается в животных формах, чтобы его не поглотило все множество форм.
Он не желает знать, как они складывались. Переходы в них стерты. Он нуждается в этих скачках.
Человек из колосьев, и как все они склоняются, вслушиваясь.
Что он существовал, тебе не желают верить. Сделай ты Зонне чуть поплоше, он был бы правдоподобен. Но он был, каким был, я знал его четыре года, и пусть отсохнет моя рука, которая исказит хоть малейшее в нем.
Так сильно я его любил, пятьдесят лет молча, никогда не писал ему об этом, никогда бы ему этого не сказал, а теперь об этом трезвонят на все лады и его последнее стихотворение красуется в газете, и все совсем наоборот, совсем не так, как хотел он.
Но открылось то, что он для меня сделал, а тут стало известно и от других, каков он был, и воспринимавшееся как моя игра в таинственность оказалось теперь просто свойством его натуры, и за то, что я не сказал о нем больше, чем было мне тогда известно, не станет меня винить ни один из тех, кто сумел его понять.
Говори о самом личном, говори об этом, одно только это и нужно, не стыдись, об общественном говорится в газете.
Последних распоряжений он не делает. Он не окажет смерти этой чести.
Ну и как далеко – после всех своих заявлений – ты продвинулся в подготовке к книге, направленной против смерти?
Попробуй обратное, ее восхваление, и ты быстренько вернешься к себе самому и своему подлинному намерению.
Едкие имена.
Некто, с давних пор знающий каждое твое слово и не имеющий с тобой ничего общего.
«Человек» для него больше не чудо. Чудо для него «животное».
Дни, когда надежда медлит, прежде чем иссякнуть, – счастливые дни.
А если бы это означало: еще один час?
Памятники. Кому? Вымышленным персонажам?
Человек, который в течение дня растет и ложится спать великаном.
Утром он просыпается совсем маленький, сжавшийся во время сна, и опять принимается за свой дневной рост.
Ну наконец. Через 25 лет он способен читать свою книгу как посторонний.
Но почему он считает что-то верным просто потому, что оно так старо?
Ошибка в расчетах? Наш мир?
Что касается языка, то ты святоша. Он для тебя неприкосновенен. В тебе вызывают отвращение даже те, кто его исследует.
Экзотичность слова «Атем»[232]232
Atem (нем.) – дыхание.
[Закрыть], будто оно из другого языка. В нем есть нечто египетское и нечто индийское, но еще сильнее в нем отзвук некоего праязыка.
Найти в немецком слова с отголосками праязыка. Первое: Атем.
Хотелось бы завершить свою жизнь в медитациях над словами и тем продлить ее.
Он не сожалеет ни о каких препятствиях, ни о чем, что задерживало его. Знай он, что доживет до 80, так подождал бы со всем еще дольше.
Нужно напоминать себе о том, как плодотворны недоразумения. Нельзя пренебрегать ими. Один из мудрейших людей был собирателем недоразумений.
Он ищет нечто, чему смог бы безнаказанно поклоняться.
Становится ясно, что те высокие умы, которые он так глубоко почитал, наводили бы на него смертельную скуку, повстречайся они ему во плоти.
Народы, о которых он читал в юности, тем временем вымерли.
Он полагает, что все знаемое им – его личная собственность. Это его собственность лишь до тех пор, пока неверно.
Бессмертие у китайцев – это долголетие. Речь идет не о душах. Всегда присутствует тело, пусть даже легкое и окрыленное, прошедшее сначала долгий путь по горам в поисках таинственных корешков.
И оттого, что они жили еще до нас (китайцы), задолго, с незапамятных времен, оттого так больно видеть, как теперь они тянутся за нами. В конце концов, нагнав нас, они растеряют все, чем нас превосходили.
Одно из условий бессмертия в том, что за кандидатами на него должно тянуться немало упреков, иначе и величайшая заслуга взойдет скукой.
Почему ты готов терпеть всякого? Потому что он так ненадолго здесь.
Верни, верни богов, тех, что были ими, которых ты слишком рано узнал и потому не распознал.
Что говорят людям в письмах к ним и что о них – в дневниках. Сравнить!
Никакая отвратительная вера не препятствие для еще более отвратительной.
В конце исламской биографии Платона[233]233
В конце исламской биографии Платона… – По-видимому, речь идет об арабской биографии Платона, написанной неким Хунаином и изданной в Мадриде в 1760 г.
[Закрыть] встречается следующий неожиданный пассаж о его громком плаче:
«Он любил бывать в одиночестве в безлюдных сельских уголках. И где он находился, можно было большею частью распознать по доносившемуся плачу. Когда он плакал, в пустынных сельских местностях его было слышно за две мили. Он плакал не переставая».
В переводе Франца Розенталя
Вот он стоит и разглядывает смерть. Она приближается к нему, он отталкивает ее назад. Он не оказывает ей чести принимать ее в расчет. И если даже придет день и помутится разум – он не склонится перед ней. Он назвал ее имя, он ненавидел ее, он отверг ее. Как бы мало ему ни удалось, это больше, чем ничего.
Слишком много в голове имен, как булавки.
Надо только стать достаточно старым, чтобы получить все, что тебе не причитается.
Он отказывается от себя самого и облегченно вздыхает. Ничего больше не желает он знать о себе, никогда.








