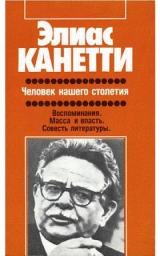
Текст книги "Человек нашего столетия"
Автор книги: Элиас Канетти
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 38 страниц)
Отец отлучился недалеко, за ним послали. Между тем мне, по здешнему обычаю, подали мятный чай. Но из-за царившей здесь приторности сама мысль о питье вызывала у меня легкую тошноту. Элия объяснил по-арабски, что я из Лондона. Господин с европейской шляпой на голове, которого я принял за покупателя, приблизился ко мне на два шага и сказал по-английски: «Я британский». Он был еврей из Гибралтара и говорил по-английски не так уж плохо. Он осведомился о моих занятиях, и я, не зная что еще сказать, повторил старую историю про кино.
Мы успели немного поговорить, и я отведал чаю, когда пришел отец. Это был видный мужчина с красивой белой бородой. Он носил шапочку и одежду марокканских евреев. У него была большая круглая голова с широким лбом, но особенно привлекли мое внимание его смеющиеся глаза. Элия стал возле него и сказал с торжественным жестом:
– Je vous presente mon pere![243]243
Познакомьтесь с моим отцом! (франц.)
[Закрыть]
Он еще никогда не говорил так серьезно и убедительно. «Pere» звучало в его устах прямо-таки возвышенно, я и не думал, что столь глупый человек способен на такую возвышенность. «Pere» звучало даже значительней, чем «американец», а о коменданте, к моему удовольствию, и говорить было нечего.
Я потряс руку мужчины и заглянул в его смеющиеся глаза. Он спросил у сына по-арабски, откуда я и как меня зовут. Поскольку он не понимал ни слова по-французски, сын стал между нами обоими и, против обыкновения, довольно старательно начал переводить. Он объяснил, откуда я приехал и что я еврей, он назвал мое имя. Произнесенное его равнодушным невнятным голосом, оно прозвучало невыразительно.
– Э-ли-ас Ка-нет-ти? – повторил отец вопросительно и как бы взвешивая. Он еще раз-другой произнес имя, отчетливо разделяя слоги. В его устах оно обретало значительность и красоту. При этом он смотрел не на меня, а перед собой, как будто имя было существенней, чем я, и как будто ему было важно его узнать. Я вслушивался удивленно и озадаченно. В его напевном произношении мое имя словно оказывалось принадлежащим к какому-то особому языку, которого я даже не знал. Он великодушно взвесил его четыре или пять раз; показалось, будто слышится звон гирь. Мне не о чем было тревожиться, он не был судья. Я знал, что он только выявит смысл и тяжесть моего имени, и, когда это произошло, он посмотрел мне в глаза и засмеялся.
Он стоял, точно хотел сказать, что имя хорошее, но не было языка, на котором он мог бы мне это сказать. Я прочел это на его лице и ощутил неудержимую любовь к нему. Невозможно было себе представить, что этот человек окажется таким. Его тупой сын, его перекошенный брат – все они были из другого мира, и лишь часовщик унаследовал что-то от его стати, но его здесь не было, среди всего этого сахара ни для кого уже не оставалось места. Элия ждал, что я скажу, чтобы перевести; но я ничего не мог вымолвить. Я остался безмолвен – из благоговения ли, для того ли, чтобы не спугнуть дивных отзвуков напевного имени. Так мы стояли друг против друга несколько долгих мгновений. Если бы только он понял, почему я не могу ничего сказать, думал я, если бы мои глаза могли так смеяться, как его. Невозможно было вновь довериться этому переводу, никакой перевод не показался бы мне сейчас достойным его.
Он терпеливо ждал, а я упорно молчал. Наконец что-то вроде тихого неудовольствия пробежало по его челу, он сказал своему сыну по-арабски фразу, которую тот перевел не сразу.
– Мой отец просит его извинить, ему нужно вернуться.
Я кивнул, и он протянул мне руку. Он улыбнулся, давая понять своим видом, что вынужден заняться делами, которые не доставляют ему удовольствия; наверно, это были торговые дела. Затем он повернулся и покинул лавку.
Спустя несколько мгновений и мы с Элией вышли на улицу. Я сказал ему, как мне понравился его отец.
– Он большой ученый, – ответил тот почтительно и поднял пальцы левой руки вверх, где они выразительно застыли. – Он читает все ночи напролет.
С этого дня Элия мог считать себя победителем. Я усердно выполнял все его докучливые мелкие просьбы, потому что он был сыном этого замечательного человека. Мне было даже немного жаль, что он так мало просит, ибо теперь не было ничего, что я бы для него не сделал. Он получил три английских письма, где до небес превозносились его усердие, его надежность и честность, даже необходимость в работе. Его младший брат Симон, которого я вовсе не знал, изображался не менее дельным в другой области. Адреса обоих братьев в Меллахе не указывались.
Вверху письма красовалось название нашего отеля. Все три мой американский друг подписал черными и, надо полагать, вечными чернилами. Не зная, что еще сделать, он добавил свой домашний адрес в Штатах и номер своего паспорта. Когда я объяснял Элии эту часть письма, он едва сам себе верил от счастья.
Он передал мне приглашение от своего отца на пурим: я мог бы встретить праздник у них дома, в кругу семьи. Я с благодарностью отказался. Я представил себе, как был бы разочарован его отец моим невежеством по части старинных обычаев. Я почти все делал бы неправильно, а молитвы произносил бы как человек, который никогда не молится. Мне было бы стыдно перед этим старым человеком, которого я полюбил, и я решил избавить его от этого огорчения. Я отклонил приглашение, сославшись на работу и зная, что никогда больше его не увижу. Мне было достаточно, что я видел его однажды.
Больше всего народа собирают рассказчики. Люди толпятся вокруг них особенно плотно и особенно стойко. Их выступления длятся долго, слушатели, образующие внутреннее кольцо, садятся на землю и не спешат расходиться. Во внешнем кольце стоят и тоже не шевельнутся, все очарованно следят за словами и жестами рассказчика. Иногда рассказчиков двое, они выступают по очереди. Их слова разносятся далеко и звучат в воздухе дольше, чем слова обычных людей. Я ничего в них не понимал и все-таки словно прикованный все время старался держаться на расстоянии слышимости. Произносимые веско и страстно, эти слова были лишены для меня какого-нибудь значения; для произносившего же их они были важны, он ими гордился. Он подчинял их ритму, и этот ритм, казалось мне, у каждого был свой. Если рассказчик запинался, то дальше продолжал говорить с особенной силой и подъемом. Я мог ощутить, как торжественно звучали одни слова и какое коварство крылось в других. Льстивый тон задевал меня так, словно обращались ко мне; я боялся какой-то угрозы. Все было подчинено воле рассказчика, самые сильные слова летели не дальше, чем ему было нужно. Воздух бурлил над головами слушателей, и тот, кто понимал так мало, как я, представлял, что испытывают они.
Ради своих слов и рассказчики были наряжены по-особенному. Их одежда всегда отличалась от одежды слушателей. Они предпочитали ткани пороскошнее; некоторые выходили в голубом или коричневом бархате. Они производили впечатление важных лиц, причем из сказки. Редко они удостаивали взглядом людей, их окружавших. Они видели своих героев, своих персонажей. Если же их взгляд падал на кого-то из присутствующих, этот обычный человек поневоле казался себе столь же невзрачным, как остальные. Чужеземцы же для них вовсе не существовали, они не имели отношения к царству их слов. Сначала мне даже не верилось, что я их так мало интересую, это было слишком необычно, чтобы быть правдой. Я задерживался здесь как нигде долго, хотя меня уже тянуло к другим звукам этой богатой звуками площади, но на меня не обращали внимания даже тогда, когда я уже начал чувствовать себя в этом большом кругу почти что своим. Конечно, рассказчик меня замечал, но я оставался для него чужим в его волшебном кругу, потому что не понимал его.
Мне часто давали это почувствовать, и я еще надеюсь когда-нибудь воздать должное этим бродячим рассказчикам. Но в то же время я был рад, что не понимал их. Они оставались для меня островками древней и нетронутой жизни. Их язык был столь же важен для них, как мой для меня. Слова были их пищей, и никакой соблазн не заставил бы их обменять ее на другую, получше. Я гордился властью, какой обладал их рассказ над сотоварищами по языку. Они представлялись мне старшими и лучшими братьями. В счастливые мгновения я говорил себе: и я могу собрать вокруг себя людей для рассказа, и меня они слушают. Но вместо того, чтобы странствовать с места на место, никогда не зная, кого встретишь, чей слух тебе откроется, вместо того, чтобы жить чистым доверием к собственному рассказу, я препоручил себя бумаге. И вот я живу под защитой столов и дверей, трусливый мечтатель, а они – в сутолоке базара, перед сотнями незнакомых, каждодневно меняющихся лиц, не отягощенные никаким холодным, никаким лишним знанием, без книг, лишенные честолюбия, не думая о престиже. Среди собратьев по перу, людей, живущих литературой, я редко чувствовал себя хорошо. Я презирал их, ибо презирал что-то в самом себе, и, пожалуй, это что-то было – бумага. Здесь я ощутил себя вдруг среди поэтов, которыми мог восхищаться, потому что ни единого слова у них нельзя было прочесть.
Но тут же совсем рядом, на той же самой площади, мне пришлось убедиться, как сильно я погрешил и против бумаги. В нескольких шагах от рассказчиков расположились писцы. Возле них было совсем тихо, это была самая тихая часть Джемы-эль-Фна. Писцы никак не рекламировали свое умение. Они сидели себе спокойно, маленькие, тщедушные, перед ними были их письменные принадлежности, и ничто не говорило о том, что они ждут клиентов. Взглянув на человека, они рассматривали его без особого любопытства и вскоре отводили взгляд. Их скамьи располагались немного поодаль друг от друга, так, чтобы не было слышно, что говорится возле каждого. Самые скромные, а может, более старомодные сидели прямо на земле. Здесь они обдумывали свои дела или писали сами по себе в своем скрытном мире, окруженные буйным шумом площади и все-таки обособленные от него. Похоже было, что с ними советуются о тайных невзгодах, и, поскольку происходило это у всех на виду, они все привыкли немного таиться. Они сами здесь были почти не в счет, значение имело лишь одно: тихое достоинство бумаги.
К ним подходили отдельные мужчины, подходили пары. Однажды я увидел сидевших на скамье перед писцом двух молодых женщин в покрывалах, их губы едва заметно шевелились, а он кивал и почти так же незаметно писал. В другой раз я увидел целую семью, весьма импозантного и внушительного вида. Она состояла из четырех человек, и все расселись вокруг писца на двух маленьких скамьях в правом углу. Отец был старый, крепкий, на редкость красивого сложения бербер, на лице которого можно было прочесть все признаки опыта и мудрости. Я попытался представить себе его положение и не мог найти ни одного, которого он казался бы недостоин. А вот здесь он был беспомощен, рядом со своей женой, которая столь же впечатляла своей осанкой, ибо покрывало оставляло открытым на всем лице лишь необычайно большие, очень темные глаза, а на скамейке рядом были две их юные дочери, тоже в покрывалах. Они сидели прямо и очень торжественно.
Писец, который был гораздо мельче, держался с ними почтительно. Его вид выражал изысканную внимательность, она была так же заметна, как преуспевание и красота семейства. Я видел их с небольшого отдаления, не слыша ни звука, не замечая ни движения. Писец еще не приступил, собственно, к своей деятельности. Он уже выслушал, о чем идет речь, и теперь обдумывал, как бы это лучше изложить словами письменного языка. Группа выглядела сплоченной, как будто все участники встречи давно знали друг друга и бог весть сколько уже сидели в этом положении.
Я даже не задавался вопросом, почему они пришли все, настолько они составляли одно целое, и лишь время спустя, уже покинув площадь, вдруг подумал об этом. Что же в самом деле могло заставить прийти к писцу все семейство?
Больше всего дети-попрошайки любили собираться поблизости от ресторана «Кугубья». Здесь мы все обедали и ужинали, и они, стало быть, знали, что нам от них не уйти. Для ресторана, дорожившего своей репутацией, дети, конечно, не были желанным украшением. Когда они подходили к дверям слишком близко, владелец их прогонял. Лучше им было дождаться нас на углу напротив, и, когда мы приходили есть, обычно маленькими группами по три-четыре человека, они тотчас нас окружали.
Некоторым, жившим в городе уже несколько месяцев, подавать надоело, и они старались от детей отмахнуться. Другие подавали, но не без колебания, потому что стыдились этой «слабости» перед знакомыми. В конце концов, надо было научиться здесь жить, и местные французы показывали в этом смысле пример, а хорош он был или плох – это как для кого: они принципиально никогда не лезли ради попрошаек в карман и немного даже гордились этой своей толстокожестью. Я был в городе еще человеком свежим и, так сказать, молодым. Мне было все равно, что про меня думали. Пусть меня считали за дурака, но я любил детей.
Когда они однажды меня пропустили, я почувствовал себя несчастным; я сам старался найти их, чтобы не пройти незамеченным. Мне нравилась их оживленная жестикуляция, их маленькие пальцы, которыми они показывали на рот, жалостливо при этом скуля «manger! manger!», нравилось, какие они строят неописуемо печальные рожи, как будто в самом деле вот-вот упадут от слабости и голода. Мне нравилась их буйная радость, когда они что-то получали, и с каким смешливым азартом они разбегались, ухватив жалкую добычу, нравилась невероятная переменчивость их лиц, когда из умирающих они вдруг становились счастливыми. Мне нравились их маленькие уловки, когда они протягивали мне младенцев, чьи крохотные и почти нечувствительные ручонки тянулись ко мне, а эти просили: «Для них тоже, для них тоже, manger! manger!» – чтобы удвоить подаяние. Детей было немного, я старался быть справедливым, но, конечно, у меня были среди них свои любимчики, те, чьи лица отличались красотой и живостью; я просто не мог на них насмотреться. Они следовали за мной до дверей ресторана, чувствуя себя уверенно под моей защитой. Они знали, что я хорошо к ним отношусь, и им хотелось подойти поближе к этому сказочному, запретному для них месту, где так много ели.
Владелец ресторана, француз с круглой лысой головой и с глазами, напоминавшими липучку для мух, у которого для завсегдатаев имелся, однако, теплый, добрый взгляд, терпеть не мог, когда дети-попрошайки приближались к его ресторану. Слишком неприглядны были их лохмотья. Пусть приличные гости в свое удовольствие заказывают себе дорогие кушанья, не думая при этом о голоде и вшах. Когда я, входя, открывал дверь и он, случайно оказавшись поблизости, видел снаружи кучу детей, он неодобрительно качал головой. Но поскольку я принадлежал к группе из пятнадцати англичан, которые по два раза в день обязательно у него ели, он не решался мне что-либо сказать и искал способа уладить все иронично и любезно.
Однажды в полдень, когда было очень душно, дверь ресторана оставили открытой, чтобы впустить свежего воздуха. Мы с двумя моими приятелями уже выдержали натиск детей и уселись за свободным столиком поближе к открытой двери. Дети остались перед ней довольно близко, они стояли так, чтобы видеть нас. Им хотелось продолжить дружеские отношения, а заодно и посмотреть, что мы будем есть. Они делали нам всякие знаки; особенно забавляли их наши усы. Одна девочка, лет, наверное, десяти, самая из них красивая, давно заметившая, что она мне нравится, все время показывала на крохотное место между своей верхней губой и носом, захватывала там двумя пальцами воображаемые усы, щипала их и тянула. При этом она от души смеялась, и другие дети смеялись с ней вместе.
Хозяин подошел к нашему столу, чтобы принять у нас заказ, и увидел смеющихся детей. С сияющей миной он сказал мне:
– Вот, уже играют в маленьких кокоток!
Мне было неприятно это злословие, да, наверно, и не хотелось верить, потому что мне в самом деле нравились мои попрошайки, и я безобидно заметил:
– Ну, не в этом же возрасте!
– Представьте себе, – сказал он, – за 50 франков вы любую из них можете иметь. Любая хоть сейчас пойдет с вами на часок.
Я очень возмутился и резко ему ответил:
– Не может этого быть, такого не бывает.
– Да вы не знаете, что здесь творится, – сказал он. – Вам стоило бы немного понаблюдать ночную жизнь Марракеша. Я здесь живу уже давно. Когда я только приехал, это было во время войны, я был тогда еще холостой – он бросил беглый, однако довольный взгляд на свою немолодую жену, которая, как всегда, сидела за кассой, – мы были тут с несколькими друзьями, и чего только не насмотрелись. Однажды нас привели в дом, и едва мы уселись, как нас окружила сразу куча голых маленьких девочек. Они садились у наших ног, прижимались и так, и этак– они были не старше, чем вон те за дверью, некоторые даже помладше.
Я недоверчиво покачал головой. – Да что угодно можно было иметь. Мы здорово поразвлеклись тогда, позабавились в свое удовольствие. Было у нас одно замечательное приключение, это я должен вам рассказать. Нас было трое, три друга. Один пошел в комнату к Фатьме (так французы презрительно называли местных женщин), но эта была уже не ребенок, а мы двое заглядывали туда через дырку.
Сперва он тихо с ней договаривался, потом они сошлись в пенс, и вот он дал ей деньги. Она спрятала их в ночной столик, который стоял у кровати. Потом потушила свет, и оба легли. Мы все это наблюдали. Как только свет потух, один из нас прокрался в комнату, тихо-тихо пробрался к ночному столику. Там осторожненько залез в ящик, и пока эти двое занимались своим делом, вынул деньги. Потом он быстро выбрался обратно, и мы оба убежали. А потом и наш друг пришел. Он побывал у Фатьмы бесплатно. Представляете, сколько было смеха? И это была только одна из наших проделок.
Мы могли себе это представить, потому что он хохотал во всю глотку, он трясся от смеха, и рот его был широко раскрыт. Мы даже не знали, что у него такой большой рот, мы его еще таким не видели. Обычно он ходил по ресторану с некоторой важностью, сам принимал заказы у избранных гостей, достойно и вполне сдержанно, как будто ему было совершенно все равно, что заказывают. Если он давал советы, то не назойливо, и, казалось, исключительно лишь ради этого гостя. Сейчас он потерял над собой контроль, так он восхищался своей историей. Наверно, это было славное для него времечко. Лишь однажды он как бы вспомнил обычную свою повадку. Посредине рассказа какой-то маленький официант приблизился к нашему столу. Хозяин барственным жестом отослал его с каким-то делом, чтобы тот не слышал, о чем он нам повествует.
Но мы превратились в холодных англосаксов. Оба моих друга, один из которых недавно стал англичанином, другой был им с рождения, и я, живший среди них пятнадцать лет, испытывали общее чувство презрительного отвращения. К тому же и нас было как раз трое, все у нас было слишком в порядке и, может, мы чувствовали какую-то вину за тех троих, что общими силами украли у бедной туземки ее заработок. Он рассказывал это, сияя от гордости, для него это была лишь шутка, он все еще был полон воодушевления, пока мы с кислыми минами улыбались и смущенно кивали.
Дверь все время оставалась открыта, дети стояли перед ней в терпеливом ожидании. Они чувствовали, что, пока длится рассказ, их не прогонят. Я подумал, что они этот рассказ понять не смогут. Человек, с таким презрением заговоривший о них, вдруг сам оказался достойным презрения. Правда ли было то, что он говорил о них, или клевета, чем бы ни занимались эти маленькие попрошайки, он был намного их ниже, и мне хотелось, чтобы нашлось все же такое наказание, когда ему пришлось бы ждать заступничества от них.
1967
Масса и власть[244]244«Масса и власть» (1960) – крупнейшее сочинение Э. Канетти, над которым он работал в течение тридцати лет. В определенном смысле оно продолжает труды французского врача и социолога Густава Ле Бона (1841–1931) «Психология масс» и испанского философа Хосе Ортега-и-Гассета (1883–1955) «Восстание масс», исследующие социальные, психологические, политические и философские аспекты поведения и роли масс в функционировании общества. Однако в отличие от этих авторов Э. Канетти рассматривал проблему массы в ее диалектической взаимосвязи и обусловленности с проблемой власти. В этом смысле сочинение Канетти имеет гораздо больше точек соприкосновения с исследованием Зигмунда Фрейда (1856–1936) «Психология масс и анализ Я», в котором ученый обращает внимание на роль вождя в формировании массы и поступательный процесс отождествления большой группой людей своего Я с образом лидера. Однако в отличие от 3. Фрейда, главным образом исследующего действие психического механизма в отдельной личности, обусловливающее ее «растворение» в массе, Э. Канетти прежде всего интересует проблема функционирования власти и поведения масс как своеобразных, извечно повторяющихся примитивных форм защиты от смерти, в равной мере постоянно довлеющей как над власть имущими, так и людьми, объединенными в массе.
Перевод отдельных глав из книги выполнен по изданию: Can-etti Elias. Masse und Macht (Frankfurt/Main, Classen, 1984).
[Закрыть]
Боязнь прикосновения и ее метаморфозы
Ничего так не боится человек, как непонятного прикосновения. Когда случайно дотрагиваешься до чего-то, хочется увидеть, хочется узнать или по крайней мере догадаться, что это. Человек всегда старается избегать чужеродного прикосновения. Внезапное касание ночью или вообще в темноте может сделать этот страх паническим. Даже одежда не обеспечивает достаточной безопасности: ее так легко разорвать, так легко добраться до твоей голой, гладкой, беззащитной плоти.
Эта боязнь прикосновения побуждает людей всячески отгораживаться от окружающих. Они запираются в домах, куда никто не имеет права ступить, и лишь там чувствуют себя в относительной безопасности. Взломщика боятся не только потому, что он может ограбить, – страшно, что кто-то внезапно, неожиданно схватит тебя из темноты. Рука с огромными когтями – обычный символ этого страха. Отсюда во многом двойственный смысл немецкого слова angreifen. Оно может означать и безобидное прикосновение, и опасное нападение, причем в первом значении всегда присутствует оттенок второго. Основное же значение существительного Angriff уже исключительно отрицательное: нападение, атака.
Нежелание с кем-либо соприкоснуться сказывается и на нашем поведении среди других. Характер наших движений на улице, в толпе, в ресторанах, в поездах и автобусах во многом определяется этим страхом. Даже когда мы оказываемся совсем рядом с другими людьми, ясно их видим и прекрасно знаем, кто это, мы по возможности избегаем соприкосновений. Если же, напротив, мы рады коснуться кого-то, значит, этот человек оказался нам просто приятен, и сближение происходит по нашей инициативе.
Быстрота, с какой мы извиняемся, нечаянно кого-то задев, напряженность, с какой обычно ждешь извинения, резкая и подчас не только словесная реакция, если его не последует, неприязнь и враждебность, которую испытываешь к «злоумышленнику», даже когда не думаешь, что у него и впрямь были дурные намерения, – весь этот сложный клубок чувств вокруг чужеродного прикосновения, вся эта крайняя раздражительность, возбудимость свидетельствуют о том, что здесь оказывается задето что-то затаенное в самой глубине души, что-то вечно недремлющее и коварное, что-то никогда не покидающее человека, однажды установившего границы своей личности. Такого рода страх может лишить и сна, во время которого ты еще беззащитней.
Освободить человека от этого страха перед прикосновением способна лишь масса. Только в ней страх переходит в свою противоположность. Для этого нужна плотная масса, когда тела прижаты друг к другу, плотная и по своему внутреннему состоянию, то есть когда даже не обращаешь внимания, что тебя кто-то «теснит». Стоит однажды ощутить себя частицей массы, как перестаешь бояться ее прикосновения. Здесь в идеальном случае все равны. Теряют значение все различия, в том числе и различие пола. Здесь, сдавливая другого, сдавливаешь сам себя, чувствуя его, чувствуешь себя самого. Все вдруг начинает происходить как бы внутри одного тела. Видимо, это одна из причин, почему массе присуще стремление сплачиваться тесней: в основе его – желание как можно в большей степени освободить каждого в отдельности от страха прикосновения. Чем плотней люди прижаты друг к другу, тем сильней в них чувство, что они не боятся друг друга. Этот переход боязни прикосновения в другое качество – свойство массы. Облегчение, которое в ней начинаешь испытывать и о котором еще пойдет речь в другой связи, становится наиболее ощутимо при самой большой ее плотности.








