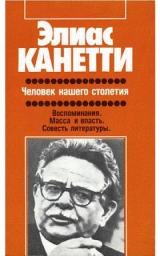
Текст книги "Человек нашего столетия"
Автор книги: Элиас Канетти
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 38 страниц)
Суть дела в том, что право выносить приговор он присвоил лишь себе и никому из тех, для кого он был образцом, права на собственное суждение не оставлял. Последствия этого гнета мог очень скоро заметить на себе каждый его приверженец.
Первое, что наступало после слушания десяти-двенадцати лекций Карла Крауса, после года-двух чтения «Факела»[24]24
«Факел» – журнал, основанный К. Краусом в апреле 1899 г. в Вене и с 1911 г. единолично издававшийся им на протяжении всей жизни. Последний, 922-й номер журнала вышел в 1936 г. К. Краус был практически единственным автором этого журнала.
[Закрыть], – общий спад желания судить самому. Захлестывала волна сильных, непререкаемых решений, в которых не возникало ни малейшего сомнения. То, что однажды решалось там, в этой высшей инстанции, считалось окончательным, человеку показалось бы дерзостью предпринять проверку самому, а потому никто никогда не брал в руки книги авторов, осужденных Краусом. Но достаточно было и мелких презрительных замечаний на полях, которые, как травинки, прорастали между блоками его фраз-крепостей, чтобы человек впредь избегал предмета этих замечаний. Наступила некая редукция: если раньше, в течение восьми лет, что я не был в Вене, прожив их в Цюрихе и Франкфурте, я интересовался всей литературой и пожирал книги с алчностью волка, то теперь начался период ограничения, аскетической сдержанности. В ней было свое преимущество, человек тем интенсивнее вчитывался в то, что одобрял Краус: в Шекспира и Гёте, в Клаудиуса, в Нестроя, которого он раскрыл, дав ему новую жизнь, – это его чисто личное и самое плодотворное достижение; в раннего Гауптмана вплоть до «Пиппы»[25]25
…раннего Гауптмана вплоть до «Пиппы»… – Речь идет о символической драме немецкого писателя Герхарта Гауптмана (1862–1946) «А Пиппа пляшет» (1906).
[Закрыть], первый акт которой он имел обыкновение читать вслух, в Стриндберга и Ведекинда[26]26
…вчитывался…в Стриндберга и Ведекинда… – Шведский писатель Ав-густ-Юхан Стриндберг (1849–1912) и немецкий драматург Франк Ведекинд (1864–1918) до 1911 г. сотрудничали в журнале К. Крауса «Факел». Любопытно отметить, что Краус, энергично пропагандировавший творчество Ведекинда, в 1905 г. в венском театре «Трианон» осуществил постановку его пьесы «Ящик Пандоры», в которой сам сыграл роль Кунгу Поти.
[Закрыть], которым в прежние годы выпала честь появляться на страницах «Факела», из модерна еще в Тракля и в Ласкер-Шюлер[27]27
…вчитывался… в Тракля и в Ласкер-Шюлер. – С выдающимися поэтами-экспрессионистами Георгом Траклем и Эльзой Ласкер-Шюлер (1869–1945) К. Крауса связывала тесная дружба. Тракль, называвший Крауса «первосвященником истины», посвятил ему одно из лучших своих стихотворений «Псалом», Э. Ласкер-Шюлер – стихотворение «Старый тибетский ковер».
[Закрыть]. Ясно, что те авторы, какими он ограничивал круг вашего чтения, были отнюдь не худшими. Для Аристофана, которого он обрабатывал[28]28
Для Аристофана, которого он обрабатывал… – К. Краусу принадлежит обработка комедии древнегреческого комедиографа Аристофана (ок. 446–385 до н. э.) «Птицы».
[Закрыть], он мне был не нужен, но Краусу никогда и не удалось бы его из меня вытравить, так же, как «Гильгамеш»[29]29
«Гильгамеш» – ассирийско-вавилонский эпос, запись которого была найдена в библиотеке ассирийского царя Ашшурбанипала.
[Закрыть] и «Одиссею», все это давно стало глубочайшей сутью моей духовности. Романистов, прозаиков вообще он во внимание не принимал, я думаю, они его мало интересовали, и это было счастье. Поэтому я мог, даже при его немилосердной диктатуре, не затронутый ею, читать Достоевского, По, Гоголя и Стендаля и воспринимать их так, будто Карла Крауса не существует. Я бы назвал это моим подпольным существованием в то время. У этих писателей, а также у художников Грюневальда[30]30
Грюневальд Маттиас – так начиная с XVII в. называли немецкого живописца Маттиаса Нидхардта (между 1470 и 1475–1528).
[Закрыть] и Брейгеля[31]31
Брейгель Старший Питер (прозванный Мужицким, между 1525 и 1530–1569) – нидерландский живописец, рисовальщик и гравер.
[Закрыть], которых его слово не доставало, я, еще сам того не ведая, почерпнул силы для будущего мятежа.
Ведь тогда я на самом деле почувствовал, что значит жить при диктатуре. Я был ее добровольным, преданным, пылким и восторженным приверженцем. Враг Карла Крауса был для меня презренным, аморальным существом, и, если я и не занимался истреблением мнимой нечисти, как это вошло в обычай у более поздних диктатур, у меня все же – со стыдом должен в этом признаться, – у меня тоже были свои «жиды», – да, иначе сказать не могу, люди, от которых я отворачивался, если встречал их в ресторанах или на улице, которых не удостаивал взглядом, чья судьба меня не касалась, которые для меня были отщепенцами и отверженными, чье прикосновение меня бы осквернило, которых я со всей серьезностью больше не причислял к человечеству: жертвы и враги Карла Крауса.
Тем не менее эта диктатура оказалась не совсем безрезультатной, и, поскольку я подчинился ей сам и сам же в конце концов сумел от нее освободиться, я не имею права ее обвинять. К тому же, именно благодаря почерпнутому из нее опыту, скверный обычай обвинять других мне глубоко отвратителен.
Важно иметь образец, обладающий богатым кипучим миром, миром, который он сам для себя вы-нюхал, вы-смотрел, сам у-слышал, у-чуял и вы-думал. Аутентичность своего мира – вот что, в сущности, дает человеку образец, чем он глубже всего впечатляет. В этот мир человек позволяет себя вовлечь, позволяет ему себя осилить, и я совершенно не могу представить себе писателя, которого когда-либо раньше не подавила бы и не обессилила чужая аутентичность. Если он унижен этим насилием, даже чувствует, что у него ничего своего нет, то в нем начинают шевелиться подспудные силы. Выявляется его личность, возникая из сопротивления, везде, где он высвобождается, непременно существовало что-то, что его освободило.
Но чем богаче был мир того, кто держал его в подчинении, тем богаче должен стать его собственный мир, отталкивающий от себя тот, чужой. Стало быть, полезно желать себе сильных образцов. Полезно подпасть под власть такого образца, пока ты лишь втайне, в каком-то рабском мраке тяготеешь к своей собственной сути, которой стыдишься, ибо ее еще не видно.
Роковые те образцы, что проникают в этот мрак, даже в последнем жалком подполье не дают человеку дышать. Но опасны также образцы совершенно другого толка, те, что прибегают к подкупу и слишком быстро становятся полезными тебе в мелочах, те, что лживо уверяют, будто у тебя уже есть что-то свое, и все это лишь потому, что ты перед ними склоняешься и покорствуешь им. В конце концов, ты живешь их милостью, как дрессированный зверь, и довольствуешься лакомым куском из их рук.
Ведь никто из начинающих не может знать, что он в себе найдет. Да и как бы он мог об этом хотя бы догадываться, если оно еще не состоялось.
С помощью заемных инструментов вскапывает он почву, да и та тоже заемная, чужая. Когда он в первый раз внезапно оказывается перед чем-то, чего не узнает, что пришло к нему ниоткуда, он пугается и теряет равновесие: ведь это его собственное.
Это может быть самая малость – орех, корешок, крошечный камешек, ядовитая змея, новый запах, необъяснимый звук или сразу же темная, далеко идущая жила. Если у него хватит мужества и благоразумия оправиться от первого страшного приступа головокружения, узнать и назвать найденное, начнется его настоящая, его собственная жизнь.
1965
Диалог с жестоким партнеромМне было бы трудно продвигаться в работе, которую я больше всего люблю, если бы я временами не вел дневника. Не потому, что я использую эти записи, они никогда не служат сырьем для того, что я как раз пишу. Однако дело в том, что человек, знающий силу своих впечатлений, ощущающий каждую подробность каждого дня так, будто это единственный день его жизни, человек, в сущности состоящий из сплошных преувеличений, но не подавляющий в себе этой склонности, потому что для него важно выпячивание, острота и конкретность всех вещей, из которых состоит жизнь, – такой человек взорвался бы или так или иначе разлетелся бы на куски, если бы не находил успокоения в дневнике.
Успокоение – это пожалуй основная причина, из-за которой я веду дневник. Трудно поверить, как успокаивает и обуздывает человека написанная фраза. Фраза всегда не такая, как тот, кто ее пишет. Она стоит перед ним, как чужая, как неожиданно выросшая прочная стена, через которую нельзя перескочить. Вероятно, ее можно было бы обойти, но еще до того, как попадешь на ту сторону, под острым углом к первой стене окажется другая, новая фраза-стена, не менее прочная и высокая, и она тоже манит обойти ее. Постепенно возникает лабиринт, в котором сам строитель еще худо-бедно ориентируется. Его успокаивают собственные блуждания.
Людям, составляющим ближайшее окружение какого-либо писателя, было бы невыносимо выслушивать все, что его взволновало. Волнение заразно, а у других, надо надеяться, есть своя жизнь, которая не может целиком состоять из волнений ближнего, иначе они задохнутся. Кроме того, есть вещи, о которых нельзя сказать никому, даже близким, потому что их слишком стыдишься. Нехорошо, если они вообще останутся невысказанными, нехорошо, если они канут в забвение. Механизмы, с помощью коих мы облегчаем себе жизнь, и без того слишком уж хорошо разработаны. Сначала немного робко говоришь себе: «В сущности, я в этом не виноват», и в мгновение ока все забыто. Чтобы избежать такого недостойного поведения, надо все записать, а потом, много позже, быть может, годы спустя, когда человек уже сочится самодовольством изо всех пор, когда меньше всего этого ждет, он внезапно с ужасом натолкнется на эту запись. «Вот на что я был способен, вот что я сделал». Религия, раз и навсегда избавляющая человека от таких ужасов, вероятно, годится для тех, в чью обязанность не входит достижение полного и ясного осознания внутренних процессов.
Кто действительно хочет все знать, тому лучше всего учиться на себе. Но он не вправе себя щадить и должен подходить к себе будто к другому человеку – не менее жестко, наоборот, еще жестче.
Однообразие многих дневников коренится в том, что там нет ничего, что искало бы успокоения. Многие, хоть в это верится с трудом, довольны всем вокруг себя, даже миром, готовым вот-вот рухнуть; другие, при всех вариациях, довольны собой.
Успокоение как функция дневника действует, таким образом, не столь уж долго. Это сиюминутное успокоение, от временной беспомощности, оно очищает день для работы, не более того. Спустя долгий срок дневник оказывает прямо противоположное действие, он не дает человеку себя убаюкать, он мешает естественному процессу преображения прошлого, которое остается таким как есть, он поддерживает в человеке бдительность и едкость.
Но прежде чем говорить подробнее об этой и о некоторых других функциях дневников, я бы хотел отделить от них то, что я к таковым не причисляю. Я различаю заметки, записные книжки и собственно дневники.
О них я уже высказывался в предисловии к своему сборнику «Заметки 1942–1948». Но все же необходимо повторить это здесь, хотя бы конспективно, чтобы меня верно поняли. «Заметки» самопроизвольны и противоречивы. Они содержат идеи, рождающиеся иногда с невыносимым напряжением, но часто и с большой легкостью. Невозможно избежать того, чтобы работа, которую продолжаешь годами, изо дня в день, не казалась тебе иногда вымученной, бесперспективной или запоздалой. Ненавидишь ее, чувствуешь, что она тебя обступает, мешает дышать. Все на свете вдруг представляется тебе важнее, чем она, и в этой стесненности ты начинаешь казаться себе халтурщиком. Как может быть хорошим то, что сознательно столь многое исключает. Каждый незнакомый звук доносится будто из запретного рая, в то время как каждое слово, прибавляемое к тому, что ты с давних пор пишешь, в своей гибкой приспособляемости, своей сер-вильности окрашивается в цвета дозволенного и пошлого ада. Невыносимость возложенной на себя работы может стать для этой последней весьма опасной. Человек многообразен, тысяче-образен это его величайшее счастье, – и жить так, будто он не таков, может лишь недолгое время. В такие моменты, когда он считает себя рабом своей цели, ему в состоянии помочь лишь одно: он должен поддаться многообразию своих склонностей и без разбора записывать все, что ему придет в голову. Все это должно всплывать так, будто явилось ниоткуда и никуда не ведет, большей частью оно будет кратким, быстрым, часто – молниеносным, непроверенным, неуправляемым, несуетным и совершенно бесцельным. Тот же пишущий, что обычно строго следит за порядком, на короткий срок становится покорной игрушкой мыслей, пришедших ему в голову. Он записывает идеи, которых у себя никогда не предполагал, которые противоречат его истории, его убеждениям, даже его форме, его стыдливости, его гордости и его обычно так упорно защищаемой истине.
Давление, которым все это сопровождается вначале, потом ослабевает, и может случиться, что ему вдруг становится легко и он в некоем блаженстве записывает самые вольные вещи. То, что таким образом возникает – а таким образом возникает очень многое, – он охотнее всего оставляет лежать без внимания. Если у него это действительно получается, в течение многих лет, то он сохраняет доверие к самопроизвольности, составляющее жизненную атмосферу таких записок, ибо, если он когда-нибудь это доверие утратит, они ни на что больше не будут годиться и он может уже не отвлекаться от своей настоящей работы. Лишь много позже, когда все записанное будет казаться заметками кого-то другого, в них могут обнаружиться вещи, которые, сколь бы бессмысленными ни показались они ему когда-то, вдруг обретут смысл для других. А поскольку он и сам к тому времени будет другим, он сможет без особого труда выбрать из них полезное для себя.
Всякий человек, по примеру всего человечества, хотел бы создать для себя собственный календарь. Главная привлекательность календаря состоит в том, что он все время продолжается. Столько дней уже прошло, за ними последуют другие. Возвращаются названия месяцев, еще чаще – названия дней. Но число, обозначающее год, всегда другое. Оно растет, ему никогда не стать меньше, с каждым разом прибавляется год. Число это постоянно возрастает, пропустить какой-нибудь год невозможно, точно так же, как при счете нельзя пропустить единицу. Исчисление времени точно выражает то, чего больше всего желает себе человек. Возврат дней, название которых он сознает, придает ему уверенность. Он просыпается: какой сегодня день? Среда, опять среда, сред на его веку было уже много. Но за плечами у него не только среды. Нынче ведь 30 октября, это нечто побольше, таких чисел он тоже знал уже изрядное множество. Однако от линеарного роста цифр, обозначающих год, он ждет, что этот рост поведет его ко все более высоким числам. Эта уверенность и желание долгой жизни сходятся в исчислении времени, последнее словно бы специально для них придумано.
Однако пустой календарь – это ничейный календарь, теперь же он хочет сделать его своим, а для этого он должен его заполнить. Бывают дни хорошие и плохие, свободные и трудные. Если он обозначит их несколькими словами или буквами, то календарь непременно станет его собственным. Важнейшие события отмечаются памятными днями. Пока человек молод, таких дней у него еще мало, год предстает как бы нетронутым, большинство дней еще свободно и не использовано для будущего. Но постепенно годы заполняются, все больше повторяется решающих дат, и под конец в его календаре не остается почти ни одного неиспользованного дня: у каждого своя история.
Я знаю людей, которые насмехаются над чужими календарями такого рода «в них ведь мало что значится». Однако лишь тот, кто обзавелся подобным календарем, может по-настоящему знать, что там значится. Скудость этих знаков придает им ценность. Они сохраняются благодаря своей сжатости, все пережитое, что в них содержится, заперто будто волшебным ключом, оно не растрачено, и внезапно, благодаря соседству с чем-то еще, может в другом году распуститься в нечто чудовищное.
Ныне нет на свете никого, кто не имел бы права на такие записные книжки. Каждый человек – центр мира, но именно каждый, и мир только тем и ценен, что полон таких центров. В этом смысл слова «человек»: каждый из нас – центр, наряду с бесчисленными другими, которые настолько же центры, что и мы.
Записные книжки были и остаются зачатком настоящих дневников. Многие писатели, не доверяющие дневникам, так как слишком многое из дневникового материала в их сознании стирается, все же ведут записные книжки. Обычно люди путают то и другое.
Я их четко различаю. В записных книжках, которые почти всегда представляют собой маленькие календари, я совсем коротко отмечаю, что меня особенно задевает или приносит удовлетворение. Там значатся имена считанных людей, благодаря которым ты мог дышать и без которых никогда бы не выдержал все остальные дни. Встречи с ними, первое сближение, их отъезд, возвращение, их тяжелые заболевания, выздоровление, и самое страшное – их смерть. Кроме того, бывают дни внезапных идей, которые вначале обрушиваются на тебя как мечи, потом куда-то проваливаются, всплывают снова и, наконец, преображенные, немалую часть жизни плодоносят. Бывает, отмечаешь те дни, когда что-то из этих идей получило воплощение и доставило тебе радость. Таким дням экспансивного одоления противостоят другие, когда сам оказываешься одоленным: ты что-то прочел и чувствуешь, что это с тобой останется навсегда «Войцек»[32]32
«Войцек» (1837) – драма немецкого драматурга Г. Бюхнера (1813–1837). Впервые опубликована в 1875 г.
[Закрыть], «Бесы»[33]33
«Бесы» (1871–1872) – роман Ф. М. Достоевского.
[Закрыть], «Аякс» Софокла. Затем моменты, когда узнаешь о каких-то неслыханных обычаях, о какой-то неизвестной религии, о новой науке, о расширении мира, об еще одной угрозе человечеству или, что бывает очень редко, о надежде для него. А еще места, куда наконец попадаешь, куда ты отчаянно стремился. Все это упоминается лишь в двух-трех словах, главное – это имена, важен день, когда в твою жизнь вошло что-то новое, новые люди, или исчезнувшее объявилось опять как что-то новое.
Одно можно сказать с уверенностью про эти записные книжки – они никого не касаются. Для посторонних они непонятны, а если и понятны, то из-за однообразной манеры записей – воплощение скуки.
Как только появляется нечто большее, как только начинаешь о чем-то рассуждать, твои записи перерастают рамки календаря-памятки и превращаются в дневник.
В дневнике человек разговаривает с самим собой. Кто этого не умеет, кто видит перед собой слушателей, пусть и будущих, пусть и после его смерти, тот фальшивит. О таких фальшивых дневниках мы здесь речь вести не будем. Они тоже могут иметь свою ценность. Среди них попадаются невероятно увлекательные, но интересна мера фальши: увлекательность зависит от дарования пишущего. Однако я хотел бы сейчас сосредоточить внимание на подлинном дневнике, вещи гораздо более редкой и более важной. Какой смысл имеет он для пишущего, точнее, для того, кто и так пишет очень много, ибо писать – его профессия?
Вот что поражает: вести дневник удается не всегда, бывают длительные периоды, когда его остерегаешься, как чего-то опасного, почти как порока. Человек не всегда бывает недоволен собой и другими. Случаются времена восторженности и несомненного личного счастья. В жизни человека, для которого тяга к познанию стала второй натурой, они слишком частыми быть не могут. И тем более ценными они будут ему казаться. Он будет опасаться к ним прикоснуться. Поскольку они будут поддерживать его, как и всякого другого человека, в течение гораздо более длительного остатка его жизни, то они ему нужны, и потому он их не трогает, он оставляет вокруг них ауру непостижимого чуда. Лишь их утрата может заставить его образумиться. Как он их потерял? Что их разрушило? В этот миг у него снова начинается разговор с самим собой.
В другие времена может быть так, что целый день заполнен основной работой. Она продвигается хорошо и уверенно, она достигла такого уровня, когда изначальный замысел и сомнения остались позади, она так полно совпадает с тем, что, собственно, есть ты сам, что вне ее не происходит ничего, не остается ничего. Существуют хорошие, даже значительные писатели, которые в таком состоянии способны писать книгу за книгой. Самим себе им сказать нечего, за них все говорит их книга. Им удается без остатка раствориться в своих персонажах. Нередко они вырабатывают некий поверхностный слой, текстуру, настолько богатую и своеобразную, что она непрерывно занимает их внимание и чувственную память. Это настоящие литературные мастеровые, счастливцы среди писателей. Естественно, они стараются сократить интервал между одним и другим произведением до минимума. Своеобразие выработанной ими поверхности снова манит их к работе. Переменчивость и переливчатость мира, особую подвижность внешней жизни отразили они на этой поверхности и суетятся на ней так, как другие суетятся в действительном мире.
Я вовсе не из тех, кто относится к этому роду писателей с иронией или тем паче с насмешкой. Их надо оценивать, исходя из необходимости их своеобразия: к ним принадлежит немалая часть лучших авторов мировой литературы. Бывают минуты, когда хочется жить в таком мире, где писатели другого рода были бы просто немыслимы. Но от этих писателей настоящих дневников ждать не приходится. Они усомнятся в том, что таковые вообще возможны. Их уверенность и успех должны внушать им презрение к другим, менее ровным натурам. Достаточно, однако, назвать имя Кафки[34]34
Достаточно назвать имя Кафки… – Имеются в виду «Дневники» немецкоязычного писателя Франца Кафки (1883–1924), изучением творчества которого много занимался Канетти. В 1968 г. в журнале «Нойе Рундшау» им было опубликовано обширное эссе «Другой процесс. Письма Кафки к Фелиции».
[Закрыть], с чьей сущностью и своеобразием не посмел бы тягаться никто, даже лучший из нынешних самоуверенных, чтобы уличить их в чрезмерной нетерпимости. Может быть, их заставило бы задуматься, что наиважнейшее из оставленного таким человеком, как Павезе, – это его дневники[35]35
…наиважнейшее из оставленного таким человеком, как Павезе, – это его дневники. – Имеются в виду опубликованные посмертно дневники покончившего самоубийством итальянского писателя Чезаре Павезе (1908–1950) «Ремесло жизни. Дневник 1935–1950» (1952).
[Закрыть], то непреходящее, что он создал, содержится именно здесь, а не в его художественных произведениях.
Итак, в дневнике человек говорит с самим собой. Но что это значит? Разве ты фактически делишься на две фигуры, которые ведут между собой настоящий диалог? И кто эти двое? Почему их только двое? Разве их не может, не должно быть больше? Разве не имел бы ценности дневник, где человек все время обращался бы ко многим, а не к одному себе?
Первое преимущество фиктивного «я», к которому обращаешься, состоит в том, что оно тебя действительно слушает. Оно всегда на месте и не отворачивается. Оно не притворяется, будто ему интересно, оно невежливо. Не перебивает тебя, дает выговориться. Оно не только любопытно, но и терпеливо. Я могу здесь говорить лишь на основании собственного опыта, но я не перестаю удивляться, что есть некто, слушающий меня так же терпеливо, как я слушаю других. Но не надо воображать, будто этот слушатель облегчает тебе дело. Поскольку у него есть то достоинство, что он тебя понимает, перед ним невозможно лицемерить. Он не только терпеливый, но и злой. Он тебе ничего не спустит, потому что видит тебя насквозь. Замечает мельчайшие подробности, и едва начнешь лукавить, как он мигом ткнет тебя в них носом. За всю мою как-никак шестидесятилетнюю жизнь я никогда не встречал более опасного собеседника, а ведь я знавал таких, каких никто бы не постыдился. Пожалуй, его особое преимущество в том, что он не защищает собственные интересы. Ему свойственны реакции самостоятельной личности, но у него нет ее мотивов. Он не защищает никакой теории, не гордится никакими открытиями. Его чутье к властолюбивым или тщеславным побуждениям просто страшно. Разумеется, весьма кстати, что он знает тебя вдоль и поперек.
Если он находит у меня неточность, недостаток понимания, слабость, медлительность, то налетает молнией. Когда я говорю: «Да ведь это неважно, я тревожусь о чем-то более значительном, чем я сам, о состоянии мира, моя задача предостеречь, вот и все», он смеется мне в лицо.
«Все-таки, все-таки», – говорит он тогда; я позволю себе процитировать его здесь дословно: «Ошибка благодетелей – это подлое словосочетание меня сразу же разозлило – в том, что из-за ответственности, которую они чувствуют, из-за блага, которого, возможно, действительно желают, они забывают выработать инструмент, способный помочь им изучить людей и постичь их во всех подробностях, грубых и тонких. Ибо от этих самых людей проистекает все: и самое страшное, и самое обыденное, и самое опасное, что происходит. Нельзя надеяться на дальнейшее существование человечества, если не знать досконально людей, из которых оно состоит. Как же ты смеешь говорить о себе такую ложь лишь потому, что она тебе удобна?»
Бывали случаи, когда я предвидел нечто страшное, – я имею в виду мировые события, и они происходили именно так. Лучше всего для меня было бы это записать. Я бы мог потом это себе доказать, это было бы зафиксировано задолго до того, как сбылось. Быть может, я хотел таким образом отхватить себе право на дальнейшие предсказания. Я привожу здесь уничтожающий ответ на это моего партнера, он важнее, чем тщеславное удовлетворение от сбывшегося предсказания:
«Предостерегающий пророк, чье прорицание сбывается, – это фигура, чтимая не по праву. Он слишком облегчил себе дело, дав ужасам, которых страшится, взять над собою власть еще до того, как они наступили. Он думает, что предостерегает, но по сравнению со страстной силой его предвидения это предостережение ничего не стоит. За его предвидение им восхищаются, но нет ничего легче. Чем ужаснее его предвидение, тем скорее оно становится правдой. Восхищаться надо было бы пророком, предсказавшим что-то хорошее. Ибо оно, и только оно, неправдоподобно».
Совесть, добрая, старая совесть – слышу я торжествующий голос какого-то читателя, – он беседует со своей совестью! Хвастается тем, что ведет дневник, чтобы побеседовать со своей совестью! Но это не совсем так. Тот, другой, с кем ты говоришь, меняет роли. Верно, что он может выступать в роли совести, и я ему за это очень признателен, потому что остальные тебе ее слишком уж облегчают, кажется, будто люди с каким-то сладострастием дают себя уговорить. Однако не всегда совесть – он. Иногда это я сам, и я говорю с ним в отчаянии, обличая себя с горячностью, какой никому бы не пожелал. Тогда он вдруг становится прозорливым утешителем, который точно определяет, в чем я захожу слишком далеко. Он видит, что как писатель я часто приписываю себе злобные выпады и скверные убеждения, а они совсем не мои. Он напоминает мне, что в конечном счете важно то, что человек делает, потому что думать каждый может что угодно. Насмешливо и весело срывает он маски зла, в которых ты предстаешь, и показывает тебе, что ты вовсе не такой уж «интересный». За эту роль я ему, в сущности, благодарен еще больше.
У него еще много ролей, в конце концов было бы скучно разбирать все. Но одно теперь ясно: дневник, не имеющий такого последовательно диалогического характера, кажется мне ничего не стоящим, свой я не мог бы вести иначе, чем в форме такой беседы с самим собой.
Я не склонен думать, что настороженность этих двух фигур, порой охотящихся друг на друга, пустая игра. Надо помнить, что человек, не признающий внешних авторитетов веры, должен воздвигнуть внутри себя нечто им соответствующее, иначе он превратится в беспомощный хаос. То, что он позволяет собеседникам менять роли, позволяет играть, не значит, что он не принимает их всерьез. В этой игре он мог бы, если только ему это удастся, достичь под конец более тонкой моральной чувствительности, чем дают ему принятые в мире правила. Ведь последние мертвы для многих потому, что им никогда не разрешается играть, их неподвижность лишает их жизни.
Возможно, это важнейшая функция дневника. Было бы заблуждением считать ее единственной. Потому что в дневнике говоришь не только с самим собой, с другими говоришь тоже.
Все разговоры, которые в действительности никогда нельзя довести до конца, потому что они окончились бы потасовкой, все абсолютные, беспощадные, уничтожающие слова, которые ты нередко готов сказать другим, находят здесь свое выражение. Здесь они остаются в тайне, ибо если дневник не тайный, то это не дневник, и лучше бы люди, все время что-то читающие другим из своего дневника, писали письма или даже устраивали вечера с декламацией. […]
Чтобы сохранить настоящий дневник в тайне, недостаточно самых изощренных хитростей и мер предосторожности. Замкам доверять нельзя. Тайнопись лучше. Я пользуюсь видоизмененной стенографией, которую невозможно расшифровать, не посвящая этой работе неделю за неделей. Так я могу записывать все, что хочу, не вредя и не причиняя боли ни одному человеку, и, став наконец старым и умным, решить, уничтожу ли я дневник окончательно или спрячу в надежном месте, где его можно будет найти только случайно, в безопасном будущем.
Мне еще никогда не удавалось вести дневник во время путешествия в новую для меня страну. Меня так занимает множество незнакомых людей, с которыми мы объясняемся, не понимая друг друга, то ли знаками, то ли подобием слов, что я даже не смог бы взять в руки карандаш. Язык, в обычное время инструмент, которым, как тебе кажется, ты умеешь орудовать, вдруг опять становится диким и опасным. Ты поддаешься его соблазну, и отныне он тобою орудует. Неверие, доверие, двусмысленность, хвастовство, сила, угроза, отталкивание, досада, обман, нежность, гостеприимство, удивление – все это есть, и все воспринимается так непосредственно, будто раньше ты этого никогда не замечал. Слово, написанное об этом, лежит на бумаге как бездыханный труп. Я остерегаюсь сделаться убийцей среди подобного великолепия. Но стоит мне только снова оказаться дома, как я наверстываю каждый день. По памяти, иногда с трудом, воздаю дням то, что им причитается. Бывали путешествия, когда дневник задним числом отнимал у меня втрое больше времени, чем сами поездки.
Я полагаю, что, записывая путевые впечатления, скорее всего думаешь о читателях. Чувствуешь, что они могут быть, но при этом не фальшивишь. Вспоминаются рассказы других людей, ставшие соблазном к путешествию. Приятно выразить благодарность собственным рассказом.
Вообще дневники других людей имеют большое значение. Какой писатель не читал дневников, державших его в плену всю жизнь? Возможно, здесь как раз будет уместно кое-что об этом сказать.
Начать можно с того, что ты читал в детстве: дневники великих путешественников и первооткрывателей. Вначале тебя привлекает приключение само по себе, независимо от нравов и культур, связанных с чужеродными людьми. Самое неприятное для ребенка – это пустота, которой он не знает, его самого никогда в полном одиночестве не оставляют, он всегда окружен людьми. И вот он пускается в путешествие на Северный или Южный полюс или в длительное плавание по морям в маленькой шлюпке. Самое волнующее – пустота вокруг, опаснее всего она ночью, когда он пугается самого себя. В такой дали и пустоте ему неизгладимо врезается в память чередование дня и ночи, ведь у путешествия, которое все время продолжается, есть цель, до ее достижения или до катастрофы оно не прерывается, и я думаю, что ребенок в страхе следит за календарем.
Затем следуют путешествия в неведомо кем населенные края: в Африку и девственный лес, и вот первое проявление чужих обычаев – нападение людоедов. Ужасы подстегивают его любопытство, однако он уже хочет узнать что-то и о других, незнакомых людях. Шаг за шагом прокладывает он себе путь через девственный лес, точно отмечая число ежедневно пройденных миль. Все формы, которые позднее обретут кем-то совершенные новые открытия, здесь уже наглядно представлены. Приключение за приключением, но расписанные по дням, затем ужасное ожидание пропавших, попытки спасти их или их мучительный конец. Не думаю, что позднее, когда он станет взрослым, найдутся дневники, которые будут столь же много для него значить.
Но тяга в даль остается, и интерес к ней неутолим. Поэтому человек ненасытно копошится в минувших эпохах и чужих культурах. Застылость собственного существования усиливается, а это занятие – самое неисчерпаемое средство для метаморфозы. Впечатления, которых жаждешь и которые дома тебе заказаны, вдруг оказываются чем-то самым обычным там, куда тебя занесло чтение. Ситуация, в какой ты находишься дома, определена до мелочей, все, что ни делаешь, распределено по часам, они ежедневно одни и те же; люди, которых знаешь, знакомы между собой; тебя обсуждают и охраняют, со всех сторон – уши и знакомые глаза. Оттого что все сковано и дальше становится еще скованней, образуется гигантский резервуар неутоленной жажды перемен, и лишь известия с настоящей чужбины способны привести его в движение.








