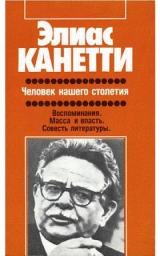
Текст книги "Человек нашего столетия"
Автор книги: Элиас Канетти
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 38 страниц)
В это время, когда я уже стал мыслить самостоятельно, мое восхищение матерью не знало границ. Я сравнивал ее с учителями из нашей кантональной школы, среди которых многие пользовались моим признанием и даже уважением. Только Ойгену Мюллеру был свойствен ее огонь, соединенный с серьезностью, только он, когда говорил, так же неотрывно смотрел перед собой широко раскрытыми глазами на предмет, во власти которого он находился. Я рассказывал ей все, что узнавал на его уроках; это занимало ее, так как о греках она знала только из классических драм. Греческой истории она училась у меня, ничуть не стесняясь своих расспросов. На какое-то время мы менялись ролями. Ведь сама она историю не читала, потому что там слишком много места занимали войны, что не мешало ей, однако, расспрашивать меня, едва сев за стол, о Солоне[155]155
Солон (ок. 638 – ок. 559 до н. э.) – афинский политический деятель и писатель.
[Закрыть] и Фемистокле[156]156
Фемистокл (ок. 525 – ок. 460 до н. э.) – афинский полководец, в период греко-персидских войн с 493/492 г. архонт и стратег.
[Закрыть]. Особенно ей нравился Солон за то, что он не захотел венца тирана и отказался от власти. Она удивлялась тому, что о нем нет драм, во всяком случае, она не знала ни одной, где бы о нем говорилось. Однако она считала несправедливым, что у греков почти нет сведений о матерях таких замечательных мужей. Она, не смущаясь, считала своим идеалом мать братьев Гракхов[157]157
Она… считала своим идеалом мать братьев Гракхов. – Воспитанием своим и высокими стремлениями римские народные трибуны братья Гракхи – Тиберий (162–133 до н. э.) и Гай (153–121 до н. э.) – обязаны своей матери Корнелии, дочери римского полководца Сципиона Африканского, приобщившей сыновей к кружку Сципионов – центру греческой образованности и передовой политической мысли.
[Закрыть].
Я без труда могу перечислить все, что ее интересовало, поскольку, что бы то ни было, это как-то отражалось и на мне. Только мне она могла рассказать все до мельчайших подробностей. Только я понимал серьезность ее строгих оценок, потому что знал, какой порыв их вдохновил. Многое она гневно осуждала, но всегда указывая, что следует этому противопоставить, и приводила резкие, но убедительные доводы. Хотя время совместных чтений миновало и драмы, а также их великие исполнители перестали быть основным содержанием мира, им на смену пришло другое, не меньшее «богатство»: чудовищность происходящего, его последствия и истоки. Она была недоверчива по натуре, и у Стриндберга, умнейшего, по ее мнению, человека, находила оправдание своей недоверчивости, с которой свыклась и без которой не могла теперь обойтись. Она ловила себя на том, что заходила подчас слишком далеко, открывая мне вещи, становившиеся источником моего собственного, еще неокрепшего недоверия. Испугавшись и стараясь исправить положение, она рассказывала о каком-нибудь особенно восхитившем ее деянии. Обычно это было нечто связанное с неимоверными трудностями, но великодушие еще не перевелось на свете. Во время таких попыток она была мне ближе всего. Она полагала, что я не понимаю причину перемены тональности. Но во мне уже было многое от нее, и я упражнялся в своей проницательности. Прикинувшись наивным, я внимал благородной истории, которая всегда мне нравилась. Однако я знал, почему она как раз теперь направляла разговор в такое русло, но держал это знание при себе. Так и утаивали мы кое-что друг от друга, но, поскольку было это одно и то же, выходило, что и тайна наша – одна и та же. Неудивительно, что в такие минуты, когда я молча чувствовал себя ей ровней, она была мне особенно дорога. Она была убеждена, что ей вновь удалось скрыть свое недоверие, мне открывалось и то и другое: ее беспощадная резкость и ее великодушие. Что такое «широта», я тогда еще не знал, но я ее «ощущал», я понимал, что можно вместить в себя так много разного и противоречивого, что сосуществует якобы необъединяемое, что можно это чувствовать, не исходя при этом страхом, что это следует называть и учитывать, подлинное величие человеческой натуры – это было то истинное, чему я у нее научился.
Тяжелораненые
Она часто ходила на концерты. Музыка по-прежнему много значила в ее жизни, хотя сама она после смерти отца редко садилась за рояль, но скорее всего мать стала строже в своих вкусах, получив возможность чаще слушать виртуозов-исполнителей, которые жили тогда в Цюрихе. Она, не пропустившая ни одного концерта Бузони[158]158
Бузони Ферручо Бенвенуто (1866–1924) – итальянский пианист, дирижер и композитор, концертировал во многих странах. В годы первой мировой войны жил в Цюрихе.
[Закрыть], пришла в некоторое замешательство, узнав, что он живет недалеко от нас. Не сразу поверив в то, что я встречал его на улице, она перестала сомневаться, только услышав от других, что это действительно был он. Отчитав меня за то, что по примеру других мальчишек я называю его «Джод-до-иди-к-папе» вместо Бузони, она пообещала взять меня на один из его концертов при условии, что я перестану дразнить его этим прозвищем. Он ведь самый великий из всех мастеров игры на фортепьяно, которых ей когда-либо доводилось слушать. Просто возмутительно, что после него кто-то еще смеет называть себя пианистом! Она присутствовала и на всех выступлениях квартета Шэше[159]159
Квартет Шэше – Йенский струнный квартет, концертировал в 1911–1914 гг. под руководством Александра Шэше (1887—?).
[Закрыть], названного так по первой скрипке, они приводили ее в непонятное раздражение, причина которого выяснилась, лишь когда она однажды с досадой воскликнула: «Вот таким скрипачом всегда хотел стать твой отец! Он мечтал научиться играть так, чтобы можно было выступать в квартете. На мой вопрос:,Но почему же не в сольном концерте?» – он, покачав головой, ответил, что никогда не сможет так хорошо играть, ибо знает меру своей одаренности. Вот членом квартета или первой скрипкой в оркестре он смог бы, наверное, стать, не помешай дед его занятиям. А дед был настоящим тираном, деспотом; он вырывал из рук сына скрипку и бил его, едва заслышав игру. А однажды в наказание велел старшему сыну связать и запереть его на всю ночь в подвале. Гнев ее распалился, и, чтобы смягчить впечатление, она печально добавила: «Вот каким скромным был твой отец!» Кончилось тем, что, заметив мое недоумение – причем тут «скромный», если дед избивал его? – и вместо того, чтобы объяснить его скромность тем, что выше концертмейстера он и не помышлял подняться, она насмешливо обронила: «Но ты-то весь в меня!» Мне это не понравилось, я терпеть не мог ее рассуждений о недостатке честолюбия у отца, как будто хорошим человеком он стал только потому, что у него не хватало честолюбия.
Исполнение «Страстей по Матфею»[160]160
«Страсти по Матфею» (1728–1729) – знаменитая оратория Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750).
[Закрыть] привело ее в такое состояние духа, которое запомнилось мне уже хотя бы потому, что несколько дней подряд мы не могли нормально разговаривать. Целую неделю у нее не было сил даже читать. Раскрыв книгу, она не различала ни строчки, поскольку внутри у нее звучал голос Илоны Дуриго[161]161
Дуриго Илона (1881–1943) – выдающаяся венгерская певица, непревзойденная исполнительница партии альта в сочинениях И. С. Баха.
[Закрыть]. Однажды ночью она в слезах вошла ко мне в спальню со словами: «С книгами все кончено, никогда больше я не смогу читать». Я принялся ее успокаивать, предложил побыть вместе с ней во время чтения: тогда она не будет слышать голоса. Ведь это происходит из-за того, что она там одна, и я, сидя рядом за столом, могу ведь что-нибудь сказать, и вмиг все голоса исчезнут. «Но я же хочу ее слушать! Как ты не понимаешь! Никого, кроме нее, я не хочу слушать!» Страстность этого порыва и испугала и восхитила меня, я замолчал и в последующие дни только изредка вопросительно поглядывал на нее, она понимающе отвечала со смесью радости и отчаяния: «Все еще слышу ее».
Я так же внимательно следил за ней, как и она за мной; при такой близости отношений приучаешься безошибочно угадывать все совпадающие с твоими движения души. И как бы ни подавляла порой меня ее страстность, фальшивую ноту я различил бы сразу. Право на столь бдительный надзор было завоевано в результате глубокого доверия, а не дерзких посягательств на ее свободу. Едва уловив чужое, незнакомое влияние, я, не колеблясь ни минуты, переходил в наступление. Одно время она посещала лекции Рудольфа Штайнера[162]162
Штайнер Рудольф (1861–1925) – немецкий философ и мистик, основоположник антропософии; увлекался натурфилософией Гёте, был сотрудником архива Гёте в Веймаре и издателем двадцатитомного собрания сочинений Гёте, воздействие которого сказалось на его собственных философских сочинениях. Во время первой мировой войны находился в Швейцарии, где развил бурную деятельность – читал лекции и руководил строительством антропософского «храма» Гетеанум.
[Закрыть]. Рассказывая о них, она так сильно менялась, словно передо мной был другой человек. Я не знал, кто обратил ее внимание на эти лекции, во всяком случае, не она сама, но, услышав однажды брошенное ею невзначай замечание о чем-то «гипнотическом» у Рудольфа Штайнера, тут же атаковал ее вопросами. Поскольку мне ничего не было известно о нем, свое мнение я мог составить только на основе ее наблюдений и вскоре понял, что он заворожил ее обилием цитат из Гёте.
А что здесь может быть для нее новым, спросил я, она же наверняка это уже давно знает, ведь сама говорила, что прочла всего Гёте. «Видишь ли, всего его никто не прочел», – призналась она, смутившись. «А из этих вещиц я ничего не могу припомнить». Ее неуверенность показалась мне странной, так как я привык к тому, что она помнила каждую строку своих любимых поэтов и была нетерпима к пробелам подобных знаний у других, называя их «пустомелями» и «путаниками», которые морочат голову людям вместо того, чтобы, не ленясь, во всем досконально разобраться. Ее ответ меня не убедил, и я продолжал допытываться: как она считает, надо ли и мне теперь в это верить. Ведь не можем же мы верить в разное! И если нескольких лекций Штайнера оказалось достаточно, чтобы она перешла на его сторону, потому что в нем есть нечто гипнотическое, то и я заставлю себя верить всему, что она говорит, чтобы ничто не могло встать между нами. Вероятно, это прозвучало как угроза, на самом же деле я немного лукавил: мне хотелось установить меру влияния на нее этой новой, совершенно чуждой мне силы, о которой я ранее ничего не слышал и не читал, так внезапно ворвалась она в нашу жизнь; мне почудилось, что теперь из-за нее все между нами изменится. Больше всего я боялся обнаружить ее равнодушие к тому, смогу ли я перейти в новую веру или нет, ведь это означало бы, что я уже совершенно ей безразличен. Но мои опасения оказались напрасными, потому что ни о какой моей «сопричастности» она и слушать не захотела, возразив немного раздраженно: «Ты еще мал. Не для тебя это. Не нужна тебе такая вера. Впредь и я не скажу о ней ни слова». У меня как раз набралось немного денег, чтобы купить ей очередной том Стриндберга, вместо чего я, не долго думая, приобрел какую-то книгу Рудольфа Штайнера и торжественно преподнес с лицемерными заверениями: «Это же тебя интересует, а запомнить все ты не можешь. Сама говоришь, что такое с наскока не понять, сначала нужно во всем хорошенько разобраться. Теперь, не торопясь, можешь его почитать и лучше подготовиться к лекциям».
Но подарок ей явно не понравился. И зачем я купил эту книгу, спрашивала она то и дело. Она ничуть не уверена, что хочет оставить ее у себя. Может быть, окажется, что это совсем не в ее духе. Она ведь ничего из его произведений не читала. Книги следует приобретать, если абсолютно уверен, что хочешь иметь их в своей библиотеке. Она опасалась, что теперь я сам примусь за чтение Штайнера, а это, по ее мнению, могло бы слишком рано склонить меня в пользу какого-то одного направления. Она остерегалась всего, что не было подкреплено личным опытом, и недоверчиво относилась к слишком поспешным обращениям в новую веру, смеясь над такими людьми: «И этот как травинка на ветру!» Она испытывала неловкость за то, что обмолвилась о «гипнозе», и уверяла, что имела в виду не себя, а других слушателей, показавшихся ей как бы загипнотизированными. Наверное, нам следует вернуться к этим вещам позднее, когда я созрею для более глубокого их понимания. В сущности, и для нее самым важным было то, что мы могли обсуждать между собой вещи без каких-либо их искажений и вывертов, не выдавая за сокровенное то, что еще не стало частью нашей души. Я понял, и не в первый раз, что она уступила моей ревности. У нее-де времени нет на эти лекции, да и начинаются они очень неудобно, она упускает возможность заняться другими, более доступными ее уму делами. Так принесла она в жертву мне Рудольфа Штайнера, о котором больше никогда не упоминала. Я не чувствовал ничего недостойного в этой победе, которую одержал над мыслителем, не опровергнув по причине полного незнания ни одного его тезиса. Я помешал утвердиться его идеям в ее голове, так как считал их чуждыми всему тому, о чем мы говорили друг с другом. Я добивался только одного: оттолкнуть их от нее.
Что же мне думать об этой ревности? Я не могу ее ни оправдать, ни осудить, я могу ее только описать. Она так рано стала частью моего естества, что было бы прегрешением против истины не упомянуть о ней. Она всегда давала о себе знать, едва кто-нибудь становился мне дорог, и лишь немногим не пришлось мучиться от этого. Но особенно пышным цветом она расцвела в моих отношениях с матерью. Она придавала мне сил в противоборстве с тем, что во всех отношениях превосходило меня: по силе, опыту, знаниям, да и по степени самоотверженности тоже. Я не замечал, насколько своекорыстна моя борьба, а скажи кто-нибудь тогда, что из-за меня мать несчастна, – я бы удивился. Кто же, как не она сама, дал мне право на себя. Одиночество накрепко привязало ее ко мне, потому что вокруг не было равных ей. Повстречай она тогда такого человека, как Бузони, – ничто бы меня не спасло. Я был предан ей безраздельно в ответ на ту щедрость, с которой она раскрывалась мне, делилась со мной всеми важными для себя мыслями, а если что и утаивала из-за моего возраста, то это была лишь мнимая сдержанность. Упорно замалчивала она все эротическое; табу, наложенное на балконе нашей венской квартиры, ничуть не утеряло силу воздействия на меня, словно сам господь объявил его на горе Синай. Не занимало меня это, потому и не расспрашивал, она же, пылко и умно открывая предо мной все тайны мира, от одной оберегала, той, что смутила бы мой дух. Не ведая о том, как нужна людям такая любовь, я и представить не мог, в чем она себе отказывала. Ей было тогда тридцать два года, и она жила одна, а я, исходя из тогдашних своих представлений о жизни, считал это вполне естественным. Порой, когда мы сердили, разочаровывали или приводили ее в растерянность, она говорила, что жертвует своей жизнью, и если мы того не стоим, то она отдаст нас в сильные руки мужчины, который уж покажет, как себя вести. Но я не понимал, да мне просто в голову не приходило, что она имела в виду свое женское одиночество. А жертву я видел в том, что она тратит столько времени на нас вместо того, чтобы читать и читать не отрываясь.
За это табу, которое вызывает подчас опасную ответную реакцию, я благодарен ей по сей день. Не скажу, что оно уберегло мою невинность, ибо в своей ревности я был далеко не безгрешен. Но оно сохранило мне свежесть и наивность восприятия всего, что я хотел узнать; я учился самыми разными способами, никогда, однако, не принуждая или обременяя себя, ибо ничто не отвлекало меня, тайно не занимало. Всему, что западало в душу, пускало там глубокие корни, места хватало; у меня никогда не возникало подозрений, будто от меня что-то прячут, напротив, казалось, что все передо мной, только руку протяни. Едва проникнув в меня, оно соотносилось с другим, сплеталось с ним, разрасталось, создавало свою ауру, призывало новое. Свежесть в том и заключалась, что все обретало новую форму, а не просто суммировалось. Наивность состояла, пожалуй, в том, что ничто не забывалось, в отсутствии сна.
Другое благодеяние матери во время нашей жизни в Цюрихе имело еще большие последствия: она избавила меня от практичности. При мне никогда не говорили о чем-то, что делалось ради практической пользы. Ни одно дело не затевалось только из-за «выгоды». Все, что предлагалось моему выбору, было равноправно. Я двигался сразу по сотне дорог, избавленный от советов, что какая-то из них удобнее, щедрее и доходнее. Самое главное заключалось в самих вещах, а не в пользе от них. Надо быть точным и основательным, уметь честно, не лукавя, отстаивать свое мнение. Но основательность относилась к изучению самой вещи, а не к извлечению выгоды из нее. Редко говорилось о том, чем станем заниматься, когда вырастем. Все, связанное с профессиями, отступало в тень, открывая возможность выбора любой из них. Успех состоял не в личном продвижении; успех в том, что всем хорошо, а иначе это уже нечто другое. По сей день для меня остается загадкой, как женщина ее происхождения, оценившая, что значит авторитет ее семьи в купеческой среде, и открыто гордившаяся этим, смогла добиться такой свободы и широты взглядов, такого бескорыстия. Думаю, что только потрясения войны и сострадание всем потерявшим на ней своих близких помогли ей преступить свои пределы и стать самим великодушием ко всему думающему, чувствующему и страдающему, причем на первом месте стояло восхищение светоносным, доступным каждому даром мышления.
Лишь однажды я видел, как она потеряла контроль над собой, это произвело на меня сильное впечатление: она, обычно сдержанная, скрывавшая от людей свои чувства, вдруг расплакалась при мне на улице. Мы прогуливались по набережной Лиммата, я хотел показать ей кое-что в витрине у Рашера. Неожиданно впереди появилась группа французских офицеров в яркой униформе. Часть из них с трудом передвигалась, остальные приноравливались к их шагу. Мы задержались, давая им возможность не спеша обогнать нас. «Это – тяжелораненые, – сказала мать. – Они на отдыхе в Швейцарии. Их обменивают на немцев». И вот уже с другой стороны показалась группа немцев, некоторые тоже на костылях, другие – замедлив шаг. Помню, как я похолодел от ужаса. Что сейчас будет? Вдруг они набросятся друг на друга. В своем замешательстве мы не успели отойти в сторону и оказались зажатыми между двумя группами в самой середине. Дело происходило в галерее, места было достаточно, однако мы почти вплотную увидели их лица, когда они, еле передвигаясь, шли друг мимо друга. Вопреки моим ожиданиям ни одно не искажала гримаса ненависти или ярости. Они разглядывали друг друга спокойно и приветливо, словно ничего и не было, некоторые даже брали под козырек. Двигались они очень медленно, и мне показалось, прошла вечность, пока они миновали друг друга. Один из французов еще раз обернулся, поднял костыль и, размахивая им, крикнул вдогонку немцам: «Salut!» Услышав это, какой-то немец тоже поднял свой костыль, взмахнул им и ответил на приветствие по-французски: «Salut!» Глядя со стороны, можно было подумать, что костыли поднимали, угрожая друг другу, на самом деле это было не так: на прощание они показали, что осталось им одно и то же – костыли. Мать поднялась на тротуар и встала у витрины спиной ко мне. Увидев, что она вздрагивает, я подошел поближе и осторожно заглянул ей в лицо – она плакала. Мы сделали вид, что рассматриваем витрину, я не проронил ни слова: когда она успокоилась, мы молча пошли домой. Позже мы никогда не говорили об этой встрече.
Келлер Готфрид (1814–1890) – классик швейцарской литературы.
[Закрыть]
Увлечение литературой сблизило меня с Вальтером Врешнером из параллельного класса. Он был сыном профессора психологии из Бреслау. Выражаясь всегда «образованно», он и в беседах со мной избегал диалекта. Наша дружба началась с разговора о книгах. Однако в своих пристрастиях мы отличались друг от друга как небо от земли: его интересовали только самые современные авторы, те, кто в данный момент занимал умы, а таковым в ту пору слыл Ведекинд[164]164
Ведекинд Франк (см. коммент. к с. 42) – неоднократно приезжал в Цюрих на гастроли со своей женой, драматической актрисой Тили Ведекинд (1886–1970). В пьесе «Дух земли» он исполнял роль доктора Шена, Тили Ведекинд выступала в роли Лулу.
[Закрыть].
Ведекинд иногда приезжал в Цюрих и выступал в «Шаушпиль-хаузе» в «Духе земли». Вокруг его имени кипели яростные споры, возникали партии «за» и «против»; та, что «против», была многочисленнее, зато «за» – интереснее. За отсутствием личных впечатлений я не мог судить о нем самостоятельно, а на точность характеристики из, правда, красочного рассказа видевшей его в спектакле матери (особенно подробно описывалась сцена с бичом) никак нельзя было положиться. Она ожидала нечто в духе Стриндберга и, не отрицая полностью их сходства, считала все же, что Ведекинд похож и на проповедника, и на бульварного журналиста сразу. Поднимая шум, он подогревает интерес к своей персоне. Ему безразлично, чем привлечь к себе внимание, лишь бы заметили. Стриндберг, напротив, всегда строг и сдержан, хотя всех видит насквозь. В нем есть что-то от исцелителя, но не болезней и не тела. Она полагала, я пойму, что имеется в виду, когда позднее сам прочту его. Во всяком случае, о Ведекинде у меня сложилось весьма смутное представление, но мне не хотелось забегать вперед, и, внимая предостережениям сведущего человека, я проявлял редкостное терпение и не подпал под его чары.
Врешнер, напротив, говорил о нем без умолку, даже сочинил драму a la Ведекинд и дал почитать. Стреляли в ней направо и налево, неожиданно, без видимых причин, а я не понимал – зачем? История показалась мне более странной, чем если бы она происходила на Луне. В это время я обошел все книжные магазины в поисках «Дэвида Копперфилда», который как награда должен был увенчать мое длившееся полтора года увлечение Диккенсом. Вместе со мной ходил и Врешнер. «Дэвид Копперфилд» нам нигде не попадался. Врешнер, которого такая старомодная литература ничуть не привлекала, подшучивал надо мной, утверждая, что если «Дэвидик Копперфилд», как он уменьшительно именовал его, пропал, то это плохой признак, который означает, что он никому не нужен. «Только тебе», – добавлял он иронически.
В конце концов роман я купил, но на немецком и в издании «Реклам»[165]165
Реклам («Reclam») – крупное лейпцигское издательство, специализирующееся на издании книг дешевого карманного формата.
[Закрыть], а Врешнеру заявил, что Ведекинда (которого знал только в его интерпретации) нахожу глупым.
Однако эта напряженность в наших отношениях была приятна; он внимательно выслушивал то, что я рассказывал о своих книгах, так он узнал во всех подробностях содержание «Копперфилда»; я же в свою очередь был в курсе всех престраннейших событий, происходивших в пьесах Ведекинда. Он не упрекал меня за то, что я всякий раз повторял: «Это невероятно! Этого не может быть». Мое удивление даже доставляло ему удовольствие. Поразительно, однако, что сегодня я не могу припомнить ничего из тех диковинных вещей, которыми он так изумлял меня. Не оставили они во мне следа, словно и не было их вовсе; я не мог соотнести их с чем-нибудь внутри себя, поэтому и считал ерундой.
Но вот однажды высокомерие каждого из нас слилось воедино, и мы как партия двоих противопоставили себя массе. В июне 1919 года отмечался столетний юбилей Готфрида Келлера. Вся наша школа собиралась по этому поводу в кафедральном соборе. Врешнер и я спускались к соборной площади по улице Рэми. О Готфриде Келлере мы ничего не слышали. Родился сто лет назад, писательствовал в Цюрихе – вот и все, что нам было известно. Удивительно, почему торжества решили провести в кафедральном соборе. Никогда такого не бывало. Дома я попытался разузнать о нем, но напрасно: мать и названий-то его книг не слышала. Врешнер тоже ничего не выяснил и лишь обронил: «Он же швейцарец».
У нас было задорное настроение, потому что мы чувствовали свою непричастность, нас ведь интересовала только литература большого мира: меня – английская, его – немецкая. Во время войны мы считали себя чем-то вроде врагов. Я твердо отстаивал 14 пунктов Вильсона[166]166
14 пунктов Вильсона – программа демократического урегулирования разногласий стран-участниц первой мировой войны, сформулированная американским президентом Томасом Вудро Вильсоном (1856–1924). За разработку этой программы Т. В. Вильсон был удостоен Нобелевской премии мира.
[Закрыть], он же мечтал о победе немцев. Поражение стран Центральной Европы оттолкнуло меня от победителей, уже тогда я начал испытывать неприязнь к ним, а узнав, что с немцами поступили не так, как заверял Вильсон, принял их сторону.
Итак, в тот момент между нами стоял только Ведекинд, но, несмотря на то что мне он был совершенно чужд, слава его ни на минуту не казалась мне незаслуженной. Кафедральный собор заполнился до отказа. Отзвучала музыка, и настало время для большой речи. Не помню уже, кто ее произносил, по всей вероятности, один из профессоров нашей школы, но у нас в классе не преподававший. Мне запомнилось только, как стремительно взвинчивал он оценку творчества Готфрида Келлера. Врешнер и я украдкой обменивались ироническими взглядами. Мы мнили себя знатоками поэзии, и если не знали какого-нибудь поэта, то, следовательно, таковым он и не был. А докладчик продолжал превозносить Келлера; но, когда он заговорил о нем так, как я привык слышать только о Шекспире, Гёте, Викторе Гюго, о Диккенсе, Толстом и Стриндберге, меня охватил неизъяснимый ужас, словно попирали самое святое на земле – славу поэта. Я так вознегодовал, что хотел было громко высказать свой протест. Но почувствовал вокруг себя благоговейный трепет массы, вызванный скорее всего церковной атмосферой, так как отлично понимал, что многим моим товарищам Готфрид Келлер так же безразличен, как и вообще все поэты, особенно те, которые изучались в школе. Благоговение ощущалось в почтительном молчании, с которым все не шелохнувшись внимали происходящему, моя же робость, а быть может, и воспитание не позволяли буянить в церкви; гнев улегся и перерос в страстное желание дать обет не менее торжественный, чем вызвавшие его обстоятельства. Выйдя из церкви, я тотчас и весьма серьезно обратился к Врешнеру, который уже готов был свести все к привычным насмешкам: «Мы должны поклясться, мы оба должны поклясться, что никогда не позволим себе опуститься до „местных знаменитостей“». Он заметил, что мне не до шуток, и дал вслед за мной клятву, хотя сомневаюсь, что от чистого сердца, потому что считал Диккенса, которого не читал так же, как и я Келлера, моей «местной знаменитостью».
Возможно, что в этой речи действительно было много пустых фраз, это я уже тогда угадывал безошибочно, но все же я был потрясен до самого основания своих наивных взглядов тем, что на такой высокий пьедестал возносили писателя, о котором не слышала даже моя мать. Мой рассказ озадачил ее, и она заключила: «Не знаю, право. Надо мне, наконец, почитать что-нибудь из него».
Зайдя вскоре после этого в читательский кружок Хоттинге-на, я, слегка перепутав название, спросил, правда в последнюю очередь, «Людей из Зельдвилы». Выдававшая книги девушка улыбнулась, а пришедший за своим заказом господин поправил меня как недоучку какого-нибудь, не хватало еще, чтобы он спросил: «А читать-то ты умеешь?» Я устыдился и впредь в отношении Келлера всегда проявлял сдержанность. Но тогда я и представить себе не мог, с каким восторгом прочту однажды «Зеленого Генриха», а когда в Вене мною, студентом, целиком и полностью завладел Гоголь, я только одну-единственную новеллу, «Трех праведных гребенщиков»[167]167
«Три праведных гребенщика» – одна из новелл сборника «Люди из Зельдвилы».
[Закрыть], из всей известной мне немецкой литературы считал достойной встать с ним в один ряд. Если бы мне посчастливилось дожить до 2019 года и удостоиться чести произнести речь в кафедральном соборе по случаю двухсотлетнего юбилея Келлера, я воспел бы его в таких гимнах, которые пробили бы броню высокомерия даже четырнадцатилетних юнцов.
1977








