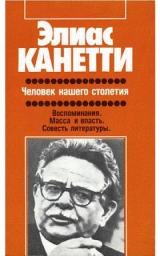
Текст книги "Человек нашего столетия"
Автор книги: Элиас Канетти
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 38 страниц)
В пьесе «Ограниченные сроком» (написана в 1952 г., издана в 1964-м) Канетти нарисовал сообщество, членам которого вешают при рождении на шею ладанку с запиской об отпущенном им сроке. И люди принимают это как непреложность. По земле ходят те, кому, как они заранее знают, суждено прожить двенадцать, тридцать, восемьдесят лет. Люди с большим сроком обращаются с остальными с высокомерной снисходительностью. С меньшим – тушуются и робеют. При этом о тайне срока знает только сам человек. Но когда ладанку усопшего вскрывает священнослужитель, каждый раз подтверждается, что смерть наступила в назначенное время. Взбунтовавшийся герой обнаруживает, что ладанка на самом деле пуста. Но и это не может раскрыть людям глаза. Внушение усвоено. Жить по-заведенному, как оказывается, удобнее.
Слепота не просто жалкое состояние. Это еще и прибежище. И результат насильственного воздействия, ослепления.
С юных лет Канетти не уставал рассматривать картины Брейгеля, и ныне висящие в Венском художественном музее. Его поражали на них маленькие фигурки суетящихся, бессильных перед близящейся гибелью людей. На краю гибели видит Канетти и современное человечество.
Чему же при таком мрачном взгляде на жизнь, при таком безжалостном ее изображении мог посвящать этот автор свои многочисленные публицистические выступления? О чем он писал свои статьи? К чему призывал? Что заносил и заносит в дневниковые записи? Он надеется. При этом – удивительное дело! – его публицистика парадоксальным образом богаче полнотой человеческого, снисходительней, добрей, мягче, чем его художественные произведения, в которых автору важно было обнажить пружины, правящие нашим сознанием.
В «Ослеплении», как говорилось, Канетти обнажил, например, жесткую зависимость подчиненности и агрессии. Он, как под лупой, показал происходящее при этом в душах. В мемуарах он и не думает говорить о шипах, оставленных в собственной его душе приказаниями матери. Одно ее качество он видит в слиянии с другими, одно объясняет и извиняет другое. Канетти больше не препарирует – эта задача выполнена его художественным творчеством: мать, обронил он однажды, должна узнать в Терезе собственную свою властность. Фигуры романа концентрируют в себе то, что – как ни отмахиваемся мы от подобных признаний – в той или иной степени содержится в каждом из нас.
Все, написанное Канетти, помимо романа, пьес и книги «Масса и власть», вряд ли нуждается в комментариях и объяснениях. Статьи, воспоминания, путевые заметки, дневниковые записи читатель воспримет с той же непосредственностью, с какой они были написаны.
Многие его записи и статьи посвящены коллегам-писателям. Часто о них говорится прежде всего как о людях, потому что именно как люди, личности, а не только своим творчеством они оставили след в душе автора.
Нашему читателю будет интересно прочесть о встречах Канетти с Бабелем в Берлине 20-х годов. Канетти пишет, что знал и любил тогда две его книги (на немецкий язык были уже переведены «Конармия» и «Одесские рассказы». «Конармия», несомненно, была близка нашему автору изображением революционной массы).
Канетти писал о Конфуции и о Толстом, о классиках Гёте и Георге Бюхнере и о знаменитых своих современниках – австрийских писателях Германе Брохе, Карле Краусе, Франце Кафке, Роберте Музиле. Во всех случаях он писал еще и о самом себе.
Из необозримых богатств культуры, созданной человечеством, далеко не все, полагал Канетти, может сказать что-то нам, детям атомного века. Выбираешь то, что жизненно необходимо.
Творчество Германа Броха, автора романа «Смерть Вергилия», близко Канетти пониманием роли писателя в современном мире. Об этой роли больше, чем о Брохе, говорится в речи, посвященной его пятидесятилетию. Писатель, полагал Канетти, – это слуга своего времени, его измученный пес, тыкающийся мордой во все его углы. Свободы от времени он не знает. Главная его обязанность – присутствовать. Присутствие и участие его, однако, особые: писатель противостоит времени. Преданный пес, он одновременно и непримиримый его противник.
Какой резон был переводить на русский язык статью Канетти, посвященную Карлу Краусу? Блестящий публицист и драматург, интеллектуальный властитель Вены конца 10-х – 20-х годов, Краус у нас едва известен. Не лучше ли было начать с перевода самого Крауса, чем давать очерк о его творчестве? Лучше, если очерк был бы таким, что помещают в справочниках и энциклопедиях. Канетти же пишет об оказавшем на него огромное влияние человеческом и творческом подвиге Крауса, не потерявшем и сейчас значение примера.
Люди, полагает Канетти, обладают удивительной способностью отодвигать опасность в будущее и не желают увидеть катастрофичность настоящего. Огромное влияние Крауса объяснялось, как полагает Канетти, не только его демократизмом и ненавистью к войне, но и как раз тем, что не давалось большинству, – его способностью ужаснуться, соединенной с «абсолютной ответственностью». Обладавший особым ораторским даром, Краус заставлял сотни людей, постоянно собиравшихся на его лекции, ужаснуться окружающей жизнью, с совершенной отчетливостью увидеть, но еще в большей степени услышать (этой слуховой восприимчивостью Канетти не в малой мере обязан ему же) их город, их собственную страну и мир. Краус, пишет Канетти, был «мастером ужаса» и мастером решительно реагировать на ужаснувшие его явления. В статье «Первая книга – „Ослепление“» Канетти вспоминает, как на следующее утро после расстрела демонстрации 1927 года, в минуту глубокой душевной подавленности он увидел расклеенные по городу плакаты, требовавшие, чтобы полицей-президент Вены, давший приказ о расстреле рабочих, подал в отставку. Плакат был подписан единственным человеком – Краусом. Один, от своего лица, он потребовал справедливости.
В статье о Краусе есть и еще одна тема, важная и мучительная для Канетти. Правда, решение этой темы у Канетти и у Крауса разное. Дело в том, что в интеллектуальной публике, собиравшейся слушать Крауса, он видит две стороны: это и просвещенное собрание, это и одержимая толпа, готовая к травле. Канетти настораживало, что все здесь заранее готовы согласиться с оратором, что симпатии и антипатии поделены, что говоривший обладал даром бесконтрольно увлекать слушателей. Масса не противостояла у Канетти интеллектуальной элите, как это обычно для тривиального восприятия. Элита – и это важнейший вывод Канетти – сама способна превратиться в массу. Синдромы массового сознания вездесущи. Опасность омассовления всеобща. Каждому полезно сказать себе, в какой мере зависим он от тех или иных расхожих идей и стандартов. Идеи не только служат интеллектуальному освоению жизни. Под их флагом, слепо их разделяя, люди сбиваются в кучки. В записях 1979 года Канетти говорил о дурной заразительности веры и убеждений, убеждений, как определял их Достоевский, «не выдуманных, а предварительно данных». Против этой-то широко практикуемой слепоты, против «массового сознания» протестовал писатель.
И «Ослепление» и «Масса и власть» не раз откликаются в статьях и «Заметках» Канетти. Порой в этом есть даже некоторая навязчивость.
Естественно было включить в русскую книгу Канетти статью о Толстом. Но сопоставление семейных отношений Толстого в последние годы жизни с пружинами борьбы между Терезой и Кином кажется невозможным. Пропорции неповторимого и общего в человеческой психике столь подвижны, что рискованно видеть всюду одни и те же законы, тем более когда речь идет о гении.
Другое дело, когда речь заходит о политике.
Статья «Гитлер по Шпееру» могла бы быть просто рецензией на книгу воспоминаний гитлеровского архитектора. Но для Канетти воспоминания Шпеера – важный материал, свидетельство, подтверждающее многие наблюдения, высказанные на страницах «Массы и власти». Личность Адольфа Гитлера целиком строится как раз по общим законам, претерпевшим гротескные и страшные превращения в его ненормальном, параноическом сознании. В воспоминаниях Шпеера подробно описана владевшая Гитлером мания строительства грандиозных зданий, способных вместить огромные массы народа. Такие постройки будто и созданы были для того, чтобы держать в сплоченном единстве людей, слушающих фюрера. Они непременно должны были превзойти монументальностью, площадью, высотой соответствующие постройки в других странах. Гитлер был захвачен идеей числа, ненасытным интересом к количеству (без миллионных чисел, замечает Канетти, он говорить вообще не умел). Еще до начала второй мировой войны, в как будто бы мирном деле – строительстве реализовалась идея захвата. В конечном итоге, заключает Канетти, суть сводилась к одному: к власти.
Предваряя сборник своих статей «Совесть литературы», большинство из которых вошли в нашу книгу, Канетти каялся перед читателем в странной их разнородности. Высоты духа – Конфуций, Гёте, Бюхнер, Толстой, выдающиеся писатели XX века – и тут же речь заходит о Гитлере и нравственном ослеплении, захватившем народ Германии, или о трагедии Хиросимы (статья «Дневник доктора Хасия из Хиросимы»). Но оправданий не надо: в книге все так, как в жизни. После атомного взрыва над Хиросимой и Нагасаки Канетти считает главнейшим долгом писателя заставить людей понять реальную близость грозящей им катастрофы. Выдвигая особые требования к реализму в условиях современности, Канетти пишет о новом характере будущего: оно «не такое, как раньше, оно надвигается быстрее, и мы сознательно его приближаем». От расщепленного лица будущего – спасения или атомного уничтожения – не может отвернуться ни один человек (статья «Реализм и новая действительность»). В угрозе атомной катастрофы проявилась высшая бесчеловечность власти: властитель может порешить всех на Земле, власть имущие – остаться без уничтоженных ими народов. (Именно такой образ будущего мелькает и в последнем романе швейцарца Фр. Дюрренматта «Правосудие».)
В поздних записях Канетти много печали. Как замечает автор, он стал скромнее: мечтает не о лучшем, а о том, чтобы по крайней мере все осталось как есть. «Хорошо спокойно жить на старом месте, хорошо побывать и на новых местах, о которых давно мечтал. Но лучше всего быть уверенным, что они не исчезнут, когда тебя не будет».
Но не таков Канетти, чтобы отчаяние и печаль стали главными в его творчестве. «Моя тоска полна гневом. Я из тех писателей, которые негодуют», – говорит он о себе в записи 1973 года. А в статье «Призвание поэта» он с глубоким сочувствием приводит слова неизвестного, произнесенные накануне второй мировой войны: «Будь я и в самом деле поэт, я должен был суметь помешать войне». Наивная вера! Но какая в ней сила! Как важно людям рассчитывать на себя и свое разумение, чтобы не массовое ослепление было нашей судьбой, а каждый влиял на движение жизни.
Н. Павлова
Совесть литературы[2]2
Публикуемые статьи, за исключением «Призвания поэта», содержатся в сборнике «Das Gewissen der Worte. Essays» (Miinchen: Hanser, 1975).
Статья «Призвание поэта» была опубликована год спустя в мюнхенском издательстве «Ханзер» отдельной книжкой и вошла во второе издание сборника статей «Das Gewissen der Worte» (1976).
Речь, посвященная Герману Броху, впервые была опубликована в сборнике избранных сочинений «Welt in Kopf» (Graz und Wien: Stiasny, 1962).
Доклад «Реализм и новая действительность», сделанный в 1965 г. в Австрийском обществе литературы, впервые опубликован в журнале «Die Neue Rundschau» (1966).
Речь «Пароксизмы слов», произнесенная в Баварской академии изящных искусств, впервые напечатана в «Die Neue Rundschau» (1969).
Речь, произнесенная в связи с присуждением премии Георга Бюхнера, впервые опубликована в 1973 г. в Ежегоднике Немецкой академии языка и литературы в Дармштадте.
Статьи «Гитлер по Шпееру», «Конфуций в своих „Беседах“», «Толстой, последний родоначальник» и «Дневник доктора Хасия из Хиросимы» впервые опубликованы в сборнике «Die gespaltene Zukunft. Aufsatze und Gesprache» (Miinchen: Hanser, 1972).
Эссе «Карл Краус, школа сопротивления» и «Диалог с жестоким партнером» впервые увидели свет в «Macht und Uberleben. Drei Essays» (Berlin: Literaturisches Colloquium, 1972).
[Закрыть]
Герман Брох[3]3
Брох Герман (1886–1951) – австрийский писатель. В романах «Лунатики» (1931–1932), «Смерть Вергилия» (1945), «Искуситель» (1953) показал распад ценностей в современном ему мире. Был связан с Канетти узами дружбы.
[Закрыть]
Речь по случаю пятидесятилетия
Вена, ноябрь 1936 г.
Есть прекрасный смысл в том, чтобы, пользуясь пятидесятилетием человека, обратиться к нему во всеуслышанье, чуть ли не силой вырвать его из плотного переплетения жизненных связей и поставить на возвышении, видного всем, со всех сторон, да так, будто он совсем одинок, будто приговорен к каменному, неминуемому одиночеству, хотя истинное, тайное одиночество его жизни, при всей его кротости и смирении, конечно, и без того причиняет ему достаточно мук. Кажется, будто этим обращением мы говорим ему: не страшись, ты уже довольно страшился за нас. Все мы должны умереть, но еще не ясно, должен ли умереть и ты. Быть может, именно твоим словам суждено представлять нас перед будущими поколениями. Ты служил нам верой и правдой. Время тебя не отпускает.
Чтобы придать этим словам, будто заклятию, полную силу, на них ставится печать пятидесятилетия. Ведь в нашем сознании прошлое делится на столетия, и рядом со столетиями ни чему уже нет места. Как только для человечества становится важным восстановить великую непрерывность своей памяти, оно заталкивает все, что кажется ему необыкновенным и значительным, в мешок столетий. Само слово, обозначающее этот отрезок времени, стало внушать нам почтение. Люди говорят о «секулярном», словно на таинственном языке жрецов. Магическая сила, присущая некогда, у первобытных народов, более скромным числам три, четыре, пять, семь, – перешла теперь к столетию. Даже то множество людей, что блуждает в прошлом с одной лишь целью – отыскать там истоки своего недовольства настоящим, люди, впитавшие в себя горечь всех известных столетий, охотно отодвигают будущее, о котором мечтают, на более счастливые столетия.
Несомненно, столетие дает достаточно широкий размах мечтаниям человека. Ибо если ему очень повезет, то он проживет этот срок[4]4
Ибо если ему очень повезет, то он проживет этот срок… – Долголетие было излюбленной темой размышлений Канетти, неоднократно высказывавшего желание достичь преклонного возраста. «Прежде чем думать, я хочу все прочувствовать в себе, – писал он, – а поэтому мне необходима долгая жизнь». Кроме того, долголетие представлялось писателю своеобразным протестом против всемогущества смерти. В интервью, данном Р. С. Бауру, Канетти следующим образом обосновывал свой интерес к долголетию: «Мне решительно недостаточно утешаться тем, что когда-нибудь что-то может быть иным, чем сейчас, что когда-нибудь, возможно, настанет вечная жизнь. Гораздо важнее, кажется мне, продлить и наполнить большим содержанием эту посюстороннюю жизнь, которой мы реально обладаем, и тем самым побороть смерть, которую мы не можем устранить окончательно. Этого мы должны достичь путем морального отрицания, а также биологическими средствами, делающими возможным сугубо физическое продление жизни. Нашей целью должно стать осуществление более полной, богатой и ответственной жизни».
[Закрыть], такое иногда бывает, хоть это и маловероятно. Тем немногим, кому это действительно удалось, сопутствует удивление и всевозможные россказни. В старых хрониках такие люди педантично перечисляются по именам и званиям. Им уделяют еще больше внимания, чем богачам. Страстное желание отвоевать себе именно такой кусок жизни, видимо, с введением десятичной системы и возвело столетие в такой высокий ранг.
Но Время, чествуя пятидесятилетнего, приветствует его на полпути. Оно предъявляет его следующим поколениям как достойного сохранения. Оно отчетливо выделяет его, возможно, против его воли, из редкой кучки тех, что существовали больше для Времени, чем для себя. Оно радуется тому пьедесталу, на который его поставило, и связывает с этим робкую надежду: быть может, он, не умеющий лгать, видел землю обетованную и, быть может, еще об этом заговорит, ему бы оно поверило.
На этой высоте стоит ныне Герман Брох, и, говоря напрямик, я позволю себе утверждать, что в его лице мы должны почтить одного из немногих писателей, представляющих наше время. Это утверждение имело бы больше веса, если бы я мог перечислить здесь многих, кто не является писателем, хотя и слывет таковым. Но мне кажется более важным, чем исполнение этой присвоенной себе обязанности палача, найти у писателя такие свойства, которые должны очень резко столкнуться для того, чтобы его можно было считать представителем своего времени. Если добросовестно заняться таким исследованием, откроется отнюдь не уютная и еще менее гармоническая картина.
То сильное, полное ужаса напряжение, в котором мы живем и от которого не смогла нас избавить ни одна из вожделенных бурь, воцарилось во всех сферах, даже в наиболее свободной и чистой сфере удивления. Да, наше время, если мы пожелаем очень коротко его охарактеризовать, можно определить как время, когда люди способны удивляться одновременно прямо противоположным вещам: например, тысячелетнему воздействию какой-либо книги и одновременно тому, что не все книги долго сохраняют свое воздействие. Вере в богов и одновременно тому, что мы ежечасно не падаем на колени перед новыми богами. Сексуальности, которой мы поражены, и одновременно тому, что это расщепление полов не идет глубже. Смерти, которой мы никогда не желаем, и одновременно тому, что мы не умираем еще в материнской утробе, подавленные тем, что нам предстоит. Когда-то удивление поистине было тем зеркалом, о котором охотно говорят, которое переводит явления в более ровную и спокойную плоскость. Ныне это зеркало разбито и осколки удивления становятся все мельче. Но даже в самом маленьком сколке отражается не одно-единственное явление, оно безжалостно тянет за собой свою противоположность; что бы ты ни увидел и как бы мало ты ни увидел, пока ты это видишь, оно уже само себя отрицает.
Так что не приходится ожидать, что с писателем, когда мы пытаемся уловить его отражение в зеркале, дело обстоит иначе, чем с закрученными песчинками повседневного бытия. С самого начала мы встречаемся с широко распространенным заблуждением, будто большой писатель стоит выше своего времени. Никто сам по себе не может стоять выше своего времени. Такие люди совсем не здесь. Им хочется быть в Древней Греции или среди тех или иных варваров. Дадим им такую возможность: чтобы оказаться так далеко, надо во многих отношениях быть слепым, а в праве заглушить в себе все пять чувств никому не откажешь. Однако такой человек возвышается не над нами, а над суммой воспоминаний, например о Древней Греции, которые мы носим в себе, это, так сказать, экспериментирующий историк культуры, изобретательно пробующий на себе то, что он верно уловил и что представляется ему истинным. Такой возвысившийся человек еще беспомощнее, чем физик-экспериментатор, у которого, хоть он и занимается только какой-то отдельной областью своей науки, всегда остается возможность контроля. Возвысившийся выступает с более чем научной, с прямо-таки культовой претензией; большей частью это даже не основатель секты; это священнослужитель для себя одного; для себя одного совершает он обряды, и единственный верующий тоже он сам.
Но настоящий писатель, каким мы его себе мыслим, всегда во власти своего времени, он его слуга, его крепостной, его последний раб.
Он прикован к своему времени короткой и нерасторжимой цепью, теснейше с ним связан; его неволя должна быть настолько полной, чтобы его невозможно было пересадить на какую-либо другую почву. И если бы в таком сравнении не было смешного оттенка, я бы сказал просто: он пес своего времени. Он бегает по его угодьям, останавливается то здесь, то там, где ему только захочется, но он неутомим, восприимчив к свисткам сверху, хотя и не всегда; его, гонимого необъяснимой порочностью, легко натравить, труднее отозвать, поистине он повсюду сует свой влажный нос, ничего не пропускает, порой возвращается назад, начинает снова, он ненасытен; впрочем, он спит и ест, но не это отличает его от других существ. То, что отличает его, – это неприятная приверженность к своему пороку, к проникновенному и обстоятельному смакованию, которое прерывается беготней, ему всегда настолько же мало того, что он получает, насколько получает он все недостаточно быстро; кажется он и бегать-то научился только ради этого своего порока.
Прошу у вас извинения за образ, который должен вам показаться в высшей степени недостойным того предмета, о коем у нас идет речь. Но для меня важно поставить во главе трех атрибутов, подобающих видному писателю нашего времени, именно тот, о котором никогда не говорится, тот, от которого другие только берут начало, тот вполне конкретный и своеобразный порок, какого я для него требую, и незачем, чтобы его, как преждевременно родившегося ребенка, с трудом выхаживали, делая из него то, чем он, в сущности, не является.
Этот порок связывает писателя с его окружением так же непосредственно, как нюх охотничьего пса – с местностью, где он охотится. У каждого свой порок, неповторимый и новый в новой ситуации эпохи. Его нельзя спутать с нормальной согласованной работой чувств, которыми и так обладает каждый, наоборот, нарушение равновесия в этой согласованной работе, например отказ одного из чувств или чрезмерное развитие другого, может стать толчком для развития необходимого порока. Он всегда явный, сильный и примитивный. Он четко проявляется в особенностях лица и фигуры. Писатель, позволивший ему собой овладеть, обязан ему существенной частью своего опыта.
Но и проблема оригинальности, о которой больше спорили, чем говорили что-то дельное, получает с этой позиции другое освещение. Понятно, что требовать оригинальности невозможно. Кто ее ищет, не найдет никогда, а о тщеславных и надуманных клоунадах, которыми иные нас потчевали ради того, чтобы прослыть оригинальными, у всех у нас, конечно, еще живы неприятные воспоминания.
Однако между неприязнью к погоне за оригинальностью и дурацким утверждением, будто писателю вовсе не обязательно быть оригинальным, дистанция огромная.
Писатель оригинален, или он не писатель вовсе. Он писатель в глубоком и простом смысле слова, писатель благодаря тому, что мы называем его пороком. Он писатель до такой степени, что даже сам этого не знает. Присущий ему порок побуждает его самостоятельно вычерпывать содержание мира, этого никто бы за него сделать не мог. Непосредственность и неистощимость, оба свойства, которых всегда упорно требовали от гения и которыми он действительно всегда обладает, суть детища этого порока – у нас еще будет возможность устроить проверку и узнать, какого рода этот порок у самого Броха.
Второе свойство, которое сегодня надо требовать от видного писателя, – это серьезное желание охватить свое время, стремление к универсальности, которое не дает себя спугнуть никакой единичной задачей, ни от чего не отворачивается, ничего не забывает, ничего не пропускает, ни в чем не дает себе поблажки.
Этой универсальностью Брох интересовался пристально неоднократно. Более того: можно сказать, что именно требование универсальности по-настоящему воспламенило его писательскую волю. Вначале он долгие годы был привержен к строгой философии и не позволял себе принимать так уж всерьез то, что создает писатель. Для него в этом крылось слишком много конкретного и обособленного, это были несовершенные произведения, поделки, никогда не составлявшие целого. Философия, в то время, когда Брох начинал философствовать, иногда еще находила удовлетворение в своей старой претензии на универсальность, правда, удовлетворение ненадежное, ибо эта претензия давно устарела; однако, как человек благородного ума, устремленного ко всему бесконечному, Брох охотно поддался этой обманчивой претензии. Сюда прибавилось глубокое впечатление, какое на него производила универсальная духовная замкнутость Средневековья[5]5
…впечатление, какое на него производила универсальная духовная замкнутость Средневековья… – Цельности и духовной завершенности Средневековья, основанным на безоговорочной вере в абсолютную ценность, воплощенную в Боге, согласно Г. Броху, противостоит современный мир всеобщей разобщенности и относительности, для которого «не существует ни абсолютной истины, ни абсолютной ценности, а значит, и абсолютной этики». В результате «распада ценностей», определявшего духовное развитие Европы на протяжении пяти – шести веков (об этом задолго до Г. Броха писал и Я. Буркхардт – см. коммент. к с. 291), опьяненная успехами естествознания, отвернувшаяся от Бога и боготворившая науку западная культура оказалась перед полной катастрофой. Осмыслению этого процесса духовного упадка Г. Брох посвятил множество своих художественных и философских работ.
[Закрыть], впечатление, которого он так до конца и не преодолел. По его мнению, тогда существовала замкнутая система духовных ценностей, и значительную часть своей жизни он занимался исследованием «распада ценностей»[6]6
«Распад ценностей» – так называется обширное эссе, содержащееся в третьей части трилогии Г. Броха «Лунатики».
[Закрыть], который начинается для него с Ренессанса и находит свое катастрофическое окончание только в мировой войне…
В ходе этой работы писательское начало постепенно одержало в нем верх. Его первое крупное произведение, роман-трилогия «Лунатики»[7]7
…первое крупное произведение роман-трилогия «Лунатики»… – Трилогия Г. Броха «Лунатики» состоит из следующих частей: «1888. Пазе-нов, или Романтика», «1903. Эш, или Анархия», «1918. Хугенау, или Деловитость».
[Закрыть], при ближайшем рассмотрении представляет литературное воплощение его философии истории, правда, ограниченное периодом его собственной жизни 1888–1918. «Распад ценностей» воплощен здесь в четких и очень поэтических образах. Не можешь отделаться от ощущения, что то достоверное, а иногда и неоднозначное, что в них есть, возникло против воли или же при стыдливом сопротивлении их создателя. Не перестаешь удивляться, как автор пытался здесь спрятать свою истинную сущность под нагромождением надуманного.
Благодаря «Лунатикам» Брох получил доступ к универсальности как раз там, где меньше всего предполагал, в несовершенной, кустарной форме романа, и теперь он высказывается на эту тему в самых разных местах. «Роман должен быть зеркалом всех прочих систем мира»[8]8
«Роман должен быть зеркалом всех прочих систем мира». – Приводимые высказывания заимствованы из доклада Г. Броха «Образ мира в романе». Последнее из них дословно повторяется в статье «Мыслительное и поэтическое познание».
[Закрыть], сказал он однажды. «Литературное произведение в своей цельности должно охватывать весь мир» или «современный роман стал полиисторическим». «Творчество – это всегда нетерпение познания».
Яснее всего, пожалуй, он формулирует свои новые взгляды в речи «Джеймс Джойс и современность»[9]9
«Джеймс Джойс и современность» – речь, произнесенная Г. Брохом в связи с пятидесятилетием выдающегося английского писателя, ирландца по происхождению, Джеймса Джойса (1882–1941), автора знаменитого романа «Улисс» (1922), а также романа «Портрет художника в юности» (1916) и сборника рассказов «Дублинцы» (1914).
[Закрыть]:
«Философия сама положила конец эпохе универсальности, эпохе больших компендиумов, ей пришлось удалить наиболее жгучие вопросы из своего логического пространства, или, как говорит Витгенштейн[10]10
Витгенштейн Людвиг (1889–1951) – австрийский философ, представитель т. н. «аналитической философии» – анализа употребления языковых средств и выражений как подлинного источника философских проблем. С помощью этих средств и строится логическая модель мира. В главном произведении Витгенштейна «Логико-философский трактат» (написан в 1918, опубл. в 1921, впервые переведен на русский язык в 1958 г.) эта модель и есть собственно философия – «зеркальный образ всей совокупности элементарных фактов (не предметов, а структур предметов), на которые „распадается мир“»; задача философа – выявление правил и законов, сочетаний и взаимных трансформаций этих факторов.
[Закрыть], отослать их в область мистического.
А это та самая точка, где начинается миссия поэтического, миссия всеохватывающего познания, стоящего над всякой эмпирической или социальной обусловленностью, которому безразлично, живет ли человек в феодальную, буржуазную или пролетарскую эпоху, долг поэзии, в конце концов, – достичь абсолютного познания».
Третье требование, которое следует предъявить писателю, состоит в том, чтобы он противостоял своему времени. Всему времени в целом, не только тому или этому, а широкой и цельной картине времени, которую видит только он, специфическому запаху этого времени, его лицу, его закону. Протест писателя должен стать громким и обрести форму, он не должен обессилеть или смиренно умолкнуть. Он должен кричать и топать ногами, как маленький ребенок; но никакое молоко на свете, даже из самой доброй груди, не в силах утихомирить его протест и убаюкать его самого. У него должно быть желание заснуть, но он не вправе его осуществить. Если он забудет о своем протесте, то сделается отступником, как в прежние времена истовой веры целый народ, бывало, отпадал от своего бога.
Это жестокое и радикальное требование, жестокое потому, что так резко противоречит предыдущему. Ибо писатель – это отнюдь не герой, коему надлежит одолеть свое время и сделать его своим подданным. Наоборот, мы видели, что он сам ему подвластен, его последний слуга, его пес: и вот этот пес, которого всю жизнь ведет его нюх, потребитель и безвольная жертва, пожиратель добычи и добыча одновременно, это самое существо должно в один миг всему этому воспротивиться, восстать против себя самого и своего порока, не имея возможности когда-либо от него избавиться, продолжать в том же духе и возмущаться, да сверх того еще сознавать собственное раздвоение! Поистине, это жестокое, радикальное требование; такое же радикальное и жестокое, как сама смерть.
Ибо это требование выводится из факта смерти. Смерть – это первый и древнейший, так и хочется сказать – единственный факт[11]11
Смерть – это первый и древнейший, так и хочется сказать – единственный факт. – Смерть стала одной из центральных тем творчества как Э. Канетти, так и Г. Броха. Броху она представлялась своеобразным посредником между психофизической и метафизической реальностями. Сама по себе смерть, считал он, есть наиболее отдаленное от жизни и непостижимое явление, ибо никому не дано высказать положительное суждение о ней. Но она обретает конкретность как граница, с которой приходится сталкиваться каждому человеку и через которую в наше существование заглядывает сумрак и неизвестность иного мира. Необходимость встречи со смертью превращает метафизический страх в психическую реальность. А поэтому искусство, рассматриваемое Брохом как извечная форма освобождения человека от страха, неизбежно должно быть направлено против смерти как самого непосредственного источника этого страха. Отношение Канетти к смерти более эмоционально. Смерть воплощала для него зло, так как ограничивала жизнь. Поэтому он категорически отвергал ее и не соглашался признать ее власть над человеком. Он настаивал на том, что она в самой своей сути несоотносима с человеческим существованием и неприемлема, ибо есть нечто внеположное по отношению к жизни. В своем неистовом отрицании смерти Канетти неисправим. Критики называют его «одним из самых великих ненавистников смерти в литературе».
[Закрыть]. Она чудовищно древняя и ежечасно новая. Степень твердости у нее – десять, и режет она не хуже алмаза. Ей присущ абсолютный холод мирового пространства – минус двести семьдесят три градуса. Ей присуща наивысшая сила ветра – ураганная. Она – реальная превосходная степень от всего сущего, но она не бесконечна, ведь ее можно настичь на любой дороге. Пока существует смерть, всякое слово – это прекословие ей. Пока существует смерть, всякий свет – это обманчивый свет, ибо он ведет к ней. Пока существует смерть, ничто прекрасное – не прекрасно, ничто доброе – не добро.
Попытки с ней примириться – а что такое религии, как не это? – потерпели неудачу. Открытие, что после смерти ничего нет, ужасающее и не до конца постижимое, бросило на жизнь отблеск новой и отчаянной святости. Писатель, у которого есть возможность благодаря тому, что мы несколько суммарно назвали его пороком, участвовать в жизни многих, участвует и во всех смертях, которые грозят этим жизням. Его собственный страх – а кто не испытывает страха перед смертью? – должен стать смертным страхом всех. Его собственная ненависть – а кто не питает ненависти к смерти? – должна стать смертной ненавистью всех. Это, и ничто иное, есть его протест против времени, наполненного мириадами и мириадами мириад смертей.
Тем самым писателю досталась часть религиозного наследства, и, несомненно, лучшая его часть. Ему приходится нести изрядное бремя наследств: философия, как мы видели, завещала ему свою претензию на универсальность познания; религия – приглаженную проблематику смерти. А сама жизнь, жизнь, какой она была до всякой религии и философии, животная жизнь, не сознающая ни себя, ни своего конца, передала ему в концентрированной и удачно отведенной в одно русло – в русло страсти – форме свою ненасытную алчность.
Теперь перед нами стоит задача рассмотреть, как сложилось сочетание этих наследственных долей в одном-единственном человеке. Они ведь имеют значение только во взаимосвязи. Их единство и составляет авторитет его личности. Совершенно конкретная страсть, которой он одержим, должна предоставить ему материал, дабы он мог перевоплотить его в универсальную, ответственную картину своего времени. Но эта его совершенно конкретная страсть должна также в каждом своем порыве естественно и однозначно предавать смерть. Ибо тем самым она поддерживает непрестанный, непреклонный протест против времени, балующего смерть.
Позвольте мне теперь перейти к материи, которой в дальнейшем мы будем почти исключительно заниматься – к воздуху. Вас, возможно, удивит, что речь вообще пойдет о чем-то настолько обычном. Вы ожидаете услышать что-то о своеобразии нашего писателя, о пороке, коему он подвержен, о его ужасающей страсти. Вы предполагаете, что за этим кроется что-то неприятное или, если вы более доверчивы по натуре, по меньшей мере что-то таинственное. Вынужден вас разочаровать. Порок Броха совершенно обыденный, еще более обыденный, чем курение табака, употребление алкоголя или игра в карты, потому что он более старый. Порок Броха – это дыхание. Он дышит с упоением и не может надышаться. При этом у него всегда своя, неповторимая манера сидеть, кажется, будто он отсутствует, потому что лишь изредка и неохотно отзывается обычными средствами языка. В действительности же он присутствует как никто другой, ибо для него всегда важно охватить все пространство, в котором он находится, важно своего рода атмосферное единство.
В этом случае мало знать, что тут стоит печка, а там – шкаф; мало слышать, что говорит один и что ему рассудительно отвечает другой, словно перед тем они единодушно это обсудили; мало также отмечать ход и количество времени: когда пришел этот, когда встал тот, когда ушел третий, – это за нас делают часы. Гораздо важнее чувствовать, чувствовать всюду, где люди собираются в одном помещении и дышат. Помещение может быть наполнено свежим воздухом, а окна в нем открыты. Может быть, недавно шел дождь. Печка может источать тепло, а оно – неравномерно доходить до присутствующих. Шкаф, возможно, довольно долго был заперт; изменившийся воздух, какой хлынул из него, когда его открыли, возможно, изменит отношение присутствующих друг к другу. Конечно, они разговаривают, им есть что сказать, но они лепят слова из воздуха и, произнося их, внезапно наполняют комнату новыми и странными колебаниями, катастрофическими изменениями прежнего состава. А время, истинное, психическое время, менее всего сообразуется с часами: это скорее и больше всего функция атмосферы, в которой оно протекает. Так что невероятно трудно установить хотя бы приблизительно, когда человек на самом деле присоединился к компании, когда другой встал, а третий действительно ушел.
Конечно, все это выглядит примитивно, и такой опытный мастер, как Брох, вправе посмеяться над подобными примерами. Но этим мы хотим лишь подчеркнуть, сколь существенным для него самого стало все то, что относится к дыхательному хозяйству, как он освоился с атмосферными условиями, освоился настолько, что они у него часто непосредственно определяют отношения между людьми; как он слышит, когда дышит, как при этом осязает, как он все свои чувства подчиняет чувству дыхания, так что временами он кажется большой красивой птицей, у которой подрезали крылья, но в остальном ее оставили на свободе. Вместо того чтобы безжалостно запереть птицу в одной-единственной клетке, ее мучители открыли ей все клетки мира. Ее еще гонит ненасытная жажда воздуха, свойственная прежнему быстролетному, прекрасному времени; чтобы утолить ее, она спешит от клетки к клетке. В каждой она берет пробу воздуха и уносит ее с собой. Прежде она была опасным хищником и от голода нападала на все живое; теперь воздух – единственная добыча, которой она алчет. Нигде не остается она подолгу, едва придя, тут же уходит. Настоящих хозяев и обитателей клеток она избегает. Ей известно, что никогда, даже во всех клетках мира, не вберет она в себя столько воздуха, сколько у нее было раньше. В ней всегда живет тоска по настоящей связности, по свободе вне всяких клеток. Так она и остается большой, прекрасной птицей, какой была, и другие узнают ее по тем крохам воздуха, которые она у них берет, она сама узнает себя по своей непоседливости.








