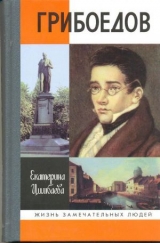
Текст книги "Грибоедов"
Автор книги: Екатерина Цимбаева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 42 страниц)
Грибоедов задумался, кого предложить вместо себя на должность дипломатического советника при Паскевиче. Он имел не так уж много знакомых коллег, которым мог безоговорочно доверять. Кюхельбекер сидел в крепости, Пушкин оставил службу. Он вспомнил о дальнем родственнике, Федоре Хомякове, старшем сыне хмелитского соседа, который избрал дипломатическое поприще и с которым Грибоедов изредка встречался с многолетними перерывами, но всегда дружески. Он не сомневался, что ходатайство Паскевича о прикомандировании к нему Хомякова будет без возражений удовлетворено, тем более что Федор приходился ему родственником по жене. Правда, молодой человек не выразил восторга при известии о назначении в Тифлис. Он успел послужить в Париже и теперь мечтал о месте в походной канцелярии императора, отправлявшегося в армию к границам Турции. Однако Нессельроде прельстил его на Кавказ тем же, чем десять лет назад Грибоедова, обещая, что в новой должности он будет зависеть от одного главнокомандующего, выгоды в продвижении будут значительны, а климат уже известен и можно принять необходимые предосторожности; в то время как в канцелярии государя для него нет места, а армейские лекари могут оказаться хуже тифлисских. Федору пришлось, скрепя сердце, согласиться.
Разобравшись с будущими сослуживцами, Грибоедов почувствовал, что сделал все, что мог. Он просидел с Нессельроде и Родофиникиным до глубокой ночи, разбирая дела департамента – теперь уже всерьез. После этого бдения он стал питать истинное презрение к Родофиникину, явно недостойному своего поста. От них он поехал не к себе, где одиночество навалилось бы на него невыносимым грузом, а на Михайловскую площадь к Жандру, поднял его с постели – с какой стати тот улегся так рано? – и огорошил сообщением: «Прощай, друг Андрей! Я назначен полномочным министром в Персию, и мы более не увидимся». Грибоедов так и остался ночевать у друга, а утром послал Бегичеву письмо с тем же известием. Степан в ответ постарался его утешить: по его мнению, никто не мог бы принести на этом посту большую пользу России, чем Александр. Все так, но мрачное настроение не оставляло Грибоедова.
Задуманная поездка великих русских писателей сорвалась: Пушкину ответили, что, как русский дворянин, он имеет право ехать за границу, но что государю будет это неприятно; Вяземскому посоветовали и не проситься – его умеренно-либеральные взгляды далеко превосходили уровень вольномыслия, дозволенный после 14 декабря. Князь только вздохнул: «Эх, да матушка Россия! попечительная лапушка ее всегда лежит на тебе: бьет ли, ласкает, а все тут, никак не уйдешь от нее…» Грибоедов вместо Парижа должен был ехать в Тегеран. Крылов вернулся к прежней лени, в которой видел единственное безопасное убежище.
А между тем возвышение Грибоедова произвело небывалый шум в столице; юное поколение было в восторге; литераторы, молодые способные чиновники и все умные люди торжествовали. III Отделение с удовлетворением отмечало, что это выдвижение знаменитого человека во цвете лет купило тысячи голосов в пользу правительства. В обществе праздновали победу над предрассудками и рутиною, праздновали награждение дарования, ума и усердия в службе. Везде кричали: «Времена Петра, Екатерины!» Отныне все признали, что «человек с талантом может всего надеяться от престола, без покровительства баб, без ожидания, пока длинный ряд годов не выведет его в министры».
Даже Вяземский и Пушкин завидовали другу и обещали непременно навестить его следующим летом, когда он вполне устроится в Персии. Грибоедов один не разделял общего одушевления. Егоголоса правительство не купило. В ответ на поздравления он неизменно твердил одно: «Я уж столько знаю персиян, что для меня они потеряли свою поэтическую сторону. Вижу только важность и трудность своего положения среди них, и главное, не знаю сам отчего, мне удивительно грустно ехать туда! Не желал бы я увидеть этих старых своих знакомых». Впрочем, в глубине души, не признаваясь самому себе, чтобы не потерять бодрости духа, он прекрасно сознавал, почему опасается «старых знакомых». Он старался наслаждаться немногими оставшимися днями. Нессельроде торопил его со сборами, но Грибоедов отговаривался тысячей причин: он хотел ехать со всем багажом, от книг и фортепьяно до парадного мундира посла, чтобы благодаря обилию экипажей двигаться как можно медленнее. А сколько времени надо, чтобы сшить у лучшего петербургского портного особый, расшитый серебром посольский мундир!
16 мая он присутствовал с Вяземским на чтении Пушкиным все еще запрещенного «Бориса Годунова» у графов Лаваль, где встретил крымского знакомого – польского поэта Мицкевича и кучу светских лиц. Все слушали внимательно и выразили свое удовольствие, хотя даже Вяземский мало что понял, несмотря на то, что слышал трагедию не впервые. Однако стихи и многие яркие, сильные сцены понравились всем. Замечаний никто не высказал, и Грибоедов взял критику на себя. Он издавна интересовался русской историей, изучал ее не только по Карамзину, но и по древним летописям и манускриптам, когда им случалось попадать в его руки. Вкус к старинным сочинениям ему привил Буле в университете, хотя с тех пор Александр редко имел возможность заниматься. Он заметил Пушкину, что патриарх Иов, один из героев трагедии, в действительности был очень умен, а автор, по недосмотру, сделал из него глупца. Насколько выиграла бы драма, следуй он исторической правде: ведь изображать умного человека всегда интереснее, чем дурака – Грибоедову ли этого не знать! Пушкин признал свою ошибку и даже сожалел о ней, оценив верность замечания. Во всяком случае, он нисколько не обиделся.
25 мая, вместо несостоявшегося путешествия за границу, Вяземский, Пушкин и Грибоедов в большой веселой компании семейства Олениных отправились в Кронштадт поглядеть на флот, готовившийся к выступлению на Турцию под командованием адмирала Сенявина, участника войн еще екатерининского царствования. Крылов, несмотря на давнишнее знакомство со старшим Олениным, президентом Академии художеств, отказался встать с дивана ради поездки в пределах Российской империи. Зато Пушкин был счастлив возможности провести целый день рядом с Анной Олениной, за которой тогда ухаживал. Грибоедов один имел к флоту прямой интерес: от побед моряков зависел отчасти успех его дипломатической миссии. Ехали на пароходе, чего Грибоедов никогда прежде не делал; погода стояла благоприятная. Погуляли по Кронштадту, все вокруг казалось красивым и интересным, Пушкин увивался вокруг Анны; молодежь шумела, юные сыновья Оленина успели напиться так быстро, что Вяземский даже удивился; Грибоедов смотрел на лица моряков.
Наконец вернулись к пристани, но вдруг поднялся сильнейший ветер, разразилась гроза, ливень, по морю пошли волны. Пароход все-таки отчалил, но в тесноте и темноте страдающие морской болезнью пассажиры сбились в непривлекательную кучу. Пушкин сидел надутый и хмурый, как погода. Вяземский и Грибоедов не ощущали невзгод от качки. Их внимание привлекла прелестная молодая англичанка, испытывавшая жестокие страдания. Пушкин счел, что она похожа на героинь Вальтера Скотта. Тут к ней подошел муж, красивый мужчина, которого Грибоедов, к своему удивлению, узнал. Это оказался капитан Джон Кемпбелл, советник британской миссии в Персии, участвовавший в Туркманчайских переговорах и с тех пор съездивший в Англию жениться на давней избраннице. Теперь он ехал с нею обратно в Тегеран. Он, конечно, тоже заметил Грибоедова и знал уже о его новом назначении. Дождавшись, когда тот останется один, англичанин подошел к нему и бросил – не то с угрозой, не то в виде предупреждения: «Берегитесь! вам не простят Туркманчайского мира!» И тотчас отошел.
Грибоедов ничего не ответил и не сказал ничего Вяземскому. Что-то переломилось в нем: чувство опасности не исчезло, но теперь оно бодрило, как перед боем. В Персии его и без того ждали многие сложности, а тут еще и англичане грозят. (Кемпбелл, конечно, произнес свои слова с умыслом, хотя цели его были неясны.) Но мог ли Грибоедов поддаться предчувствию, которое даже друзья сочли бы трусостью? Однажды он стоял под дулом пистолета, наведенного на него с шести шагов; потом, не колеблясь, выдержал огонь ста двадцати четырех залпов персидских батарей. Неужели он отступит перед угрозами?! В Иране многое будет в его руках, он едет туда не бараном на заклание. Он не закрывал глаза и трезво глядел в лицо будущему. Но оно не пугало его.
Глава IX
МИНИСТР
Любовь правильнее всего сравнить с горячкой: тяжесть и длительность той и другой нимало не зависит от нашей воли.
Ларошфуко
Грибоедов покинул Петербург 6 июня 1828 года, после самого настойчивого требования императора «чтобы скорее ехал». Накануне Жандр устроил прощальный ужин, где собрались все друзья Александра. Веселья не получилось: когда Грибоедов грустил, все вокруг невольно заражались его настроением. Он мог сказать им одно: «Прощайте! Прощаюсь на три года, на десять лет, может быть навсегда». Пушкин, проникшись тяжелым предчувствием, мучившим его тезку, написал стихотворение, так и назвав его «Предчувствие»:
Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне…
Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?
Утром Жандр и братья Всеволожские проводили Александра, как водится, до Ижор. Он не оглядывался с тоской на Петербург, как десять лет назад, но с сердечной болью думал, что оставляет не столицу – он говорит: «Прости, Отечество!»
Не наслажденье жизни цель,
Не утешенье наша жизнь.
О! не обманывайся, сердце!
О! призраки, не увлекайте! —
Нас цепь угрюмых должностей
Опутывает неразрывно.
Когда же в уголок проник
Свет счастья на единый миг.
Как неожиданно! как дивно!
Мы молоды и верим в рай, —
И гонимся и вслед и вдаль
За слабо брезжущим виденьем.
Постойте!.. Нет его! угасло!..
9 июня он был уже в Москве. Настасья Федоровна встретила его с большой радостью, прямо не могла нагордиться на сына. Первые ее вопросы касались денег, полученных им от государя. Узнав, что большую их часть он оставил Булгарину, с тем чтобы тот покупал для него книги и пересылал в Персию, она разволновалась. Но сведения об оборотливости и деловых качествах Фаддея Венедиктовича так ее успокоили, что она даже решилась написать ему письмо с просьбой не оставлять ее сына дружескими заботами, ибо сам он не умеет и не хочет печься о собственных интересах. В Новинском Грибоедова ждало письмо от сестры и зятя с пометой «Письмо самое нужное». Мария, в отличие от матушки, горько сожалела о новом назначении брата: «Сердце мое обливается кровью при мысли о твоем отъезде. Когда же наступит счастливое время и мы опять сблизимся? Муж мой тебя обожает: единственное его желание – видеть тебя с нами. Для нас это было бы величайшим счастьем – видеть между нами нашего обожаемого брата. Льщусь этою надеждою, она поддерживает мое существование».
Александр с нежностью читал эти строки; привязанность сестры согревала его душу. Она дала ему, наверное, величайшее в мире доказательство своей любви, которую разделял и ее муж. В конце апреля Мария родила сына; неопытность матери и неопытность няни едва не погубили младенца, но заботы просвещенной соседки его спасли. Все же мальчик был слабеньким и успел уже подхватить ветрянку. Мария с мужем назвали его Сашей, в честь ее брата, но не крестили. Соседи беспокоились, священник увещевал молодых родителей, но те твердо готовы были пожертвовать бессмертной душой и вечным спасением первенца, но не давали его крестить никому, ожидая приезда Александра. Дурново приписал от себя в конце письма жены: «Любезный друг и брат, всегда с восторгом получаю твои письма; последнее тем более меня восхитило, что надеюсь скоро с тобой видеться. Ради Бога, приезжай скорее: мы с Машенькой считаем все минуты и часы. Сашка наш нас очень занимает и делается мил; только жаль, что все болен, что нас и задержало в Богородске долее, чем мы желали; кроме тебя, никто его крестить не будет, я непременно сего желаю. С нетерпением тебя ожидаем. Прощай, мой неоцененный!»
Мария, предвидя, что брат сперва заедет в деревню Бегичева, упрашивала его там не задерживаться, а просто взять Степана с собой, ибо она и ее муж будут только счастливы его принять.
Грибоедов провел в Москве два дня, ожидая некоторые официальные бумаги. Не желая сидеть с матерью дома, он бродил в свободное время по городу, повидал милую кузину Соню и прочих родственников. Дом в Новинском казался ему чужим, как станция: «Проеду, переночую, исчезну!!!» Он испытывал величайшее раздражение на все подряд, и то и дело позволял себе такие выражения, которые обычно не употреблял. В университетской библиотеке он нашел своего давнего наставника Петрозилиуса, трудившегося над составлением каталога – главного дела его жизни, позвал к себе и познакомил с Аделунгом, чей отец хорошо был известен в ученом мире.
Город был, конечно, пуст; театры закрыты на лето. Грибоедов с горечью подумал, что так и не был внутри ни Большого, ни Малого театров. Он счел долгом вежливости навестить Ермолова. Опальный генерал принял прежнего подчиненного с нескрываемой неприязнью – он не хотел простить ему дружеских отношений с коварным Паскевичем. Грибоедов даже подумал, что Алексей Петрович воспринял визит как оскорбление: мол, явился хвастать высоким назначением! Старик напрасно сердился, но переубедить его было невозможно. Грибоедов сам обиделся и огорчился и после жаловался Бегичеву, что для Ермолова он – вечный злодей!
12 июня, предоставив Аделунгу и Мальцеву потихоньку двигаться к Ставрополю, он налегке выехал к Туле. 13-го, совершив перегон со скоростью, которой никогда не показывал на царской службе, он приехал в Лакотцы. Анна Ивановна находилась на последнем месяце, и, чтобы не тревожить ее, друзья проводили часы напролет в той беседке, где Грибоедов с таким удовольствием писал «Горе от ума». Он отдал Степану все свои путевые записки, которые вел для него в Грузии и Персии, но рассказать, вспомнить о пережитом было уже некогда. Бегичев спрашивал о его планах, Грибоедов прочел ему кое-что из «Грузинской ночи», но разговор на литературные темы не клеился. Видя чрезвычайную мрачность друга, Степан стал его увещевать:
– К чему эти мысли и эта ипохондрия? Ты бывал и в сражениях, но Бог тебя миловал.
– Я знаю персиян, – возразил Грибоедов, – Аллаяр-хан мой личный враг, он меня уходит! Не подарит он мне заключенного с персиянами мира.
И все же Бегичев не принял всерьез подавленность Александра. Тот и сам понимал, что боевой офицер, участвовавший, пусть и давно, в крупнейших битвах, сочтет его предчувствия вздором, если не трусостью. Степан заметил, что десять лет назад Александр точно так же ожидал смерти перед поездкой в Персию и писал ему из Новгорода, размышляя о гибели Александра Невского, что, «может, и соименного ему секретаря посольства та же участь ожидает, только вряд ли я попаду в святые!». Грибоедов вспомнил свое настроение той поры и слегка повеселел. Может быть, и впрямь все будет в Персии не так страшно, как ему кажется издали? Выжил же он там в первые три года!
Он посадил Степана с собой, и они вместе покатили к Дурново. Несмотря на внешнее спокойствие, которым Бегичев надеялся поддержать друга, ему передалась тоска Александра, и он хотел как можно дольше не расставаться с ним. Уже отъехав далеко от Лакотц, Грибоедов вспомнил, что вместе с путевыми дневниками оставил у Бегичева и все свои планы, и наброски незаконченных сочинений, в том числе «Грузинской ночи». Но он не пожелал возвращаться и не очень переживал. Большая часть черновиков не стоила гроша, а сцены из трагедии были столь незначительны и неотделанны, что выйдут лучше, если он их запишет заново.
Они нашли Дурново в крошечном имении в невесть какой глуши. Алексей, дослужившись всего лишь до поручика, вышел в отставку и стал заниматься хозяйством. Он жил в той же Тульской губернии у городка Чернь, по виду совершенной деревни без всякой промышленности. Но вокруг лежали плодороднейшие черноземы, и Алексей устроил у себя сахарный завод. Со временем тот мог приносить отличный доход (дело было очень прибыльное), пока же Дурново находились в больших долгах. Приданое Марии ее матушка растратила задолго до замужества дочери, супруги старались вести хозяйство очень экономно, и Грибоедов привез сестре несколько тысяч, о которых она просила в письме, обещая непременно вернуть с процентами.
Александру понравилось у сестры: все вокруг было чисто, опрятно, трудолюбиво и весело. Зять занимался заводом, садом и музыкой. Все вечера проходили в беседе под звуки рояля и флейты, самых дорогих вещей в доме Марии и Алексея. Грибоедов наконец смог окрестить Сашку. Отроду не имея дела с младенцами, он забавлялся его фигурой, точно у лягушки. Через двое суток он расстался с Марией, уверившись в ее семейном счастье, которого она так заслуживала. Степан проводил друга, сколько позволяли лошади. Они больше не заговаривали о предчувствии вечной разлуки, но расставание вышло печальным как никогда.
Теперь Грибоедов ехал один, догоняя сослуживцев, уже неделю ждавших его в Ставрополе. Мухи, пыль и жара до одури раздражали его на проклятой дороге, по которой он в двадцатый раз проезжал без удовольствия, без желания – потому что всегда против воли. Он хотел бы пустить на свое место какого-нибудь франта с Невского, охотника до почетных назначений, чтобы заставить его душою полюбить умеренность в желаниях и неизвестность. В пути он услышал весть о взятии Анапы, чему в Ставрополье все радовались, поскольку избавлялись тем самым от набегов закубанцев. Чем далее от Петербурга, тем более важности приобретало его «павлинное звание». В Предкавказье его уже встречали как родню и друга графа Эриванского, как посла к важнейшей из окрестных здесь держав. Во всех городах чиновники, окружные начальники и полицмейстеры являлись на станции засвидетельствовать ему почтение, отзывались о Паскевиче как о человеке ласковом, приятном, внимательном и так далее и тому подобное. Грибоедов думал про себя с непроходившим ожесточением: «У нас чиновники – народ добрый, собачья натура, все забыли прошедшее, полюбили его и стали перед ним на задние лапки. Но жребий людей всегда один и тот же. О дурном его нраве все прокричали в Петербурге и, верно, умолчат о перемене: потому что она в его пользу». Ко всему плохому, у него разбились часы, новых купить было негде, он узнавал время по небесным светилам и тем, шутя, оправдался перед заждавшейся молодежью.
Вечером 26-го он добрался до Ставрополя, послал за своими секретарями, накормил их роскошным ужином, который приготовил повар, взятый им из Петербурга, напоил чаем и совсем очаровал, особенно Аделунга. Утром он отправил молодых людей вперед, а сам выехал по холодку, под предлогом, что столько лошадей на станциях все равно не достать. Впрочем, к ночлегу он догнал их, ибо теперь путь стелился перед ним ковром и попробовали бы смотрители не найти тройку для полномочного министра! Грибоедов с каждым днем все ближе сходился с Аделунгом, который восхищался приближавшимися горами, красотой мест и благоговел перед великим дипломатом. Понемногу, под влиянием пережитых трудностей над пропастями Военно-Грузинской дороги и под воздействием дружеской короткости Грибоедова, Карл перестал дичиться. У станции Коби, на самой вершине Крестового перевала, их уже встречали посланные офицеры из Тифлиса. Внизу, в Грузии, к никогда не виданному здесь полномочному министру на каждой смене лошадей приходили с поклонами местные власти в парадной форме, со всей своей смешной для петербуржцев напыщенностью и с корзинами огурцов, почитавшихся тут дорогими фруктами. Аделунг, как прежде Амбургер, скоро научился смотреть на мир глазами Грибоедова, поэтому нелепые церемонии и дары его только забавляли. А вот с Мальцевым Александр Сергеевич не находил пока общего языка, как и Аделунг; первый секретарь держался в стороне.
5 июля, к вечеру, Грибоедов въехал в Тифлис. Ему отвели комнаты в доме Паскевича, где жила только его двоюродная сестра Елизавета с детьми; сам генерал находился в действующей армии. Молодых секретарей поселили в какой-то квартире без мебели и оконных рам, и на следующий день, узнав об этом, Грибоедов велел перевести их тоже к Паскевичам. С первого же дня по приезде на него обрушилось столько дел и неприятностей, что у него не осталось времени вспоминать о своей меланхолии. Нессельроде так торопил его именем государя, что он покинул Петербург без верительных грамот посла и без жалованья за месяц, которое задолжал ему департамент. Родофиникин божился, что дошлет все в Тифлис, однако ни о том, ни о другом не было слуху. Без грамот Грибоедов не мог ехать дальше и особенно не опечалился бы, если бы они и вовсе потерялись в пути, но деньги были необходимы. Он считал долгом держать стол à la Ministre: шампанское, ананасы, мороженое для сослуживцев и избранной компании. Однако из Петербурга ничего не приходило.
Не приходило ничего и с другой стороны. Он не нашел в Тифлисе никаких донесений от Амбургера из Тавриза или от Паскевича из армии, которые сообщили бы ему состояние сношений с Ираном на нынешний момент. Даже военный губернатор Тифлиса генерал Сипягин (женатый на сестре Всеволожских) не имел никаких точных известий от главнокомандующего в течение последних двух недель. Грибоедов собрал в городе все возможные слухи, говорил с верховным муллой, с архиепископом, со всеми своими бесчисленными знакомыми, но ничего толком не выведал. Он узнал только достоверно, что Персия истощена войной, а Амбургер в отчаянии от характера иранцев. Но это можно было предвидеть. В конце концов, как говорил всем Грибоедов: «Мы их устрашили, но не перевоспитали. И задача эта наскоро решиться не может». Приходилось самому ехать за новостями в Главную корпусную квартиру, вроде бы находившуюся у только что взятой сильной турецкой крепости Карс. В армии, по последним сведениям, бушевала чума, занесенная пленными турками, по пути стояли карантины и окуривали всех, едущих туда и обратно.
Грибоедов послал несколько частных и официальных депеш Родофиникину, где нисколько не скрыл своего более чем нелестного мнения о непосредственном начальнике. Он полагал, что, если за неучтивость его отзовут из Персии, это будет не слишком страшной карой. Родофиникин грамоты все-таки прислал 12 июля, но жалованье не выплатил ни Грибоедову, ни прочим дипломатам. Грек так отчаянно придерживал деньги, словно экономил собственные средства – впрочем, вероятно, они и впрямь шли из казначейства в его карман. Грибоедов был уверен, что не казна отказывается их выдавать, поскольку император, безусловно, заинтересован в успешной деятельности посольства. Но совсем взбесило Александра Сергеевича, что его собственные вещи, частично отправленные ему вдогонку Булгариным, попали заботами Родофиникина в Астрахань! Грибоедов проклинал идиотов, которые считают, видимо, что любой южный город находится рядом с любым другим южным городом. А из Астрахани в Тифлис только на орлах легко долететь; по морю же и по горам едва можно пробраться из Баку: «Покорно благодарю за содействие ваше к отправлению вещей моих в Астрахань. Но как же мне будет с посудою и проч.? Она мною нарочно куплена в английском магазине для дороги. Нельзя же до Тегерана ничего не есть. Здесь я в доме графа все имею, а дорогою не знаю, в чем потчевать кофеем и чаем добрых людей».
При такой непристойной невнимательности, вдобавок не платя денег, Родофиникин еще имел наглость требовать, чтобы посланник немедленно ехал в Персию. Грибоедов отвечал ему откровенно резко, чтобы даже грек его понял: «Я думаю, что уже довольно бестрепетно подвизаюсь по делам службы. Чрез бешеные кавказские балки переправляюсь по канату, и теперь поспешаю в чумную область. По словам Булгарина, вы, почтеннейший Константин Константинович, хотите мне достать именное повеление, чтобы мне ни минуты не медлить в Тифлисе. Но ради Бога, не натягивайте струн моей природной пылкости и усердия, чтобы не лопнули».
Министерство, видимо, не понимало, что, прежде чем очертя голову бросаться в Персию, посланнику полезно узнать местную и международную обстановку, коли уж никто не брал на себя труд разведать ее для него. 13 июля, оставив Аделунга переводить на персидский верительные грамоты (Петербург и этого не мог сделать заранее!) и захватив с собой Мальцева, Грибоедов отправился в коляске разыскивать Паскевича в неведомом направлении. Однако дороги, размытые недавним ливнем, оказались крайне скользкими, скверные лошади не тянули в гору, и с третьей станции он, злой до последней степени, повернул назад, отправив Паскевичу уведомление о своем прибытии и просьбу не предпринимать теперь никаких действий, пока им не удастся встретиться и все обговорить.
Возвратившись в Тифлис, Грибоедов не стал никому, даже Аделунгу, сообщать о себе. Со всеми он накануне распростился и хотел, чтобы ему дали успокоиться. И прибег к старому, никогда не изменявшему средству: отправился на целый день к Ахвердовым. В предыдущую неделю он виделся с ними очень коротко, занятый официальными беседами и хлопотами. Теперь он решил ото всего отвлечься. Сначала, как повелось, долго играл на рояле, импровизировал полюбившуюся ему музыкальную форму – сонату, которых в России почему-то не сочинял ни один композитор. За обедом он сидел против Нины Чавчавадзе и отдыхал душой, глядя на ее прелестное личико. Он знал ее с детских лет и всегда очаровывался ее необыкновенным обаянием, веселостью, нежным голосом и милым, кротким нравом. Он был вдвое старше и никогда не думал о ней иначе как о восхитительном ребенке. Теперь он заметил, насколько она повзрослела и расцвела, даже по сравнению с их последней встречей. Все произошло внезапно. Он задумался, сердце вдруг забилось; необыкновенно важная служба, обременившая его, как-то придала ему решимости. Выходя из-за стола, он взял ее за руку и повел в сад со словами: «Venez avec moi, j’ai quelque chose à vous dire» [21]21
Пойдемте со мною, я должен вам кое-что сказать.
[Закрыть]. Нина послушалась, как давно привыкла, полагая, что он усадит ее за фортепьяно. Однако он прошел с ней к ее дому, видя, что Прасковья Николаевна с матерью и бабушкой Нины уселись на крыльце.
Нина смотрела на него с доверчивым удивлением, дыхание его занялось, он перестал понимать, что говорит и как, только все живее и живее… Он изучил женщин, умел обыкновенно понимать, приятен им или нет, но никогда прежде он не делал предложения полуребенку – и предложения всерьез. Он не знал, как будет принят. Нина слушала его, совершенно ошеломленная: человек, на которого она всю жизнь смотрела снизу вверх, перед гением и добротой которого она преклонялась, объяснялся ей в любви! Она никогда не смела и мечтать о нем! Она вдруг заплакала, потом засмеялась – это был самый красноречивый ответ… и он поцеловал свою невесту…
Следовало испросить согласие ее родных, в котором Грибоедов, впрочем, не сомневался. Весь дом пришел в необыкновенное волнение. Прасковья Николаевна была счастлива, что ее любимейшая питомица выходит за лучшего друга ее семьи. Мать и бабушка Чавчавадзе в восторге приветствовали удачнейшую партию дочери и внучки, ставящую ее в родство с самим главнокомандующим Грузии. Если в России свататься за шестнадцатилетнюю девушку было не совсем прилично, то в Грузии этот возраст считался более чем подходящим для брака. В Тифлисе трудно было отыскать достойного жениха, и мать Нины давно уговаривала ее выйти за Сергея Ермолова, человека прекрасного, но лицом несколько похожего на татарина, его отдаленнейшего предка. Или же за Николая Сенявина, старшего сына адмирала, чей флот Грибоедов видел в Кронштадте. За Ермолова ходатайствовал Муравьев, Сенявин готов был ради Нины на любые жертвы и подвиги, но она оставалась к ним равнодушна и подчеркнуто холодна, как и ко всем прочим поклонникам. Теперь ее мать и бабка перестали беспокоиться за судьбу своей красавицы. Князь Чавчавадзе находился в армии, возглавляя осаду крепости Баязет, но все были уверены, что и он не откажет. Одна Софья Муравьева чувствовала себя немного встревоженной, зная, что ее муж относится к Грибоедову едва ли не с ненавистью, и предвидя возможные столкновения в семье, ибо сама она радовалась за Нину. Младшие девочки носились по дому. Даша Ахвердова недоумевала, как это Нина так мало боится Александра Сергеевича, что даже решается выйти за него замуж? Даше и Катиньке Чавчавадзе, донашивавшим по бедности семейств веши сестер, обещали сшить к будущей свадьбе красные атласные башмачки, и они ждали этого события как праздника.
Посреди всеобщего ликования Грибоедов с Ниной ни на что не обращали внимания. Весь вечер и весь следующий день он почти не отпускал ее от себя; уединившись в укромном уголке, он учил ее целоваться все крепче и крепче. Но счастье было мимолетным. На второй день после помолвки он должен был снова ехать на розыски Паскевича.
Снова он с Мальцевым пустился в путь, теперь уж верхом во весь опор. На дороге к Гумрам они, к своему счастью, встретили гонца от генерала с сообщением, что вся армия движется из-под Карса к крепости Ахалкалаки; а в самих Гумрах Грибоедова ждал самый благоприятный ответ от князя Чавчавадзе. Еще дальше они натолкнулись на отряд человек в шестьсот, составленный из разных рот и выздоровевших, назначенный для усиления главного корпуса, но не знавший, где этот корпус находится. Грибоедов прихватил солдат с собой, вспоминая свой переход с русскими перебежчиками из Тавриза. Мальцев наконец оттаял и пришел в восхищение, воображая, что попал на войну. Кроме того, они нагнали Федора Хомякова, тоже блуждавшего в поисках места службы. Грибоедов был рад, что сможет лично представить генералу своего преемника. 25 июля он прибыл в Ахалкалаки, уже занятые русскими войсками. Паскевич принял его превосходно. Заносчивость генерала, на которую столько жаловались прежде, совершенно исчезла с началом войны с Турцией: перед новыми сражениями бесполезно было хвастать старыми победами. Зато Муравьев, мельком увидев Грибоедова в палатке главнокомандующего и узнав о его помолвке с Ниной, столь ясно дал понять свое величайшее неудовольствие, что Паскевич поспешил отправить его с важным заданием подальше от Ахалкалаки. Сергей Ермолов, чьи надежды на благосклонность Нины были навсегда разбиты, напротив, принял известие безупречно, как подобало истинно благородному человеку; Сенявин перенес свое внимание на подрастающую Катю Чавчавадзе [22]22
Он умер, не дождавшись счастья, а Катя вышла замуж в 1839 году за владетеля Мингрелии князя Давида Дадиани.
[Закрыть].








