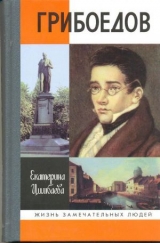
Текст книги "Грибоедов"
Автор книги: Екатерина Цимбаева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 42 страниц)
Были объявлены награды: Паскевичу пожаловали титул графа Эриванского и миллион рублей ассигнациями (250 тысяч серебром) – сумма фантастическая, просто неслыханная! Обрезков не сам, а через невесту (чтобы не забыл жениться!) получил 300 тысяч рублей; генералы Кавказской армии – по 100 тысяч, прочие чины – по нисходящей. Никто не был забыт. В публике Паскевич затмил Суворова, Наполеона; о Ермолове и не вспоминали, разве что с жалостью. Грибоедов, заранее просивший представить его только к денежной награде, которая могла бы поправить полностью расстроенные дела его матушки, получил чин статского советника, Анну второй степени с бриллиантами на шею и четыре тысячи золотых червонцев. Он был очень рад. Заложив орден (а ничего лучшего тот не заслуживал: подумать только, доктор Макнил, старательно и изобретательно затягивавший переговоры, получил от императора такой же!) и разменяв червонцы на серебро, он смог бы расплатиться со своими и матушкиными долгами и впервые в жизни обрести независимость от семейных обстоятельств. Но более всего он был счастлив, что его давний петербургский и крымский приятель, Николай Николаевич Оржицкий, разжалованный в солдаты на Кавказ после восстания 14 декабря, по ходатайству Паскевича, на котором настоял Грибоедов, был произведен в прапорщики – хоть одного из друзей он смог вернуть на привычное место в обществе!
Петербург ликовал. У Грибоедова голова шла кругом от атмосферы всяких великолепий; его рвали на части; без сомнений, он стал человеком дня. 15 марта он присутствовал во дворце на персидском молебстве, куда дамы явились одетыми в русское платье. Потом великий князь Михаил Павлович принял его у себя в новеньком Михайловском дворце, долго расхваливал ему Паскевича и несколько раз заверил в искреннем к нему расположении. Грибоедов понял, что любая просьба генерала о любом представлении его родственников и протеже к любым местам будет с радостью уважена. В этот же день он получил медаль за персидскую кампанию, которой награждали почти всех участников сражений – этим военным знаком отличия он возгордился больше, чем своими гражданскими орденами.
Он разрывался между праздничными обедами и вечерами. Его пригласили на обед в Зимний, на обеды ко всем видным сановникам и генералам, всюду пили за здоровье графа Эриванского, и несколько дней он регулярно просыпался с головной болью. Утром у него появлялись друзья и старые приятели: Вяземский, Владимир Федорович Одоевский, Жандр, Николай Муханов. Чаще всего у него бывал Пушкин, поскольку жил тут же, у Демута. Они, наконец, по-настоящему узнали друг друга и сдружились. Они не виделись лет десять, за это время разница в возрасте стерлась, а славой оба были равны, потому что выступали в совершенно разных областях: Пушкин, несмотря на «Бориса Годунова», не претендовал на звание драматурга; Грибоедов никогда не считал себя поэтом. Характером оба были схожи – горячие, ветреные, склонные к сарказмам, но благородные. Они порой крепко ссорились, почитая самолюбие уязвленным насмешками, но быстро отходили и всюду бывали вместе.
Естественно, Булгарин почти не выходил от Грибоедова. Он с вожделением глядел на груду золота, небрежно лежавшую на столе у Александра, и советовал отдать червонцы ему на сохранение, с тем чтобы он пустил их в рост. Грибоедов согласился, боясь, что иначе растратит деньги прежде, чем успеет разменять. Владимир Одоевский, зайдя к другу как-то утром, не без удивления увидел Булгарина, считавшего монеты в отсутствие хозяина. Кроме того, Фаддей ссудил Грибоедову пять тысяч рублей на первое обзаведение – все это делалось, конечно, по-дружески, без расписок, и Александр не заметил, как лишился 36 тысяч рублей. Кроме того, он передал Булгарину тщательно выверенный список «Горя от ума» с просьбой протолкнуть его через цензуру, как это удалось с третьим актом в 1825 году. Но тут Булгарин потребовал письменных полномочий. Александр небрежно надписал: «Горе мое поручаю Булгарину. Верный друг Грибоедов».
16 марта закружившийся Грибоедов был приглашен на экзамен в Училище восточных языков при Министерстве иностранных дел, устроенный для чиновников, учивших языки частным образом. Нессельроде хотел, чтобы великий знаток персидского языка и нравов поглядел на будущих дипломатов, призванных работать в этой стране. Отказаться Грибоедов не мог, хотя меньше всего желал сидеть на испытаниях в роли важной чиновной особы. Он надеялся, что сумеет выйти в отставку и не ему придется впоследствии служить вместе с этими юношами. Вначале ему показалось интересным наблюдать за их страхами и сосредоточенностью – как это не походило на собственные его университетские испытания, которые он сдавал с полной беспечностью, без мысли о предварительной подготовке! Но он быстро соскучился. К счастью, рядом с ним оказался профессор Сенковский, чьи фантазии об изъятии персидских манускриптов замедлили ему составление Туркманчайского договора. Осип Иванович был еще совсем молодым человеком, чья жизнь как бы раздваивалась: на кафедре Петербургского университета он являлся прекрасным знатоком восточных языков, а среди журналистов был известен неистощимой веселостью, скатывавшейся до балагурства, издевательской критикой всего и вся и нелепым псевдонимом «барон Брамбеус». Сенковский заговорил с Грибоедовым о восточной литературе, которую ученики неплохо переводили, и Александр Сергеевич, не долго думая, на подвернувшемся листе написал свою обработку известной грузинской песни о душе, полюбившейся ему в Тифлисе:
Жива ли я?
Мертва ли я?
И что за чудное виденье!
Надзвездный дом
Зари кругом
Рождало мир мое веленье!
Нет, поживу
И наяву
Я лучшей жизнию, беспечной:
Туда хочу.
Туда лечу,
Где надышусь свободой вечной!
В голове его сложилась и мелодия, и он решил наиграть ее вечером Глинке, поскольку тот интересовался у него восточной музыкой. Листок со стихотворением Грибоедов, вставая после экзамена, конечно, забыл на столе, но Сенковский взял его себе – пригодится.
После недели-другой сплошных празднеств и торжеств Грибоедов сократил светские визиты. Во-первых, они редко доставляли ему удовольствие. Только однажды, в незнакомом доме, он, по своему обыкновению, сел около фортепьяно и неожиданно получил предложение радушной хозяйки сыграть с ней в четыре руки Пятую [19]19
Первоначальное название Шестой.
[Закрыть]симфонию Бетховена. Грибоедов не знал ни способностей дамы, ни этого произведения великого немецкого композитора, поскольку оно носило пасторальный характер, не отвечавший его вкусу. Госпожа Леонтьева усомнилась, сможет ли он сыграть с листа?
«Попробуем», – беспечно ответил он – и сыграл, к вящему изумлению своих друзей. Но это был исключительный случай, обычно же ему казалось скучно на балах и в больших собраниях.
Еще хуже было то, что с конца марта с Кавказа стали приходить на редкость единодушные, постоянные и достоверные свидетельства недопустимой заносчивости графа Эриванского. К Грибоедову стали обращаться за разъяснениями, как к родственнику и правой руке генерала. Что он мог ответить? Он не хотел сплетничать за спиной Паскевича, хотя признавал в душе возможность подобного его поведения. Он не мог этого понять и оправдать. Ермолов когда-то сказал ему: «Испытай власть, потом и осуждай». Власть не власть, но Грибоедов был на самой вершине славы в 1824–1825 годах, когда Россия восторженно приветствовала его «Горе от ума»; был на вершине славы и сейчас. Он не светил отраженным блеском чужих побед – все, кто хоть немного его знал, были уверены, что без него не был бы Паскевич графом, не добилась бы страна столь выгодного трактата. Вяземский, еще не встретившись с ним по возвращении, считал его главным тружеником мира, потому что он во сто раз умнее других и знает персидский народ. Но, несмотря на двойное испытание общим восхищением, Грибоедов не замечал в себе перемены и никто из друзей не находил ее в нем, напротив, удивлялись, видя его таким же, как всегда.
Он решил прямо, по-дружески, выразить Паскевичу свой упрек и сел за письмо. Он начал его известнейшими словами из «Сида» Корнеля – «А moi, Comte, deux mots» [20]20
Ко мне, граф, на два слова (фр.).
[Закрыть], – с которыми Родриго обращается к отцу своей невесты, намереваясь вызвать его на смертельную дуэль. После всех поздравлений, восхвалений и благодарностей Грибоедов указал родственнику, что не всех усердных помощников он представил к наградам, не со всеми вел себя достойно: прежде всего он оскорбил пренебрежением генерала Сипягина, военного губернатора Тифлиса, и Константина Христофоровича Бенкендорфа. Последний был братом главы III Отделения, но человеком превосходнейшим; Грибоедов имел случай его оценить, застряв с ним вместе на несколько дней в карантине на Кавказе. В Петербурге Бенкендорф-старший долго говорил с Грибоедовым об отношении Паскевича к подчиненным. Александр постарался успокоить его, утверждая, что главнокомандующий поступает неосознанно и его поведение скоро переменится.
Из этой беседы Грибоедов извлек важнейшую для себя пользу: он попросил разрешения написать Александру Одоевскому. Каторжанам была строжайше запрещена переписка со всеми без исключения; только письма ближайших родственников пропускались к ним через III Отделение под видом писем к женам декабристов. Бенкендорф не дал прямого согласия, но не запретил оставить письмо в его канцелярии. Грибоедов хотел именно этого; он не столько мечтал послать другу весточку, сколько сочинял истинно литературное послание, где несколькими фразами нарисовал образ благороднейшего юноши, втянутого в благороднейший (Грибоедов не нашел в себе сил поклеветать на бывших единомышленников), но заведомо обреченный замысел (тут он был искренен). Он не надеялся, конечно, что отношение царя к Одоевскому переменится при чтении этого письма, но рассчитывал, что хотя бы Бенкендорф проявит некоторое внимание к родственнику Паскевича, от которого зависела сейчас карьера Константина Христофоровича. Отчасти поэтому, отчасти из чувства справедливости Грибоедов настойчиво убеждал графа Эриванского изменить поведение. Свое первое письмо к нему он не успел толком завершить, его то и дело прерывали, и он не успел перечислить и половины промахов генерала.
Зато следующее письмо он писал не торопясь: «Множество толков о том, что ваш характер совсем изменился, что у вас от величия голова завертелась и вы уже никого не находите себе равного, и все человечество и подчиненных трактуете как тварь. Это хоть не прямо, а косвенно до меня доходило, но здесь бездна гостиных и кабинетов, где это хором повторяется». Он добавил, что, конечно, старается защитить родственника в глазах общества, но намекнул, что сами обвинения не делают тому чести: «В своей защитительной речи я силюсь дать понять, что, возвеличившись во власти и славе, вы очень далеки от того, чтобы усвоить себе пороки выскочки». И снова прямо и твердо потребовал дать награды тем, кто этого заслужил. Он попытался объяснить генералу, что явная и искренняя любовь к нему императора создает ему столь неколебимое положение, к тому же оправданное его успехами на полях сражений, что бессмысленно, глупо и низко вести себя не так, как подобает благородному человеку.
В те же дни сам Николай I послал своему «отцу-командиру» ясный и дружественный совет не забывать о дворянском достоинстве и обязанностях высокого сана. Ни то ни другое послание, судя по слухам с Кавказа, не оказали действия: Паскевич просто не контролировал себя. Но, в сущности, Грибоедова это мало волновало. Он не собирался возвращаться к генералу. Он даже переехал от Демута на снятую квартиру в доме Косиковского, на углу Невского и Мойки. Он намеревался устроиться в Петербурге надолго. Его Александр Грибов чувствовал себя в упоении от величия барина. Это величие поднимало слугу в собственных глазах. Он с небывалым франтовством носил фраки Грибоедова, играл «Барыню» на фортепьяно в его отсутствие (что было ему запрещено) и держал себя едва не вызывающе со всеми посетителями. Грибоедов сам чувствовал, что донельзя разбаловал слугу, но на все упреки такого рода отвечал, что тот – сын его кормилицы или даже его молочный брат. Это не было правдой, Грибов был моложе, но кто стал бы проверять? Грибоедов только посмеивался над дерзостями и самоуверенностью парня.
Сам он чувствовал себя в Петербурге прекрасно. Мрачные воспоминания о 1826 годе стерлись даже у тех, кто не уезжал из столицы. Он же с удовольствием окунулся в жизнь большого города. Нессельроде пытался послать его в Персию с ратифицированным договором, но Александр Сергеевич отговорился болезнью. Он не был болен, однако лихорадки, трепавшие его все прошедшее лето, не прошли бесследно. Его волосы, прежде густые и волнистые, распрямились и поредели, хотя залысин нигде не образовалось; легкий румянец, всегда игравший на лице, исчез. К тому же он сильно загорел под южным солнцем, и загар не вовсе сошел за зиму. Бледным петербуржцам он казался какой-то непонятной желтизной, и некоторые думали, что Грибоедов страдает разлитием желчи. Он охотно использовал общее заблуждение в своих целях. Даже Нессельроде поверил, что он не может пока принять новое назначение, и попросил по крайней мере составить инструкцию для своего, еще неизвестного преемника в Персии.
Грибоедов согласился: он понимал, насколько его советы облегчат будущему дипломату проникновение в сущность иранской политики; но главное – он хотел их довести до сведения самого Нессельроде или хотя бы главы Азиатского департамента Константина Константиновича Родофиникина, сменившего на этом посту Каподистрию. Министр иностранных дел по-прежнему был убежден, что международная политика вершится в Европе, а прочие страны обязаны с покорностью принимать европейские решения. Он совершенно не желал задумываться, чем так важны Англии Индия и Персия, и относил все восточные интересы британцев на счет их известного чудачества. Грибоедов больше не надеялся его переубедить, но думал, что Родофиникин, родом грек, может оказаться проницательнее. Поэтому в своей «Инструкции» он больше всего подчеркивал необходимость любой ценой поддерживать мирные, политически и экономически взаимовыгодные отношения с Аббасом-мирзой и предотвращать всякое вмешательство Ост-Индской компании, имеющей целью «повсеместно давать чувствовать восточным державам присутствие силы и казны ее». Поскольку только что началась Русско-турецкая война, он советовал также привлечь Иран к борьбе против его заклятых соседей.
Дела в департаменте поглощали у Грибоедова почти каждое утро; к счастью, он располагался прямо в здании Главного штаба, и до него от новой квартиры не было и трех минут ходьбы. Вечерами Грибоедов отдыхал душой. Театры были еще закрыты, но репетиции уже шли. Дидло готовил увлекательный балет «Смерть Кука» с туземными плясками и чуть ли не сценой каннибализма, оперная труппа ставила «Волшебную флейту» Моцарта, а из Москвы сообщали, что Шаховской стряпает огромный бенефис для Ежовой: драматическую поэму (лавры «Годунова» ему не давали покоя) «Фингал и Розкрана» по шотландским поэмам Оссиана, с поединками и музыкой волынок, романтический водевиль «Три дела» по восточным сказкам и индийским басням и аллегорию «Меркурий на часах» с представлениями всех жанров театрального искусства. Все это не увлекло Грибоедова. С началом нового царствования русские сюжеты полностью исчезли из репертуара. Огромная сцена Большого театра в Москве использовалась для постановок убогих французских мелодрам и водевилей вроде «Жоко, бразильской обезьяны». Загоскин, Жандр, Варвара Семеновна Миклашевич, Сергей Тимофеевич Аксаков и Шаховской перешли на переводы и переделки; Писарев умер от чахотки в день приезда Грибоедова в Петербург. Просвещенные зрители не очень охотно смотрели в переводе то, что можно было увидеть в подлиннике у французских актеров. Поэтому драматурги ориентировались на малообразованную публику и завлекали ее в театр любыми средствами, хоть каннибализмом.
Грибоедов попробовал исправить ситуацию и набросал план пролога – излюбленного жанра Шаховского, с хорами, балетом, эффектными картинами, скрепленными драматическими сценами. Он посвятил его 1812 году, а главным героем сделал простого солдата-ополченца, крепостного крестьянина. В первом отделении, помимо рассказов о Смоленском и Бородинском сражениях, он изобразил Архангельский собор, усыпальницу царей, где вставали тени великих правителей прошлого – Владимира Мономаха, Ивана Грозного, Петра I – делились военным опытом, пророчествовали новые победы России. Под хор бесплотных духов они поднимались ввысь сквозь расступавшиеся своды храма. Подобное соединение реализма с фантастикой было бы, конечно, немыслимо ни в каком роде искусств, кроме пролога-балета, где Дидло с радостью поставил бы сцену вознесения героев. Реалистическая часть строилась на противопоставлении мужественного русского крестьянина и не менее мужественного французского офицера, на горьких размышлениях благородного русского дворянина об оставленной Москве. Балетные сцены представляли пожар, зимние страдания французов, подвиги народа. Но эпилог получился безрадостным: после победы началась борьба за чины, искательство, крестьянин вернулся к прежним мерзостям, под палку господина и в отчаянии дошел до самоубийства… Трагический финал пришелся бы по вкусу зрителям, готовым смотреть «Смерть Кука» и резни у Оссиана, но снова Грибоедов отбросил перо: – конечно, цензура не допустит ополченца на сцену. Заменить его офицером? Отказаться от эпических картин народного подъема? Не выводить представителя династии Романовых Петра I (ибо и это запрещено)? Что же останется? Прав Шаховской – да здравствует Жоко, бразильская обезьяна!
25 марта наступила долгожданная Пасха. В первый праздничный день знаменитый лгун Павел Петрович Свиньин дал литературный обед для всех известнейших писателей и журналистов. Грибоедов пришел туда вместе с Пушкиным, увидел толпу народа, глазевшую на него, – все ждали от него чего-то необыкновенного, хотя бы рассказов о персиянах. Он почувствовал раздражение и начал рубить сплеча все, что ни подвертывалось в разговоре, и так едко, остро и живо, что остальным пришлось замолчать. После обеда, когда разошлись назойливые поклонники, он успокоился и прочел Пушкину, Вяземскому, Крылову, Гречу, Булгарину и нескольким молодым людям отрывки из «Грузинской ночи». Кое-что он сочинил урывками в прошедший месяц, но больше всего импровизировал и просто рассказывал сюжет: он строился на страшной мести матери проданного крепостного юноши семье князя, отказывавшегося его вернуть, мести с помощью духов апи, мести, обратившейся на саму старуху и ее сына, которого она случайно убивает из ружья. Романтическая тема, столь чуждая прежнему творчеству Грибоедова, многих поразила; Пушкин больше всех увлекся лишенной сказочного ореола восточной жизнью. Отовсюду послышались изъявления восторга; все надеялись вскорости приветствовать появление необыкновенной трагедии, хотя сомневались, дойдет ли она до сцены: слишком сюжет был нов и смел. Некоторые стихи, совсем еще не отделанные, всем показались превосходными, в духе Шекспира:
О, люди! Кто назвал людьми исчадий ада,
Которых от кровей утробных
Судьба на то произвела,
Чтоб были гибелью, бичом себе подобных!
Но силы свыше есть! Прочь совесть и боязнь!..
Ночные чуда! Али! Али!
Явите мне свою приязнь,
Как вы всегда являли…
Слетайтеся, слетайтесь,
Отколе в темну ночь исходят привиденья,
Из снежных гор,
Из темных нор,
Из груды тьмы и разрушенья.
Из сонных тинистых зыбей,
Из тех пустыней многогробных,
Где служат пиршеством червей
Останки праведных и злобных.
Наконец 1 апреля открылись театры! Грибоедов не был на спектаклях с весны 1825 года. Большой театр дал «Гамлета» Шекспира, в переводе с французского, что почти убило пьесу, но Василий Каратыгин все равно был прекрасен. Зато Дидло выдохся и удручил своим Куком. А «Волшебную флейту» Моцарта исполнили так скверно, что Грибоедов не смог решить, кто хуже – оркестр или певцы. Музыка радовала его только в салонах – у Виельгорских, у Владимира Одоевского. Тот стал теперь семейным человеком, занимал тесную квартирку под самой крышей, играли у него редко, чтобы не тревожить младенцев, зато Грибоедов с хозяином по-прежнему пускались в заоблачные выси музыкальной теории, до крайности раздражая этим прочих посетителей, не понимавших ни слова. Несколько раз он бывал на музыкальных утренниках у великой пианистки Марии Шимановской, которой восхищался весь Петербург. По ее просьбе он подарил ей один из своих вальсов (As-dur), который когда-то зачем-то частично записал и не выбросил.
18 апреля Грибоедову выпал один из лучших вечеров его жизни: вместе с Пушкиным и Вяземским он был зван к Жуковскому, жившему во флигеле Зимнего дворца в качестве воспитателя наследника престола. У него оказался только Крылов, обычных докучливых посетителей велено было не принимать. Пять великих русских писателей (если Вяземского можно так именовать), равно остроумных и просвещенных, провели время в необыкновенно приятной беседе. Они возмечтали продлить удовольствие. Вяземский предложил вчетвером, без Жуковского, связанного должностью, пуститься в заграничный вояж. Они могли бы показываться в европейских городах, как жирафы – где еще увидишь столько русских писателей зараз? – посетили бы Париж, Лондон, сочинили бы совместные путевые записки и продали бы их ка-кому-нибудь журналисту, хоть Булгарину или Полевому из «Московского телеграфа». Глядишь, и слава, и деньги. Мысль всем очень понравилась: славой никто из них не был обделен, но что касается денег… К тому же Пушкин, Грибоедов и Крылов никогда не были в Европе и очень желали ее увидеть. Крылов даже готов был расстаться с привычной ленью.
Грибоедов в третий или четвертый раз в жизни готовился в душе к путешествию в желанные края. Но судьба была категорически против. Он получил приглашение на аудиенцию к императору. Николай уделил ему целых полчаса и очень внимательно, с глубоким пониманием расспрашивал о состоянии духа Паскевича, пытаясь решить, чем можно исправить генерала. Он все схватывал на лету, демонстрировал свое расположение и заботу. Грибоедов как мог защищал родича, а сам думал о другом. Вот он наедине с царем, тот сам призывает его к задушевному общению – упустив такой шанс, он стал бы корить себя всю жизнь за трусость. Он по-дипломатически тонко свернул беседу в сторону, заметив: «Ваше величество хорошо понимает, что, помимо суверенной власти, нет ничего, подобного обязанностям главнокомандующего. И совершенно справедливо хочет указать любезному Ивану Федоровичу, что прощать великодушно,притеснять же без причины – неблагородно ».И тотчас дал понять, что плохое в командующем плохо и в суверене; Паскевич не сознает прочность своего положения и проявляет излишние недоверие и грубость, но и император не видит всеобщего сейчас восхищения собою. Он вредит себе в глазах общества неоправданной жестокостью к каторжанам. Какой восторг, какое обожание окружили бы его, если бы он согласился дать столь желанную всем амнистию! Неужели он опасается, что, в ореоле побед, встретит что-нибудь, кроме бесконечной благодарности за милосердие к людям, может быть, виноватым перед ним, но не перед отечественными законами? Грибоедов не упоминал никаких имен, опасаясь в случае неудачи сильнее повредить ссыльным, но молчать он не мог. Он понимал, что его речь самоубийственна, но совесть призывала его высказаться, чтобы впредь не сомневаться, что жестокость царя объясняется его характером, а не недостатком здравых советов. При первом его намеке на людей, которых Николай всю жизнь с непроходившей ненавистью именовал «своими друзьями 14 декабря», император напрягся и побелел, но слушал, не прерывая, и, ничего не ответив, отпустил Грибоедова со словами, что очень доволен, что побыл с ним наедине…
Александр Сергеевич вышел из дворца в сильном волнении. Он чувствовал, что не принес никому вреда; теперь монарх будет по крайней мере знать, что голос правды и чести никогда не смолкнет в России. Но как на нем самом отразится его немыслимо смелая выходка? Ему не пришлось долго пребывать в неведении.
На следующий же день Нессельроде вызвал его к себе и с настойчивостью, которой прежде не выражал, предложил ему назначение поверенным в делах в Персию. Грибоедов возразил, что Россия должна держать там чрезвычайного посла и полномочного министра (дипломатический ранг на ступеньку ниже собственно посла, но выше поверенного), чтобы ни в чем не уступать английскому посланнику. Министр кисло улыбнулся, как десять лет назад, когда Грибоедов потребовал себе повышения на два чина, но признал основательность соображения. Грибоедов подумал, что туча прошла мимо и чаша сия его минует, назначат кого-нибудь починовнее. Однако спустя короткое время за ним снова прислали из министерства. Нессельроде объявил ему, что его требование удовлетворено, и по высочайшей воле он назначен чрезвычайным послом. Требование! Словно он просил о чем-то!
Грибоедов молчал, сотни мыслей теснились у него в голове. Отказаться сейчас, после всех наград и внешних милостей государя, значило немедленную отставку без всякого шанса когда-либо поступить на какую-либо службу в пределах Российской империи. Всего влияния Паскевича, наполовину растерянного, не хватит, чтобы добиться для него прощения того, что император – и общество – сочли бы черной неблагодарностью: должность посла при его чине не могла рассматриваться иначе как почесть. Мог ли он позволить себе отвергнуть ее? Он, правда, хотел оставить службу и уехать в деревню к Бегичеву, но, конечно, не думал об этом всерьез. Одно дело гостить у друга сколь угодно долго, хоть годами; другое дело переехать к нему или сестре навсегда, словно бедному родственнику, без всякой надежды устроить свою судьбу, без всякой надежды жениться. А он мечтал жениться, в его годы это желание становилось все сильнее. Ехать в Персию, где огромное большинство населения и властей имело основания ненавидеть в нем главного творца Туркманчайского договора, значило искушать судьбу. Но Грибоедов понимал, что настойчивость Нессельроде объясняется не восхищением его дипломатическими способностями, которые сам он считал небольшими. Он, правда, лучше всех в России знал обычаи и нравы персиян, а, как показал опыт Обрезкова, даже неплохой дипломат встречает трудности при общении с иранцами, если не подготовлен к ним заранее. Поэтому министр мог искренне считать, что высочайший выбор пал на чиновника, наиболее способного к исполнению важной должности посла в Персии. Но все-таки знание языка – преимущество незначительное и преходящее. Дело было в другом. Совсем недавно Грибоедов разговаривал с императором и получил серьезные основания подозревать, что государь хочет отныне видеть его подальше от обеих столиц. Все это не радовало.
С другой стороны, пост полномочного министра имел немалую привлекательность. Грибоедов получал великолепное жалованье и прочное положение в дипломатическом и светском мире. Он становился вполне независим по службе и свободен от забот о матери. Он мог смело предложить руку любой избраннице и почти не бояться отказа. Он должен был ехать в Иран, но сперва ведь в Грузию, где с недавних – а может быть, давних – пор оставалось его сердце, где он давно лелеял судьбоносные замыслы… И, во всяком случае, имеют ли смысл колебания, не все ли уже решено за него? Приказ о его назначении уже подписан, хотя он все же может еще разрушить свою жизнь и карьеру.
Нессельроде терпеливо ждал.
Грибоедов согласился…
………………………………………………..
Первой его заботой было собрать вокруг себя единомышленников, на которых он мог бы полностью положиться в своей необыкновенно трудной миссии. Во главе Кавказского корпуса стоял Паскевич, что было прекрасно – каковы бы ни были его расхождения с подчиненными, Грибоедов не сомневался, что найдет с ним общий язык и заставит его действовать в общих интересах. Генеральное консульство России в Тавризе возглавлял Амбургер, давний товарищ, чью надежность и преданность Грибоедов проверил во множестве испытаний. Оставалось выбрать секретарей посольства. Александр Сергеевич попросил дать ему молодого Николая Киселева, состоявшего при Паскевиче во время Дей-Карганских переговоров и оказавшегося достаточно полезным. Он был младшим братом Павла Дмитриевича Киселева, пользовавшегося расположением царя, и Нессельроде отказал Грибоедову: «Я берегу маленького Киселева для большого посольства в Риме или Париже, он в совершенстве знает французский язык. У него есть такт, у него приятный характер, и он всюду сумеет приобрести друзей». Грибоедов почувствовал себя уязвленным: разве его французский язык, такт и обаяние хуже, чем у Киселева? Почему же вот уже десять лет его вместо Рима или Парижа держат в Персии? И что значит «берегу»?
Вместо Киселева министр предложил Грибоедову немца Карла Аделунга, сына директора Училища восточных языков, который уже три года осаждал Азиатский департамент просьбами направить его именно в Персию, чей язык великолепно знал. Грибоедов решительно не мог понять, что заставляет юношу проситься в отдаленный, дикий и нездоровый край? Сам он в его возрасте воспринял назначение в Иран как кару за «четверную» дуэль, а сейчас считал свою миссию политической ссылкой. Однако с практической точки зрения увлеченность молодого человека могла принести большую пользу. Представленный новому послу, Аделунг весь светился радостью и восхищался возможностью служить при столь прославленном дипломате.
Другого секретаря Грибоедову навязали сверху. Иван Сергеевич Мальцев происходил из богатой семьи, недавно возведенной в дворянство и владевшей знаменитым хрустальным заводом в городе Гусе. В Персию его отправляли по той же причине, по которой год назад послали туда Обрезкова. Двадцатилетний юноша был почти помолвлен с недавней выпускницей Смольного института фрейлиной Александрой Россети (или Россет, как она называла себя на французский лад). После возвращения Обрезкова любвеобильный император, на которого сухощавая болезненная жена не имела никакого влияния, перенес свое внимание на очаровательную черноглазую полуитальянку. Мальцев, не обладая наследственной дипломатической проницательностью Обрезкова, кажется, оставался в неведении относительно своей участи и считал новую должность вполне соответствующей своим чаяниям и заслугам. Впрочем, Александра Россет была не только красива, но и очень умна, дружила с Пушкиным, Жуковским и многими великими людьми и писателями, и перешли ли ее отношения с государем некую грань, осталось навсегда неизвестным.








