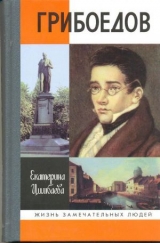
Текст книги "Грибоедов"
Автор книги: Екатерина Цимбаева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 42 страниц)
Встречались, однако, девицы совсем иного склада: они подчеркнуто сторонились сверстниц, считали себя выше их, презирали всех, стремились утвердить новый взгляд на мир – новый по сравнению со старым, каким бы старый ни был. Они не имели силы заявить о себе громко и протестовали скрытно; если же необходимость заставляла их высказаться – поток их слов и чувств сметал всё, разумное и неразумное. Они сами искали себе мужа и никогда не соглашались с выбором родителей, даже не видя претендента на свою руку. Они очень редко становились счастливыми – и только потому, что ощущали себя не такими, как все, даже если их отличия были воображаемыми. Они всегда находились в меньшинстве, но в их среде зрело и развивалось то, что отличало каждое поколение женщин от предыдущего, хотя и сохраняя с ним преемственную связь.
Этот тип, при всей скрытности, иногда производил удивительных женщин. Предельный случай, конечно, это Надежда Александровна Дурова, кавалерист-девица, которую отлично знал как боевого товарища Денис Давыдов и рассказал как-то о ней сестре и зятю Бегичеву без насмешки, с каким-то недоумением перед непонятным явлением. Дурова не открывала своего пола, ничего о себе не говорила – но само ее существование было вызовом привычному укладу вещей. Или чуть менее редкий случай: Маргарита Михайловна Тучкова, юная жена, тайком, переодевшись денщиком, сопровождавшая мужа в походах и сражениях. Ее судьба после Бородина, где Тучков героически погиб, заслуживала глубочайшего сострадания, в Москве ее бесконечно уважали, но это-то было обычным, а вот скрытый молодой задор, переодевание мужчиной – казались удивительны. Ни та ни другая героини не годились в бытовую, не романтическую пьесу, но у них имелись более заурядные последовательницы.
Таковы те женщины России, образы которых были достаточно противоречивы и потому интересны. Разного рода злодейки, ангелы, мотовки, кокетки, неверные жены не привлекали Грибоедова: их легко распознать с первого взгляда, они не вызывали колебаний в оценках, они сто раз выводились у других авторов; в 1823 году их фигуры не казались поучительны. Существовали еще ученые женщины, действительно увлеченные наукой и творчеством, выказывавшие нечто явно новое, например любовь к родному языку. Грибоедов хорошо знал одну из них – Варвару Семеновну Миклашевич, но образ синего чулка, как его ни смягчай, был далеко не однозначен, и он побоялся обидеть Жандра нечаянной критикой; к тому же этот тип был еще крайне редок.
Александр не делился своим замыслом с Бегичевым, потому что тот был слишком занят да, кроме того, предпочитал судить текст, а не план текста. Зато Мария была глубоко встревожена намерениями брата. Она возмутилась его желанием нажить кучу врагов себе – а еще более ей: ведь станут же шептаться, что злая девка Грибоедова указала брату на оригиналы! Ему-то безразлично, он уедет в Петербург, в Грузию, в Персию; а ей жить со всеми обиженными, встречаться каждый день и куда ж деваться от общего раздражения и осуждения? Александр утешал сестру, говоря, что никто из ее знакомых никогда не припишет ей склонности к злословию за спиной друзей; он, конечно, готов в угоду сестре перенести действие из Москвы в какую-нибудь Чухлому, но ведь это не поможет, все равно сплетники будут выискивать черты сходства персонажей с реальными людьми, – и это неизбежно, в этом и состоит его задумка (не в том, чтобы спровоцировать скандалы, а в том, чтобы заставить людей оценить себя и других).
Теперь Грибоедов обдумывал выбор героев-мужчин.
Совсем старых стариков, в париках и кафтанах, не имело смысла изображать: их число в обществе в силу природы вещей всегда ничтожно мало; они порой производят сильное впечатление, но слишком, слишком редки.
Другое дело, старики помоложе. Некогда влиятельные и полезные люди, или, может быть, ничтожные и злобные, или повесы и даже фавориты государыни, или неучи и гонители наук – с возрастом они сравнялись; окружающие относились к ним одинаково. Их уважали за продолжительную жизнь (хотя это едва ли их заслуга), их берегли, но на них не обращали внимания. И они ни на что не обращали внимания, ограничивая свои желания простыми вещами – поспать в уголке, поесть, еще поспать. В отличие от своих активных сверстниц они мало или вовсе не интересовались политикой и людьми. Они оставались глухи ко всему и даже не пытались воображением или подручными средствами преодолеть глухоту. Таких лиц не стоило бы и выводить на сцену, но надо же показать, во что – увы! – могут превратиться нынешние молодые люди. Пусть посмеются сейчас – через полвека будут смеяться над ними.
Над старостью смеяться грех? Но старость не обязательно должна быть бессмысленной. Глухота – большой порок, но слуховые рожки давно изобрели, и даже крыловская мартышка знала, что существуют очки, хотя и не научилась ими пользоваться (вроде графа Гудовича). Поэтому демонстративная глухота в свете – чаще всего изощренное средство поиздеваться над собеседниками.
Вот, например, князь Николай Семенович Вяземский: некогда был храбрым суворовским офицером, получил ранение при Очакове, вышел в отставку полковником; вследствие контузии он стал немного глух, а к старости – еще и неимоверно скуп, но не это в нем было плохо. Сердце он имел доброе, но характер тяжелый и прескверный: чуть что не по нем, уходил к себе в кабинет и спал там целыми днями, молча выходил к столу, молча уходил спать – и так неделю, а то и две. Вся его семья страдала от этих нелепых приступов молчания, в такие дни он и со знакомыми не общался. Потом все проходило – до новой обиды. Детей своих он содержал бедно, и они даже не могли найти себе достойной пары в жизни. Порой его глухота была способом избежать неприятного разговора: князь прибегал к ней, если сыновья просили выделить им деньги или жена требовала купить что-то по хозяйству. Но стоило заговорить о подарке ему – слух князя чудесным образом прояснялся.
Впрочем, молчаливые старички все же лучше старичков шумных, судящих вкривь и вкось: те становятся похожи на старух. Всего интереснее старики-рассказчики, много повидавшие и умевшие живописать былое. Беседы с ними поучительны – раз, другой, третий; потом начинаешь замечать, что их истории повторяются и, прослушав каждую неоднократно, стараешься впредь не попадаться им на глаза.
А пожилые мужи? Еще в силе, в важных чинах, отцы семейств, хозяева в собственном доме, они растеряли уже надежды молодости, не приобрели еще старческого покоя и, если жизнь их сложилась не вполне удачно, мечутся, пытаются чего-то достичь последними усилиями, – и так и просятся в комедию. Тут Александру сразу же приходил на ум его дядюшка Алексей Федорович, по-своему достойный сострадания, как и все поколение, исковерканное Французской революцией. Теперь Алексей Федорович не давал даже балов и маскарадов и почитал смыслом жизни удачно пристроить дочь Софью, не затратив больших средств за полным их отсутствием. Свою старшую, Елизавету, он выдал за генерала Паскевича, как показало время – удачно, хотя зять не имел состояния и должен был постоянно возить семью с места на место, перемещаясь по делам службы. Для Софьи отец мечтал о надежном московском пристанище. Других забот у него не было.
Кое-кто из его ровесников еще служил – но какой в этом смысл, если не держишься за жалованье и прочие выгоды, как за последнее средство к существованию?
Грибоедов знал множество чиновников всякого ранга и не видел особой необходимости изображать их в пьесе. Служащий мужчина в расцвете лет – не тип в частной жизни; сознание важности своей деятельности или своей персоны, конечно, проявляется в его поведении, но оно не связано с полезностью его труда. Человек может быть очень важен, занимаясь пустым делом, и наоборот. Достойные фигуры не заслуживают осмеяния, а глупое самохвальство или подхалимство легко показать на примерах более старых или более молодых персонажей. Зрители сами легко решат, каких чиновников в России больше: толковых или нет. Грибоедов встречал, особенно среди военных, яркие фигуры, полезные Отечеству – и Кологривов, и Ермолов обладали множеством достоинств. И даже мнительный и завистливый Муравьев, при всех своих несовершенствах, заслуживал уважения искренним желанием отличиться на благо родины. В Министерстве иностранных дел таких людей Грибоедову встречалось меньше; конечно, Завадовский, Всеволожский и даже Кюхельбекер могли бы служить с толком, но под гнетом неразумного начальства растрачивали себя впустую. Сам Грибоедов много и удачно действовал в Персии – но разве это к чему-нибудь привело? В других департаментах дела шли еще медленнее, хуже и часто совершенно в никуда. Все это прекрасно понимали: в молодости нельзя было не служить (то есть можно, конечно, но лучше все-таки было приобрести хоть какой-то чин), но в пожилых летах люди не выходили в отставку, только если достигали высших рангов, хотя бы сенаторского звания, – или уж от полной безысходности и разорения.
Вернувшись в Россию после пятилетнего отсутствия, Грибоедов с горечью заметил, что и в среде военных произошли огромные перемены. До Кавказа не докатилась волна аракчеевских нововведений – да Ермолов и не дал бы им ходу. Но в Москве Александр начал встречать военных, которые прежде не имели бы ни малейшей надежды выбиться из сержантов. В 1815-м или даже в 1818 году у молодых офицеров был за плечами боевой опыт, Париж, слава героических свершений – это придавало им значительность в собственных глазах, в глазах солдат и окружающих, значительность слишком очевидную, чтобы показывать ее нарочитой важностью и высокомерной грубостью к низшим. К 1823 году немногие из героев 1812 года получили продвижение. Большинство из них покинули службу, и им на смену, особенно в армии, выдвинулись новые типы, срисованные с Аракчеева: неродовитые, провинциальные, малокультурные, безынициативные, малоуважаемые, они не смогли проявить себя в боях, зато оказались весьма кстати при устройстве военных поселений и обучении солдат муштре и фрунту. В свете их очень не любили, особенно после семеновской истории: против такого именно полковника Шварца, жестокого и заносчивого, восстал три года назад Семеновский полк, не привыкший к неблагородным командирам, и приятель отрочества Грибоедова, князь Иван Щербатов, до сих пор сидел в крепости за участие в том выступлении. В Москве недоумевали: конечно, императору виднее, но жертвовать потомками княжеских родов ради какого-то Шварца – едва ли дальновидно. Теперь в армии награждались тупость и исполнительность, а живость и образованность преследовались. Даже дуэли в армии почти перевелись – видно, новые офицеры мало беспокоились о своей чести. Только гвардия, сплошь родовитая, воспитанная лучшими педагогами, воспринявшая традиции Отечественной войны, еще давала отпор Аракчееву. Но Семеновский полк был расформирован…
Многие молодые люди оставляли службу и, если не имели пристрастия к хозяйству или творчеству, женились и проводили время в бездействии, еле оживляемом игрой на флейте или игрой в карты. Грибоедов, хотя был бесконечно привязан к Степану Бегичеву, в глубине души сознавал, что его друг не использовал в жизни и сотой доли отпущенных ему талантов и сил. Правда, Степан не обладал ни малейшим честолюбием и приносил пользу уже одним своим облагораживающим влиянием на окружающих, которое в полной мере испытал и Грибоедов. Однако оно могло бы распространяться на большее число людей. Дмитрий Бегичев, например, сочинял роман, был деятелен, рассчитывал на высокий пост, на котором мог бы принести много добра. Степан же пребывал в праздности. Александр не был уверен, что его друг не прав. Так и Крылов полагал, что лень – единственное надежное прибежище от любых бед. Бегичев же считал, что каждому свое: Грибоедов должен служить и творить, поскольку не создан для безделья, сам же Степан не станет зря расходовать энергию, потому что в России это будет работой впустую.
Впрочем, не все молодые люди почитали бесполезный труд бессмысленным. В любом труде они видели единственный смысл – выгоду. Они полагали важным в начале карьеры не иметь своего мнения ни о чем, чтобы легче впитывать мнение вышестоящих и, следовательно, более опытных особ; ни в коем случае им не противоречить, потому что те лучше знают служебную жизнь; быть со всеми в приязненных отношениях, потому что в юности трудно решить верно, кто хорош, кто нет; оказывать всем небольшие услуги, поздравлять всех именинников и именинниц, потому что вежливость, хотя обременительна, может приносить пользу в будущем. Можно было бы сказать, что в них есть что-то от мольеровского Тартюфа или от Джозефа Сэрфеса из «Школы злословия» Шеридана, если бы не одно важное отличие: те герои лицемерили и знали это; молчаливые юноши были искренни! Они искренне считали, что их долг молчать, слушать, слушаться. Да и то сказать, выскажешься не вовремя, тотчас и получишь публичный нагоняй (с молодежью старики не церемонились): «Ах вы, негодные мальчишки! служили без году неделю, да туда же суетесь судить и рядить о политике и критиковать поступки таких особ! Знаете ли, что вас, как школьников, следовало бы выпороть хорошенько розгами? И вы еще называетесь дворянами и благородными людьми – беспутные!» Нужно было обладать из ряда выходящей смелостью и уверенностью в себе, на манер Чаадаева, чтобы заявить о себе в полный голос.
К примеру, Степан Жихарев, хотя еще в пансионе проявлял склонность к творчеству, не смел сам о нем судить, а полностью полагался на мнения известных авторов или актеров; буквально на коленях приближался к Английскому клубу или к Державину; при любом высказывании ссылался на знатных лиц; восхищался особами в орденах и лентах; наилучшей похвалой драматургу считал аплодисменты вельмож или, сверх чаяний, высочайшее одобрение; каждый день объезжал пол-Москвы с визитами именинникам – и всё не по зову сердца, не по взятой на себя обязанности, не даже ради карьеры или какой-то прямой выгоды, а по глубокому убеждению, что таков его долг младшего, подчиненного, неопытного. Выполнение долга перед людьми, как и перед Богом, приносило ему удовлетворение, само себя вознаграждало – а там и другие, может быть, вознаградят. Только среди лошадей и собак Жихарев становился похож на человека, имеющего свой взгляд на окружающих. А многие подобные ему и того не умели!
Например, пресловутые архивные юноши, служившие в Москве в архивах министерств без жалованья, ради простейшего продвижения в чинах. Безличные, бессловесные, безымянные, они едва заслуживали внимания, разве что выходили повесами. О них начальник одного из архивов, Павел Григорьевич Дивов, как-то удачно сострил, что их недостатки происходят оттого, что им с детства льстили все, от математического учителя до танцевального, а было бы полезнее послать их в манеж, потому что лошадь не льстит: неумелого тотчас сбросит. Во всяком случае, в искусстве верховой езды архивные юноши далеко уступали кавалеристам, были неловки в бальных залах, дичливы с дамами, рыхлы от неподвижности. В пьесе им не следовало бы и имени давать, чтобы не придать чрезмерной значимости, но как без имени? Назвать какой-нибудь русской литерой – ее придется прочесть как «г-н Наш» или «г-н Добро» – никакая фамилия не могла бы быть более «говорящей». А назвать латинской литерой – публика может счесть их иностранцами. Но все-таки фамилии они не заслуживают! Похожи на них были и пожилые, вечные юноши, неудачники, без семьи и пристанища, заядлые разносчики сплетен и скверных новостей, которыми привлекали к себе минутное внимание собеседников.
Среди молодых людей, как и среди девиц, непременно в любом поколении встречались те, кто не походил на большинство, кто проявлял новый образ мыслей и чувств, который, вероятно, только в следующем поколении завоюет всеобщее признание. Это были представители будущего, это был круг Грибоедова, его друзья, он сам, наконец. Ему казалось труднее всего объективно изобразить свою среду, не рискуя впасть в приукрашательство или встретить осуждение приятелей. Он предпочел бы выбрать героя из младших сверстников, не участвовавших в войне и оттого чувствовавших свою неполноценность и обиду на судьбу. Александр легко мог бы придать персонажу черты забавной раздражительности, присущие Кюхельбекеру или молодому Пушкину, их романтичность и восторженность. Но он был слишком к ним близок, чтобы судить, насколько они типичны, а в чем неизмеримо превосходят сверстников, помимо творческого гения. Выбор представителя молодого поколения он пока отложил.
29 апреля 1823 года Бегичев женился. Грибоедов явился на свадьбу в самом веселом расположении духа. Перед венчанием священнику вздумалось дать молодым наставления в семейной жизни, и Александр, желая рассеять скуку, еле слышно перетолковывал на ухо Степану эту речь – каждое напыщенное или пустое выражение он доводил до предела, превращая в пародию на самое себя. Бегичев едва сдерживался, чтобы не расхохотаться в церкви. Однако долгая церемония, запах благовоний, монотонные звуки песнопений утомили Грибоедова. Он замолчал, в какой-то момент ему стало мерещиться, что он присутствует не на свадьбе, а на похоронах. Эти мысли удручили его – на Востоке их восприняли бы как дурное предзнаменование. Он с трудом удержал венец над головой Степана. Тот заметил бледность друга: «Что с тобой?» – «Глупость, мне вообразилось, что тебя отпевают».
Наконец всё счастливо закончилось. Бегичев недели на три заперся у себя, принимая только по необходимости родственные визиты. Грибоедов отдался развлечениям, которые предоставляла москвичам установившаяся теплая погода. 1 мая, спустя долгие годы, он съездил с дядей, Марией и Сонечкой в Сокольники и нашел там мало перемен: только поезда графа Орлова уже давно не было, за смертью старого вельможи. Целый месяц Александр ежедневно бывал в свете – на всех балах и праздниках, куда Настасья Федоровна вывозила Марию, на всех пикниках и дачах у знакомых и малознакомых. Даже Бегичев заметил перемену в образе жизни друга и как-то с неудовольствием указал ему на несерьезность и даже странность подобного поведения. Но Грибоедов спокойно отвечал: «Не бойся! время мое не пропадет». Бегичев про себя решил, что Александр изучает типы, которые мог бы использовать в пьесе, и перестал возражать. Так оно, в общем, и было, но Грибоедов не наблюдал жизнь со стороны, а искренне веселился, стремясь прежде всего стереть в памяти персидские страдания.
Впрочем, он вернулся из Персии, полный не только поэтических замыслов. В Москве ему встретился Александр Всеволожский, брат Никиты, такой же музыкант и богач, но характером не буян и повеса, а человек спокойный, солидный и предприимчивый. От предков-золотопромышленников он унаследовал не только заводы, промыслы и земли, но и жажду приумножать капиталы, однако не нещадным порабощением крестьян и работников, а смелыми, авантюрными затеями. Всеволожский очень заинтересовался рассказами Грибоедова о богатствах Грузии и Персии, текущих в карманы англичан, хотя Россия к этим странам ближе и может быть им намного полезнее. Вдвоем они положили основать компанию по торговле с Персией: Всеволожский должен был найти вкладчиков с деньгами, Грибоедов – обеспечить участие персидской стороны. Они втянули в дело француза Шарля Эттье, прежде служившего офицером в Иране, в котором Грибоедов увидел идеал усердного и исполнительного комиссионера. Летом Всеволожский отправлялся по своим делам на нижегородскую Макарьевскую ярмарку и звал Грибоедова с собой. Тот обещал. Дома ему жилось скверно. Семейство, как всегда, собиралось в Хмелиты, но Настасья Федоровна ежедневно по многу раз напоминала сыну о необходимости возвратиться к Ермолову. Александр, однако, не собирался этого делать и просил о неопределенном продлении отпуска для поездки на лечение за границу без сохранения жалованья. Нессельроде, через ходатайство Ермолова, просьбу уважил. И Грибоедов с легкой душой уехал пока вслед за Бегичевым в его тульское имение (тем более что опять остался без всяких средств). В родном доме он получил один-единственный подарок: камердинера взамен умершего Амлиха. Им стал юный сын преданной служанки семьи, Александр Грибов, выбранный хозяином за веселый нрав и забавное сходство имен. Грибоедов сразу же его отчаянно разбаловал и обращался с ним почти по-приятельски, а не как со слугой.
Деревня Бегичева Лакотцы располагалась не очень живописно – в низине, на берегу какого-то ручья. Александра встретили необыкновенно радушно. Он предполагал пробыть здесь только несколько дней и уехать в Нижний, что-бы не мешать молодым, но Степан и слышать не хотел о его отъезде. Места в доме всем хватало; кроме Грибоедова, сюда приехал Дмитрий Бегичев с женой; однажды заехали навестить Жандр с Варварой Семеновной, но надолго не остались: Миклашевич показалась такой старой и вздорной на фоне жен Бегичевых, что все с радостью расстались с нею.
География окрестностей была впечатляющей. В одном дне пути находился Липецк, и семейство Бегичевых несколько раз за лето непременно ездило туда попить воды и повеселиться. Конечно, лучшее общество уже не приезжало сюда, но дворяне соседственных имений оставались верны Липецку: в их глазах он имел одно достоинство – близость. Грибоедов, наслышавшись издавна об этом курорте, побывал там. Галерея и зала для пьющих воды, собор, бани и особняки, построенные едва пятнадцать – двадцать лет назад, еще не успели обветшать, целебные источники исправно извергали железистые воды, но городок портили какие-то рвы, прорытые неведомо зачем Петром I, и оружейные заводы, им же основанные. Грибоедов надеялся встретить здесь Степана Жихарева или кого-нибудь из петербургских знакомых, но не случилось.
На полпути к Липецку лежала Лебедянь – Бегичев обещал другу съездить туда в сентябре на знаменитую конскую ярмарку. Там можно будет повидать степных помещиков, офицеров-ремонтеров, барышников и цыган со всей страны. Туда-то Жихарев и все любители лошадей явятся всенепременно, а кроме них – бесчисленные купеческие семьи, московские модистки и лавочники с залежавшимся товаром, картежные шулеры и куча всякого сброда. И незачем Грибоедову будет тащиться к Всеволожскому в Нижний – тот с делами и без него управится, а полюбоваться ярмарочной кутерьмой и балаганами можно будет и в Лебедяни.
Наконец, совсем рядом с Лакотцами расстилалось Куликово поле – незасеянный, незастроенный памятник великого прошлого Руси. Погожим днем верхом, чтобы не тащиться в экипажах по пыльной дороге, хозяева с Грибоедовым поехали на него взглянуть. Оно оказалось очень обширным; кругом, куда ни посмотришь, не видно конца, и зелень травы сливалась у горизонта с голубизной неба. Местные жители считали, что в самом центре поля есть большая яма, которая во времена, когда здесь кочевали татары, была кладовой с железными створами и служила для хранения отнятых у русских денег; потом эта кладовая обвалилась, заросла травой и затерялась в бескрайних просторах поля. Грибоедов загорелся идеей ее отыскать, но братья Бегичевы его отговорили: во-первых, было, на их взгляд, жарко (они ведь не сидели пять лет в Персии!), а во-вторых, в отрочестве они изъездили все поле, но ничего не обнаружили, даже наконечников Мамаевых стрел. Грибоедов жалел, что с ним нет сестры, но молодая хозяйка понимала, что нельзя пригласить Марию и Александра без их матери, не нанеся той оскорбления, а Анна Ивановна отнюдь не желала начинать семейную жизнь ссорой с влиятельной и вредной старухой. Александр сперва порывался отправиться к Всеволожскому, но вскоре неспешное течение чудесных летних дней заставило его забыть об отъезде. Он столько разъезжал в последние годы, и так приятно было никуда не спешить, не думать ни о каких делах: «Любезный друг. Пишу тебе из какого-то оврага Тульской губернии, где лежит древнее господское обиталище приятеля моего Бегичева. Опоздавши выездом из Москвы, чтобы сюда перенестись, я уже предвидел, что не поспею к тебе в Нижний; однако думал выгадать поспешностию в езде время, которое промедлил на месте. Ничуть не так. Отсюдова меня не пускают. И признаюсь: здесь мне очень покойно, очень хорошо. Для нелюдима шум ярмонки менее заманчив… Коммерческие наши замыслы тоже рушились, за безденежием всей компании. Сговоримся в Москве, склеим как-нибудь, коли взаимная выгода соединит нас, право это хорошо, а если нет: утешимся, взаимная, добрая приязнь давно уже нас соединила, и это еще лучше. Прощай, любезный Александр; не замешкайся, будь здоров, помни об своем милом семействе, а иногда и обо мне. Верный твой А. Грибоедов».
В Лакотцах Александр отдохнул душой. Он наслаждался теплом без давящей духоты, с освежающим легким ветерком, запахом воды и сада. Здесь можно было лежать в траве или на сене, не опасаясь смертоносных насекомых; можно было срывать листья или цветы, не опасаясь уколоться колючками. Братья Бегичевы ездили верхом или удили рыбу, дамы проводили время в саду. Грибоедов вставал с солнцем, по привычке, вывезенной с Востока, завтракал еще в одиночестве и уходил в конец сада в деревянный домик-беседку, который захватил для себя одного и где не позволял себя беспокоить. Друзей он видел только за обедом, легким по летнему времени. После обеда все в доме по обыкновению спали, но Александр редко предавался этому занятию, успевшему ему приесться в Персии. Он снова отправлялся в сад и возвращался уже к вечернему чаю. Чайный стол устанавливали в хорошую погоду на лужайке в цветнике, и веселая компания засиживалась за ним допоздна. Летний вечер – лучшее время в деревне. Предзакатное солнце золотило зелень деревьев, на землю опускалась умиротворяющая тишина; где-то вдали призывно мычала корова, просясь домой, или лаяла собака; летали запоздавшие шмели; потом медленно, словно нехотя, алый закат гас, вокруг пламени свечи мелькали мотыльки; потом появлялись – увы! – комары и приходилось с сожалением уходить в дом. Грибоедов садился за рояль и играл до глубокой ночи. И Бегичевы, и Грибоедов каждый день с нетерпением ожидали наступления вечера. Днем Александр работал, за чаем он прочитывал написанные сцены, выслушивал похвалы или замечания, но не отвечал на них до следующего дня, пока не обдумывал и не исправлял, что находил нужным; потом разговор переходил на прототипы, на московских знакомых и далее перескакивал с одного на другое, на Петербург, Персию. Беседа всегда была увлекательной, Грибоедов шутил, снимая напряжение умственной работы.
Так летними месяцами 1823 года рождалось «Горе от ума». В эти же дни, где-то далеко на юге, в Кишиневе и Одессе, среди светской суеты и служебных ссор, Пушкин писал первую главу «Евгения Онегина».
* * *
Цензор
А как-с заглавие, позвольте вас спросить?
Сочинитель
«О разуме».
Цензор
Никак-с не можно пропустить.
«О Разуме»! нельзя-с; оно умно, прекрасно,
Но разум пропускать, ей-богу! нам опасно.
А. Е. Измайлов.
Грибоедов не стал заранее определять список действующих лиц, полагая, что они сами появятся по мере надобности. Впрочем, было ясно, что в доме должны жить молодая девица – центр притяжения для молодых людей, ее отец (потому что в доме без мужчины нельзя было бы дать бал или праздник), ее служанка (чтобы ей было с кем поговорить, с подругой она была бы не так откровенна). Правда, в обычном особняке очень редко жили только хозяева, без родственников, гостей, без матери или пожилой дамы, состоящей при юной барышне. Со стороны отца было легкомысленно, неестественно и даже скандально оставлять дочь без женского пригляда. Но такая дама отчасти сдерживала бы и самого хозяина – ей могли бы пожаловаться на него служанки. К тому же ей нечего делать в пьесе. Пусть ее отсутствие косвенно характеризует отца. Грибоедов желал острого начала, которое без всяких пояснений, столь утомительных в завязке большинства пьес, ввело бы зрителей в суть происходящего и в характеры персонажей. Поэтому он счел возможным поселить в доме молодого секретаря отца (не личного, разумеется – личные секретари бывали лишь у знатнейших лиц, занимавших важнейшие посты в государстве, но просто служившего при нем в департаменте и жившего у него в доме, поскольку своего жилья не имел, а снимать квартирку в Москве не было принято).
Первая сцена не вызвала у Бегичевых никаких порицаний, и Грибоедов был доволен, она ему самому нравилась, он оставил ее без изменений с самой ранней редакции и не сжег, когда Степан разругал весь первый акт. Под ремаркой, описывающей гостиную с часами, он написал «Утро, чуть день брежжится», чтобы показать и начало долгого драматургического дня, и собственно время: зимой в Москве солнце встает между половиной восьмого и началом девятого, смотря по месяцу года – столько и должны показывать большие часы. Почему зимой? Чуть дальше персонажи ясно скажут, что на дворе зима.
Служанка Лизанька (Бегичев был против такой формы имени, и Грибоедов всюду его сократил до «Лизы», кроме первой сцены) нехотя просыпалась, и ее отрывочные реплики с невероятной легкостью передавали все то, что обыкновенно драматурги растягивали на долгий и скучный диалог двух встретившихся слуг или иных героев, из которых один только что прибыл, ничего не знал, требовал разъяснений и получал их – а с ним и зрители. Этот избитый прием надоел всем до дрожи, и Грибоедов считал, что великолепно избежал его. Его слушатели не поняли только одного и полагали, что и все прочие впоследствии не поймут, почему Лиза на вопрос Софьи «Который час?» отвечает «Седьмой, осьмой, девятый». Что автор имел в виду: Лиза врет на ходу, чтобы поторопить барышню, или отвечает наобум, а потом справляется с часами? Но Грибоедов не сомневался, что все ясно: час, разумеется, именно девятый, раз уже светает; наобум Лиза назвала бы именно его (она же видит рассвет); сперва она пытается ответить, со своей точки зрения, исчерпывающе: «Всё в доме поднялось» (что еще нужно знать барышне?), но повторно спрошенная о часе,бросается к часам и высчитываетрасположение стрелок: маленькая стрелка в самом низу – седьмой, это точка отсчета, а далее по пальцам «восьмой, девятый». Так считают дети, так считают полуграмотные слуги. В этом-то суть реплики. Лиза – не разбитная горничная из «Модной лавки» Крылова, столь ярко там изображенная, что Шаховской перенес ее в свою комедию «Пустодомы» с указанием источника. В столицах часто встречались крепостные девушки, родившиеся и выросшие в городе, с деревней никак не связанные, мечтавшие выбиться в люди: они учились отлично шить, отпрашивались на работу в модную лавку, что хозяевам было выгодно, поскольку они получали высокий оброк с их доходов; правдами и неправдами добивались вольной; а там, как говаривала крыловская Маша, «покупали себе мужа-француза», пусть самого ничтожного и нищего, лишь бы иметь право открыть свою лавку с гордым именем на вывеске «мадам N» – и уже свою дочь они отдавали в пансион или институт и выдавали за разорившегося дворянина. Бывшая крепостная роднилась с благородным сословием! Лиза не похожа на них, она и не думает о подобном будущем, не желает, как ясно из второй сцены, войти в фавор у барина. Ей вполне достаточно буфетчика Петруши. В глубине души и в манерах она – простая девушка, хотя одета наверняка в барышнины платья со споротыми лентами (так было принято, и платья почти непотертые, потому что барышня едва ли надевала их больше трех-четырех раз), но честолюбия Лиза лишена, грамоте особенно не училась, вот и считает по пальцам – зачем ей знания?








