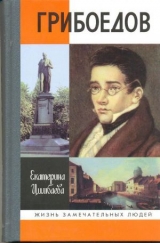
Текст книги "Грибоедов"
Автор книги: Екатерина Цимбаева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 42 страниц)
В русском обществе влияние французов успешно боролось с влиянием Карамзина. Русский язык был еще так мало разработан, что на нем было трудно выразить сложную мысль; французский же предоставлял готовые выражения, которые легко было нанизывать друг на друга по давно устоявшимся грамматическим правилам. Те, кто не желал думать, думали по-французски; нужно было особое пристрастие ко всему родному, чтобы говорить и писать по-русски. Сам Грибоедов, хотя легко по-русски писал, разговаривал по-французски. Однако в своем московском окружении он встретил решительных приверженцев отеческих языка и обычаев. Друзья Владимира Одоевского, юные «любомудры», обсуждали серьезнейшие труды немецких философов по-русски. Кюхельбекер ратовал за старину во всем, даже в одежде (впрочем, эту мысль, хотя и не столь прямолинейно, ему вложил в голову Грибоедов). Кто же был прав?
Суть моды на все родное была весьма различна. Она могла выражать желание новых поколений приблизиться по духу и внешности к предкам, с их простотою нравов, удобством в одежде, с их цельностью взгляда на мир, лишенного всяческих романтических метаний, исканий и страданий. Вальтер Скотт искал в героическом прошлом Шотландии забвение ее нынешнего жалкого положения, – но Россия-победительница не нуждалась в подобном утешении. Поэтому идея сближения с предками далеко не заводила и могла не значить ничего.
А могла и значить! Карамзин однажды выступил против петровских преобразований, затронувших только дворян: «Дотоле от сохи до престола россияне сходствовали между собою некоторыми признаками наружности и в обыкновениях; со времен Петровых высшие сословия отделились от низших, и русский земледелец, мещанин, купец увидел немцев в русских дворянах, ко вреду братского единодушия государственных сословий». Карамзин видел во внешних различиях языка, одежды и воспитания причину неприязни крепостных к господам и полагал возможным преодолеть эту неприязнь введением русского костюма в дворянский обиход. Он даже пытался подать пример, нося бекешу с кушаком, хотя не дошел до того, чтобы отпустить бороду.
Однако некоторые молодые люди полагали, что перемена во внешнем виде и даже в языке помещиков не сможет сгладить бедствий крепостного права. Просветительские настроения Карамзина были им чужды. Историк предлагал едва ли не «маскарад», то есть приспособление высших к понятиям низших ради собственного спокойствия и безмятежного существования. При желании его мысль можно было трактовать и как смирение просвещенной части общества перед темной невежественной толпой, и как достойный презрения отказ от своих привычек и взглядов ради выгоды или безопасности. Другое дело, если видеть в следовании привычкам народа стремление вызвать его доверие, – не опуститься до него, но поднять его до себя, заговорив с ним на его родном языке! Тогда можно было бы вернуться к допетровским временам во всем – предоставить «умному, бодрому народу» слово, завести вече или Земский собор по примеру Ивана Грозного… О таких желаниях нельзя было говорить вслух даже в Английском клубе, но для того и создавались тайные общества, чтобы молодежь высказывалась в них за национальную самобытность со всеми вытекающими отсюда антиправительственными последствиями.
Грибоедов позволил своему Чацкому выразиться достаточно неопределенно: любомудры поклонники Карамзина и члены тайных обществ могли равно принять его монолог за согласие с их взглядами:
Воскреснем ли когда от чужевластья мод?
Чтоб умный, бодрый наш народ
Хотя по языку нас не считал за немцев.
Как европейское поставить в параллель
С национальным? – странно что-то!
Ну как перевести мадами мадмуазель?
«Ужли сударыня!!»– забормотал мне кто-то…
Вообразите, тут у всех
На мой же счет поднялся смех.
Главным тут было возмущение против засилья жалких «французиков из Бордо» в русском свете, против их влияния на умы, моду и нравы дворян, против подавления ими самобытной русской мысли. Однако же Чацкий с ними боролся; и двоюродный брат Скалозуба, достойнейший человек, недавно бросил службу и начал читать и размышлять; и племянник княгини Тугоуховской князь Федор занялся наукой – случилось так, что никого из них не оказалось на балу Фамусова, но все-таки Грибоедов, бросив героя одного в равнодушной московской толпе, поддержал его незримо присутствующими сверстниками.
Но вот стрелки часов приблизились к двенадцати, надвинулась ночь, гости волей-неволей стали покидать бал. Грибоедов отыскал прежде невиданный ход: перенес действие в парадные сени и показал разъезд гостей. Ничего подобного сцена никогда не видела, и первые слушатели были ошеломлены смелостью замысла. Персонажи расходились, и для их выхода на сцену не требовалось иного обоснования, кроме выкриков лакеев: «Карета таких-то!» Графиня-внучка, ее бабушка, Платон Михайлович и Чацкий были равно недовольны, хотя по разным причинам, прошедшим днем, и только Наталья Дмитриевна хвалила бал, а сердилась, по своему обыкновению, на мужа. И вдруг на сцену ворвался Репетилов… Грибоедов создавал этот персонаж с особым удовольствием, держа в уме блестящие актерские возможности Сосницкого. Роль должна была вызвать у того подлинный восторг.
Появление Репетилова, запнувшегося об порог, Бегичев осудил за фарсовость, неуместную в высокой комедии. Но Грибоедов от нее не отказался, ибо как иначе он мог показать состояние Репетилова? Написать, что тот «вполпьяна»?
Бог знает, как поймет эту ремарку актер (кроме Сосницкого), что такое для него «вполпьяна»? А падение все уясняет: столичный дворянин, воспитанник лучших танцмейстеров, может споткнуться, только если совершенно уже не в состоянии следить за собой; и в то же время он не настолько пьян, чтобы, упавши, остаться лежать. Встает он «поспешно». Он находится в той стадии подпития, когда человек начинает любить весь свет, обниматься с первым встречным и каждому изливать душу, жалуясь на судьбу или хвастаясь несуществующими достижениями. Друзья Грибоедова забавлялись, пытаясь решить, в чем Репетилов отчаянно врет, сочиняя на ходу, а что имеет под собой хоть крупицу истины. Уж больно много намешано в его речах! Он московский житель, член Английского клуба, отец семейства, а между тем рассказывает о том, как строил огромный особняк в Царском Селе (потом Грибоедов перенес его на Фонтанку – в еще более дорогое и фешенебельное место). Конечно, это можно примирить: в молодости он тратил огромные средства, лез в зятья к министру-немцу, женился на его дочери, но выгод от этого не получил, промотался, проигрался, имения его были взяты под опеку в интересах детей, и теперь он бесцельно слонялся в Москве, в отставке и пытался навязаться в друзья к известным молодым людям. Такая судьба возможна, хотя преувеличивал он все безбожно:
Танцовщицу держал! и не одну:
Трех разом!
Пил мертвую! не спал ночей по девяти!
Все отвергал: законы! совесть! веру!
Однако Репетилов понадобился Грибоедову не для того только, чтобы развеселить публику выходками полупьяного болвана. Фамилия его означала «повторяющий». И он действительно словно бы пел с чужих голосов. Все то, что не мог позволить себе сказать Чацкий; все то, что не мог позволить себе сказать автор, – он вложил в уста Репетилова. Цензура решила бы, что высокие идеи и умные мысли осмеиваются болтовней Репетилова, но ведь тот и сам осмеивается, сам показан ничего не разумеющим, ни в чем не разбирающимся переносчиком непонятных ему речей:
Я сам, как схватятся о камерах, присяжных,
О Бейроне, ну о матерьях важных,
Частенько слушаю, не разжимая губ;
Мне не под силу, брат, и чувствую, что глуп.
Но если Репетилов чего-то не понимает, зрители могут сделать скидку на его комическую глупость, – а сами понять истинную серьезность затронутых им тем! Более того, он в общем-то соображает, кому и что говорит. Чацкого он пытается зазвать на заседание секретнейшего союза, где нужны его ум и знания; а Скалозуба зовет хотя к тому же «князь-Григорию», но только на шампанское. Загорецкого он никуда не зовет и еле с ним разговаривает о водевиле. Старухе Хлестовой он и про водевиль не говорит, а обещает исправиться и поехать спать к жене. Словом, он умеет, даже в разболтанном состоянии, применяться к разным людям. Грибоедов это подчеркнул тем, что с будущим тестем и тещей Репетилов «пускался в реверси» – сложную и своеобразную игру, своего рода карточные «поддавки», в которую сознательно и часто проигрывать («ему и ей какие суммы спустил!») весьма трудно, тут надо быть мастером своего дела.
Скалозубу Репетилов признается в своей неприязни к немцам, вполне обоснованно полагая, что полковник, как служака аракчеевского толка, не должен любить остзейских соперников по армии. А с Чацким он говорит о тайных собраниях… Значит, он думает или прямо знает, что тому интересна эта тема? Сам Чацкий ничего не может об этом сказать – некому, да и неуместно на балу в чужом доме. Иное дело Репетилов. Конечно, его «секретнейший союз» по четвергам в Английском клубе выглядит смехотворно. Грибоедов собрал ему в приятели-заговорщики разных шалопаев, картежников и крикунов во главе с Толстым-Американцем. Он дал графу блистательную характеристику, затмившую все эпиграммы прежних авторов:
Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,
И крепко на руку нечист;
Да умный человек не может быть не плутом.
Толстой остался весьма доволен своим портретом, но почел справедливым некоторые места исправить: «В Камчатку черт носил» – «ибо сослан никогда не был»; «в картишки на руку не чист» – «чтобы не подумали, что ворует табакерки со стола» – своя честность и у него была: разорить противника в картах – это одно, а украсть чужую табакерку – проступок, недостойный дворянина.
Но пусть смешон репетиловский союз, пусть пародиен – в основе всякой пародии лежит какой-то истинный факт. Если пустоголовые франты и шулеры собираются для политических разговоров, подражая кому-то, значит, им есть кому подражать. Только оригиналы обсуждают политические темы уже всерьез… И перечень этих тем Репетилов дал…
Большего никакой автор не мог себе позволить в пьесе, рассчитанной на постановку в императорском театре. Грибоедов и без того сказал очень много.
Едва затронув важнейшие вопросы, он старался разбавить их фарсом: монолог Репетилова про «государственное дело», которое «еще не созрело», он завершил насмешкой над водевильным сотрудничеством, в чем и сам был небезгрешен:
Другие у меня мысль эту же подцепят,
И вшестером глядь водевильчик слепят,
Другие шестеро на музыку кладут,
Другие хлопают, когда его дают.
Резкие слова Репетилова в конце монолога о немцах:
Лахмотьев Алексей чудесно говорит,
Что за правительство путем бы взяться надо.
Желудок дольше не варит —
он почти свел на нет откликом Загорецкого:
Извольте продолжать, поверьте,
Я сам ужасный либерал,
И рабство не терплю до смерти,
Чрез это много потерял.
«Либерализм» всеобщего умиротворителя и доносчика казался так смешон, что и страшные слова о Правительстве и рабстве звучали смешно (и все-таки Грибоедов их потом убрал, ублажая цензуру).
Не будь у Репетилова задачи – вынести на суд фамусовского мира передовые идеи и мысли, – он был бы просто лишним в пьесе. Правда, из его болтовни спрятавшийся в швейцарской Чацкий узнал слух о своем сумасшествии или политическом преступлении («Я думаю, он просто якобинец», – заявила княгиня), но в распоряжении драматурга было множество других средств сообщить Чацкому о сплетне (да и зачем, собственно?). Репетилов, кроме того, взбадривал четвертое действие и давал гостям удобную возможность высказаться перед человеком, оказавшимся не в курсе новостей.
Грибоедов так старательно расписывал Репетилова, словно надеялся оттянуть развязку. Первый ее вариант Бегичевы осудили: Чацкий становился свидетелем ночного свидания Софьи и Молчалина, внезапно выскакивал из-за колонны, Молчалин в ужасе скрывался, но Софья гордо и гневно отвечала на обвинения Чацкого в измене («Вот я пожертвован кому!»):
Какая низость! подстеречь!
Подкрасться и потом, конечно, обесславить,
Что ж? этим думали к себе меня привлечь?
И страхом, ужасом вас полюбить заставить?
Отчетом я себе обязана самой,
Однако вам поступок мой
Чем кажется так зол и так коварен?
Не лицемерила и права я кругом.
Тут появлялся дважды одураченный Фамусов, рубил сплеча правых и виноватых, и, наконец, Чацкий извинялся перед Софьей («Я перед вами виноват»), порицая не ее, а ее выбор. И Фамусов завершал пьесу последним афоризмом:
Ах! Боже мой! что станет говорить
Княгиня Марья Алексевна!
Долгий день заканчивался ничем. Приехавший Чацкий уезжал, но хозяева оставались в прежнем положении: Молчалин не был разоблачен ни перед Фамусовым, ни перед Софьей, ни перед зрителями. Завтра повторится все то же, только без Чацкого, лишнего в этом доме. Зеркало отразило и этот день, и мириады похожих дней в будущем…
Однако Бегичевы уже давно говорили, что при таком финале Софья не вызывает авторского порицания за опрометчивый и недостойный выбор, который, право же, не заслуживает поощрения. Но Грибоедов не хотел лишать героиню гордой независимости. Застигнутая врасплох, полная отчаяния и раскаяния, Софья превратилась бы в заурядную простушку, а вся пьеса – в какую-то мещанскую драму в немецком или французском вкусе. Недоставало только, чтобы и Молчалин под конец раскаялся в подлости!
Закончив, хотя бы вчерне, комедию, Грибоедов решил прочесть ее Вяземскому, надеясь услышать дельные суждения. Князь выразился довольно уклончиво, заметив, что в пьесе нет веселости. Есть ум, есть острота, насмешливость, едкость, даже желчь; есть, здесь и там, бойкие черты карандаша, схватывающего с удивительною верностью и живостью карикатурные сколки. Но это сатира, а не драма; импровизация, а не действие. О комических положениях, столкновениях, нечаянностях нет тут и помина. Один Чацкий, и то против умысла и желания автора, оказывается лицом комическим и смешным, например, когда Софья Павловна под носом его запирает дверь своей комнаты на ключ, чтобы от него отделаться. И все же Вяземский приветствовал комедию Грибоедова – он утверждал, что не только в России, на сценическом безлюдье, но и на другой, гуще населенной сцене, например французской, она была бы блестящим явлением.
По сути он сделал только одно замечание: после падения Молчалина с лошади Чацкий говорил, намекая на излишнее волнение Софьи: «Хотел бы с ним убиться для компаньи». Вяземский счел, что влюбленному не следует употреблять пошлое выражение «для компаньи», а лучше передать его Лизе. Грибоедов согласился и тут же, присев к столу, разделил реплику на две части: «Хотел бы с ним убиться. – Для компаньи?»
Но остальную критику Вяземского он не принял. Вполне естественно, что высокая комедия не особенно смешна – что смешного в мольеровских «Мизантропе» или «Дон Жуане»? А что касается недостатка естественности в действии, «нечаянностей», тут Грибоедов был решительно не согласен – вся пьеса именно и была построена на естественном ходе времени, просто Вяземский понимал это слово иначе: он не видел обдуманной интриги и почитал это недостатком или неумелостью автора. Грибоедов не стал спорить. Он почувствовал, что Москва дала ему все, что могла; теперь надо не отделывать шероховатости и изъяны, а начинать пробивать пьесу к зрителям и читателям. Прежде он думал провести лето в имении Бегичева, как в прошлом году. Но внезапно изменил решение. Бездеятельный летний отдых теперь его не соблазнял.
Прежде он намечал на лето один замысел. Кокошкин, несмотря на неудачу водевиля «Кто брат, кто сестра», по-прежнему считал Грибоедова лучшим (точнее, наиболее оригинальным) московским драматургом. Кокошкин весной 1824 года был в приятнейшем волнении. На Петровской площади главный московский градостроитель О. Бове почти уже завершил великолепное здание нового императорского театра и обещал совершенно его отделать к ближайшему сезону. А рядом купец В. Варгин перепланировал свой дом, намереваясь сдать его в аренду императорской труппе. Честно говоря, Кокошкин не думал, что его актерам необходимы сразу две сцены: огромная сцена в театре Бове и несколько меньшая в доме Варгина. Но раз за постройку платила казна, он не собирался отказываться. Его делом было обеспечить репертуар, причем такой, чтобы наполнить зрителями многоярусную залу Большого, как его сразу стали называть, театра. Московская труппа прежде не использовала столь необъятное пространство, тут требовался иной размах. Директор обратился к Грибоедову с просьбой написать какой-нибудь необычный пролог, которым могли бы открыться первые сезоны либо Большого, либо Малого театра.
Грибоедов сначала с жаром принялся за работу. Он думал написать стихами два акта, построив их вокруг фигуры благороднейшего деятеля Москвы и России, основателя Московского университета, Михаила Васильевича Ломоносова. В первом акте юноша-рыбак спал бы на берегу Ледовитого океана и видел яркий сон: волшебные явления всех муз, которые предлагали ему свои дары, и весь Олимп в его божественном величии. Тут можно было бы использовать пространство сцены сверху до рампы, естественно ввести всякого рода музыку, танцы, пение, шествия. И все это связать высокой и простой мыслью о пробуждении в русском крестьянине тяги к искусствам, знаниям, свершениям во имя людей, о преодолении им немыслимых препятствий, оков и безвестности. Кто же не знал невероятного подвига Ломоносова, подвига мысли?!
Юноша просыпался бы в очаровании; сон преследовал его и в море, и на необитаемом острове, куда он отправлялся с другими рыбаками на промысел. Душа его получила жажду познания неведомого – и он убегал из дома. Тут можно было бы показать океан, лодки, бурю, что так великолепно получалось у Дидло.
Второй акт изобразил бы Ломоносова в Москве. Тут сменялись бы картины московских видов, возрожденных после пожара…
Замысел получился таким необъятным, что испугал самого Грибоедова. Он был слишком озабочен своей комедией, чтобы вложить бездну сил в театральный пролог, а писать его спустя рукава не желал.
В конце концов Кокошкин обратился к проверенным поставщикам театральных действ и дивертисментов, рассчитанных на принятые вкусы: всё на месте, всё красочно, ничто не занимает зрителей до конца.
11 октября 1824 года Малый театр начал свой первый сезон увертюрой Верстовского, за ней шел совместный спектакль Шаховского и Дидло «Лилия Нарбонская, или Обет рыцаря» с хорами, пантомимой, рыцарскими сражениями, поединками и прочим, и в заключение – коротенький балет Дюпона.
6 января 1825 года в Большом театре раздались первые такты и звуки: ставили гигантский пролог Михаила Дмитриева «Торжество муз», где было всё, кроме хорошего вкуса и новизны. Уж на что Москва старомодна, но Дмитриева единодушно разругали за архаизм, который и при Озерове был бы архаизмом.
На открытии двух великих театров не прозвучало ни одной русской мысли, ни одного современного русского слова. Подумать только! Малый театр мог открыться пьесой Грибоедова, а открылся поединками рыцарей, которые и в Европе триста лет как устарели, а в России никогда не были в моде. Да и в любом случае место им в цирке! Пролог муз хоть имел смысл в храме искусства, а схватки рыцарей на мечах!.. Но виновата ли дирекция, если лучшие драматурги ничего не пишут, а, занятые своими делами, сбегают из Москвы в Петербург? А виноваты ли драматурги, если то, что они все-таки пишут, цензура не пропускает и им надо самим бороться за своих детищ? 28 мая, никому не сказав ни слова, ни с кем не простившись, оставив Александра Грибова упаковывать вещи, Грибоедов захватил свою рукопись и, тайно даже от Бегичева, поскакал в Петербург. Он уехал из Москвы в довольно тяжелом расположении духа: ему было немного стыдно перед Степаном за внезапное бегство. И все же он не оглядывался, сознавая необходимость отъезда. Постепенно толчки экипажа и всякие задержки и неурядицы превратили его уныние в досаду на дорогу, досада сменилась усталостью, и все чувства исчезли. Погода стояла омерзительная. Дважды, 29 и 30 мая, шел снег! Грибоедов продрог, вынужден был ночевать на станции и только на четвертые сутки добрался до Петербурга. В пути делать ему было нечего, только размышлять. Внезапно ему в голову пришла новая развязка, и он решил вставить целую сцену перед появлением Чацкого из-за колонны. Он был доволен собою – получилась живая, быстрая вещь, стихи сыпались искрами. Правда, он так и не сумел разоблачить низость Молчалина естественным путем и вынудил его откровенно и опрометчиво высказаться перед Лизою:
Мне завещал отец:
Во-первых, угождать всем людям без изъятья…
Такая искренность в Молчалине была малоправдоподобна. Зато в характере Софьи весь эпизод ничего не изменил, только унизил ее, наказав презрением самого Молчалина ее недостойный выбор:
Я в Софье Павловне не вижу ничего
Завидного…
А главное, ничуть не изменился смысл пьесы. Софья сохранила гордость:
Упреков, жалоб, слез моих
Не смейте ожидать, не стоите вы их…
Молчалин был разоблачен и в ее глазах, и в глазах зрителей. Однако с ним не было покончено. Ведь Софья, хоть и требовала от Молчалина немедленно, до зари покинуть дом, добиться своего не смогла бы. Фамусов так и не узнал ничего дурного о своем секретаре, а расскажи ему о нем Софья – он не поверил бы ей («хоть подеритесь – не поверю»). Он просто счел бы признание дочери попыткой отвести удар от Чацкого. И, конечно, Молчалин, подслушав столкновение Чацкого и Фамусова из-за двери своей комнатенки, никуда бы не ушел – зачем? Доказательств его вины нет. День так и уходил в вечность, оставляя все вопросы нерешенными, дабы с утра повторяться по тому же кругу. Конец комедии остался прежним – его просто не было.
Попутно Грибоедов в порыве вдохновения переменил едва не половину строк: где-то сократил, где-то расширил текст, исправил шероховатые рифмы и почувствовал, что теперь всё гладко, как стекло. В качестве последнего штриха он изменил заглавие, поскольку слова «Горе уму» казались слишком прямолинейно-мрачными, почти трагическими, и их было трудно произнести. Новое звучало лучше.
«Горе от ума» было завершено.








