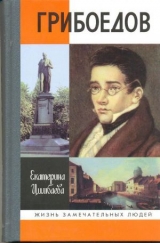
Текст книги "Грибоедов"
Автор книги: Екатерина Цимбаева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 42 страниц)
Соприкосновение в одной квартире таких незаурядных и отчасти схожих людей, как Грибоедов, Бестужев и Рылеев, могло бы привести к взрыву – и не привело. У них было слишком много точек соприкосновения, чтобы они могли быстро наговориться и рассориться. Все трое любили русскую литературу и мечтали возвысить ее значение – тут заслуги Грибоедова были подавляющи. Все трое были связаны с различными коммерческими проектами – и тут Грибоедов внимательно изучал опыт Российско-американской компании, надеясь использовать его и создать аналогичную Российско-персидскую компанию, от которой польза стране была бы неизмеримо большей, чем от Аляски. Все трое были прежде кавалеристами, не имели особых воинских отличий, зато несколько раз дрались на дуэлях – тут никто не превосходил других. Наконец, – и самое главное, – все трое питали искреннюю ненависть к деспотизму и крепостничеству, преследовавшим в России всякую смелую инициативу, всякую свободную мысль. Тут Бестужев и Рылеев далеко опережали Грибоедова в резкости выражений, в готовности к любым решительным мерам, которые избавили бы Отчизну от разъедающего ее зла.
Александр Одоевский нисколько не охлаждал накаленную атмосферу политических, литературных и деловых споров в его квартире. Он был немного младше друзей, но характером, творчеством и взглядами полностью им соответствовал. Кроме Рылеева и Бестужева (который в конце концов просто переехал к Одоевскому, уступив свою квартиру нуждам жены Рылеева), здесь постоянно пребывали князь Евгений Оболенский, единственный молчун по причине заметной шепелявости, но человек впечатлительный и деятельный; сверстник Одоевского Петр Каховский, бледный и донельзя романтичный молодой человек; зимой здесь приветствовали старшего брата Бестужева Николая, военного моряка и художника, восхищавшего всех благородством, твердостью и способностями к разнообразнейшей деятельности; бывали здесь и старые друзья братья Мухановы, бывал Поливанов. Тут Грибоедов познакомился с юным шалопаем Львом Пушкиным, младшим братом опального поэта – он привозил порой сведения о брате, отправленном из Одессы в село Михайловское, куда перевез вместе с собой героев «Евгения Онегина» и сочинял теперь вторую и третью главы романа в стихах. Наконец, весной сюда же из Москвы явился Кюхельбекер, потерявший очередное место службы и ищущий новое (Грибоедов потребовал от Булгарина пустить все в ход и пристроить Вильгельма хоть куда-нибудь – Фаддей отчаянно начал хлопотать, но пока безуспешно). Порой вся компания встречалась у Рылеева или у князя Оболенского в гвардейских казармах, однако чаще всего собрания назначались у Одоевского, по обширности и удобству его квартиры.
Грибоедов очень быстро освоился среди новых друзей, стал им как брат. Однако Одоевский убедительно просил его не приглашать к себе некоторых знакомых, прежде всего Булгарина и Греча. Не нужно было иметь ум и дипломатические навыки Грибоедова, чтобы разобраться в причинах подобной просьбы.
Яростные противоправительственные речи его друзей сами по себе значили немного – в них не было для Грибоедова ничего нового и неожиданного; скорее он был бы удивлен, услышав восхваления правительства из уст сверстников своего круга. Однако он довольно скоро осознал, что волею случая оказался в самом центре одного из тех тайных обществ, о которых давно слышал, но членов которых прежде не знал. Рылеев, Оболенский, А. Бестужев и уехавший осенью в Киев Сергей Трубецкой составляли Коренную думу Северного общества, созданного для проведения в жизнь всех преобразований, о которых мечтали молодые люди России. После января 1821 года, когда распался Союз благоденствия, пытавшийся действовать путем пропаганды и просвещения народа, наиболее решительные его члены избрали новую тактику, почерпнутую из опыта испанской революции 1821 года: тактику военного переворота. На этом этапе Бегичев и многие подобные ему отошли от движения. Напротив, Рылеев и Александр Бестужев только тогда к нему и примкнули. Теперь в членах Общества ценились не ораторские способности, но организационные, не количество вольнодумных стихов, но количество штыков, которые они могли привести под знамена революции.
Рылеев, А. Бестужев, Одоевский и Оболенский довольно долго размышляли, надо ли открывать Грибоедову всю глубину их замыслов. Бестужев и Одоевский выступали против, не желая подвергнуть опасности его талант, который погиб бы в случае краха заговора. Рылеев с ними соглашался, но в то же время возможности Грибоедова очень его интересовали. У Грибоедова не было солдат под командованием, но у него были очень важные связи. Прежде всего А. А. Столыпин и Н. С. Мордвинов – обоих Рылеев рассчитывал привлечь в состав Временного правительства, если переворот удастся произвести. Оба славились высокой честностью и доблестью, оба занимали положение, не сопоставимое с положением самого Рылеева или Бестужева. Столыпин был другом Сперанского, а его младший брат Дмитрий Алексеевич командовал на юге корпусом и славился, как Михаил Орлов, просветительской деятельностью среди солдат. Если бы Грибоедову, с его красноречием и дипломатическим даром, удалось привлечь обоих Столыпиных, Мордвинова и Сперанского к организации переворота, это принесло бы Обществу огромную пользу.
Еще важнее была дружба Грибоедова с Ермоловым. Главнокомандующий Кавказской армией привлекал настойчивые взгляды заговорщиков. Он был вполне независим в своих действиях, известен свободными речами и покровительством ссыльным, он мог всей своей воинской силой поддержать действия Северного общества с юга. Якубович уверял Бестужева, что при Ермолове есть настоящее тайное общество, и предлагал его помощь восстанию. Кроме того, на юге, в районе военных поселений Киева, Чернигова и Тульчина, находилось несколько центров Южного общества, разрозненных и мало сообщающихся между собой. Сергей Трубецкой для того и поехал в Киев, чтобы установить с ними связи, но его усилия не увенчались пока большим успехом. Даже и тут ум и способности Грибоедова могли бы пригодиться, связав воедино отдельные нити заговора.
Эти обсуждения велись за спиной Грибоедова, хотя он не мог их не замечать. Наконец Рылеев решился с ним поговорить довольно откровенно. Грибоедов никогда не был пылким юношей, если речь шла не о любовных развлечениях, а о серьезных вещах. Он имел практический опыт государственной деятельности, который и не снился Рылееву и его друзьям. Прежде всего он постарался выяснить планреволюционеров. Его не было. Рылеев и сам это сознавал, расплывчато представляя себе цареубийство или отстранение императорской семьи, назначение Временного правительства, публикацию «Манифеста к русскому народу» и дальнейшее проведение необходимых преобразований. Каких именно? Член Общества Никита Муравьев, которого Грибоедов помнил по университетским годам, начал писать конституцию, по образцу английской, но недавно женился на прекраснейшей женщине и пока охладел к политическим идеям.
Все это не вдохновило Грибоедова. Он очень четко понимал, что Ермолов отнюдь не придет на помощь революции. Он знал о генерале больше, чем тот подозревал, и не сомневался в его осторожности и благоразумии. Однако в случае успеха переворота – совершенного и полного успеха – Ермолов вполне мог его поддержать. Неопределенность замыслов друзей немного успокоила Грибоедова, он не верил, чтобы они вышли за пределы голословных обсуждений. Но в то же время он знал горячий, увлекающийся нрав Одоевского, Бестужева и Рылеева – и поневоле начал беспокоиться за них. Он ни на мгновение не проникся их мечтами, но что он мог им посоветовать? Ждать и надеяться, что когда-нибудь отдаленные потомки, авось, решат вопросы, которые уже сейчас, сегодня требовали безотлагательного решения? Просить смириться с ужасами крепостного права, которые столь резко клеймил его собственный Чацкий? Просить повременить, пока годы не угасят их пыл? Такие увещевания были бы и низкими, и бессмысленными – они отвратили бы друзей от него самого, но не от смелых дерзаний. Рылеев ведь и сам предвидел их обреченность и опубликовал в «Полярной звезде» на 1825 год строки, показавшиеся многим пророческими (он скрыл их от цензуры в «Исповеди Наливайко»):
Известно мне, погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа…
Но он шел с открытыми глазами и самыми слабыми надеждами навстречу судьбе. Грибоедову оставалось решить, примкнуть к друзьям или порвать с ними все связи. Одно он ответил сразу: от формального членства в Обществе он отказался категорически. Едва скинув иго матери, он построил жизнь так, чтобы не оказаться в условиях слепого и безоговорочного подчинения. Даже в армии, состоя при Кологривове, он вел особую, почти неконтролируемую деятельность и, хотя был подотчетен генералу, никаких точных приказов от него не мог получать. Еще менее он зависел от Нессельроде, Ермолова и даже Мазаровича – инструкции определяли общее направление его трудов, да и то он трактовал их весьма широко, а порой действовал вопреки воле начальства (например, когда сталкивал Турцию и Персию), и всегда ответственность за дипломатическое поражение или победу лежала на нем одном. Тем более он не собирался отдавать себя в полное распоряжение Рылеева и Оболенского, хотя порядок в Северном обществе был достаточно демократичен. Однако отказ подписать какие-то бумаги о членстве сам по себе ничего не значил, и Грибоедов и Рылеев это понимали. Собственно, эти бумаги Рылеев тут же сжигал, чтобы не скомпрометировать членов в случае провала заговора. Но с Грибоедовым эта игра была ему не нужна – слово Александра связало бы его сильнее любой подписи.
Грибоедов не мог порвать с друзьями, переехав от Одоевского и прекратив всякое общение. И не только потому, что это было бы актом трусости и раболепия перед властью. Он привязался к юноше, полюбил его от души, считал своим питомцем, желал ему блага, но не мог и его просить порвать с Рылеевым и Бестужевым. Фактически он мог сделать только одно – уехать за границу наступившей весной и предоставить событиям идти своим чередом. Но кем бы он почувствовал себя тогда, услышь он о гибели Одоевского в самоубийственном выступлении?! Конечно, Грибоедов ни в коей мере не нес ответственности за судьбу юного родственника, тому было без малого двадцать три года, почти столько, сколько Грибоедову во время суда за дуэль и ссылки в Персию. Грибоедов справился с жизненными испытаниями, справится и Одоевский. Но эти рассуждения Александру не помогали: разве, думал он, Бегичев не попытался бы отвратить от него любые невзгоды, будь он зимой 1818 года в Петербурге, а не в Москве? Разве обязанности старшего друга ограничиваются молчаливым сожалением?
Грибоедов против воли вынужден был заняться делами Общества. По сравнению с пылкими друзьями он чувствовал себя умудренным опытом стариком, хотя был их ровесником, да и они высоко ценили его ум и хладнокровие. Они настолько верили в его проницательность, что однажды двоюродный брат Оболенского, член Общества Сергей Кашкин, прислал князю Евгению письмо, где сообщил о загадочной смерти общего родственника и умолял «упросить Грибоедова собрать точные сведения об этом деле. Это его обязанность – попытаться проникнуть в эту тайну». Столь же откровенно друзья просили его разобрать запутанные отношения между разными частями Общества. Прежде всего Александр вдребезги разбил надежды Рылеева на помощь Кавказского корпуса. Рассказы Якубовича о наличии в Грузии тайной организации он полностью опроверг и твердо заверил друзей, что абсолютно невозможно ему было бы о ней не знать – в конце концов, он всю жизнь занимается изучением общественных связей! А цену словам Якубовича они и сами знают – или Бестужев до сих пор верит всему, что тот наговорил ему о Грибоедове? Этот аргумент подействовал. На Кавказе не на кого рассчитывать, кроме Ермолова, а на Ермолова рассчитывать бесполезно.
Потом Грибоедов исследовал до глубочайшей глубины все планы переворотов и только один из них признал оставляющим шанс на успех – совместное одновременное выступление всех северных и южных сил при нейтралитете Ермолова, при наличии обдуманного Временного правительства и перечня хотя бы ближайших преобразовательных мер. И, конечно, без цареубийства, которое никому в стране не понравится. Все это Грибоедову представлялось химерой, но Рылеев и Бестужев справедливо указывали, что удалась же военная революция в Испании и в Южной Америке при Симоне Боливаре. – Там силы были иные. На стороне испанской революции стояли кортесы (парламент), недовольные королем, на стороне Боливара – народ, боровшийся с завоевателями-испанцами. А что в России? Сто прапорщиков хотят изменить весь государственный быт России! Эти резкие слова Грибоедова облетели все Общество. Они были не вполне справедливы, среди членов встречались даже генералы, но суть дела от этого не менялась. Возможности заговорщиков были и в самом деле невелики. Однако, если собрать все воедино: бывшую дивизию Михаила Орлова, продолжавшую любить опального командира, корпус Дмитрия Столыпина, полки членов Южного общества, батальоны и роты Северного и всех, кого могут увлечь общий пример и страстные речи Бестужева и других ораторов, – выйдет немало!
Северяне полагали, что попробовать стоит. Грибоедов соглашался, в глубине души имея в виду, что отсутствие единства в Обществах само собой сведет выступление на нет. Однако же если действовать, то без промедления. И так уже четыре года почти публично обсуждались замыслы цареубийства – и до сих пор они не дошли до правительства в сопровождении прямых улик! Так не может продолжаться вечно. Рано или поздно в Обществе появится какой-нибудь болтун, вроде Репетилова, или Молчалин, принятый за дельного человека, а ставший предателем. Конечно, доверие дворян друг к другу – вещь прекрасная, но всякое ведь случается, достаточно какой-нибудь красавицы-шпионки… Грибоедов решил весной съездить в Киев, поговорить с Трубецким, попытаться установить связи на юге – а там, скорее всего, убедить Петербург в полной нереальности всех надежд. На всякий случай он убедил Аркадия Алексеевича Столыпина поехать вместе с ним: вдруг его брат в чем-ни-будь окажется полезен?
Разумеется, вести переговоры с южанами должны были бы члены Коренной думы, но общее безденежье не позволяло ехать за свой счет, а по делам службы ни Рылеев, ни Оболенский или Бестужев не могли придумать себе предлог для посещения Киева. У Грибоедова же он имелся – для него это был бы прямой путь к Ермолову: до Керчи и морем на Кавказ. Он не испытывал радости при мысли о возвращении на дипломатическую стезю, но этим он заплатил бы невысокую цену за помощь Одоевскому. К тому же мечты Рылеева понемногу проникли и Грибоедову в душу, он начал против всей очевидности надеяться, что, может быть, ему удастся пробудить в Ермолове демона честолюбия и вовлечь его в зреющий заговор – это была бы огромная поддержка восстанию.
Отъезд запланировали на начало мая, по просухе, но Столыпин внезапно тяжело заболел. Грибоедов ждал, а пока развлекался, как мог. Прошедшей зимой он много работал и был рад отдохнуть. Помимо политических замыслов, он вместе с Никитой и Александром Всеволожскими продолжил организацию компании по торговле с Персией, на этот раз более успешно. Теперь он должен был ехать в Грузию отчасти для того, чтобы на месте решить коммерческие вопросы. Одновременно он живо и своеобразно описал свои впечатления от петербургского наводнения для сборника, который Греч готовил к печати, но не выпустил из-за высочайшего запрещения упоминать об этом несчастье. Тогда, по просьбе Бестужева и Рылеева, Грибоедов взялся что-нибудь написать для их «Полярной звезды» на 1825 год. Он перевел «Пролог в театре» к поэме Гёте «Фауст», перевел вольно, неполно, добавляя от себя в надежде на невнимательность цензуры: в споре Директора театра, Поэта и Комического актера, в котором Гёте не принял ничью сторону, Грибоедов твердо выступил на стороне Поэта, резко отвечавшего Директору:
Поди, ищи услужников других.
Тебе ль отдам святейшее стяжанье,
Свободу – в жертву прихотей твоих?
На этом монологе Грибоедов оборвал гётевский текст, который в оригинале заканчивался приказом Директора выполнять его распоряжения без лишних слов. Отрывок Грибоедова напечатали без возражений, и он задумался, не перевести ли всего «Фауста». Такой титанический труд занял бы его на несколько лет, но его приятели полагали, что дело это бесплодное: невозможно даже сказать, какую сцену пропустит цензура.
Зато новые друзья активно поддержали Грибоедова в полемике по поводу «Горя от ума». Кюхельбекер еще в Москве, в своей совместной с Владимиром Одоевским «Мнемозине», первым написал о комедии Грибоедова как о произведении «истинно делающем честь нашему времени, заслуживающем уважение всех читателей, кроме некоторых привязчивых говорунов», а потом поместил в «Московском Телеграфе» очередное свое стихотворное послание к Грибоедову, которое едва не заставило Александра покраснеть от избытка похвал. Бестужев, в обзоре состояния русской словесности в «Полярной звезде» на 1825 год, первым вывел «Горе от ума» из ряда всех предшествующих пьес, что позволяло ему самому устанавливать себе законы: «Люди, привычные даже забавляться по французской систематике, говорят, что автор не по правилам нравится – но пусть их говорят, что им угодно». Орест Сомов, приятель Рылеева и Бестужева, сотрудник всех подряд журналов, первым доказал наличие в «Горе от ума» действия, не основанного на подготовленной интриге. И все, от Владимира Одоевского до Сомова, вступились за Чацкого, которого не только Писарев и Дмитриев с присными, но даже Пушкин считал болтуном, если не глупцом. Отзыв Пушкина в письме к Бестужеву, который сразу же стал известен Грибоедову, огорчил бы его (Пушкин только стихи высоко оценил: «половина войдет в пословицу»), но Пушкин услышал комедию всего раз и не сумел полностью в ней разобраться: не понял характера Софьи, ибо не имел музыкального образования, не понял Чацкого, зато понял Грибоедова и признал, что единственный умный человек в пьесе – автор. Рылеев и Бестужев не поддержали пушкинскую критику; они видели в Чацком единомышленника и с радостью приняли бы его в Общество.
Друзья Грибоедова захотели всемерно способствовать распространению точного текста «Горя от ума». Несколько дней в квартире Одоевского встречались офицеры разных петербургских полков и записывали пьесу под диктовку самого автора. Попутно и не однажды Александру делали замечания на иные неудачные слова и выражения, и он порой их исправлял. Это был самый последний этап его работы над рукописью; внеся некоторые изменения, он решительно поставил точку и больше к пьесе не возвращался. Наступившим летом, в пору офицерских отпусков, списки от Одоевского разлетелись по всей России и встречались повсюду восторженно, как самые полные и достоверные.
Но если литературная судьба «Горя от ума» счастливо устраивалась на глазах Грибоедова, его театральная судьба оставалась печальной. Нелепо было ставить на сцене один третий акт, а всю пьесу цензура не пропускала. Весной в Театральной школе молодежь, во главе с Петром Каратыгиным, братом гениального Василия, затеяла тайком от цензуры поставить комедию. Грибоедов обрадовался и с жаром отдался репетициям. Он сам проходил с учениками все роли (Каратыгин играл Чацкого) и как-то привез с собой Александра Бестужева и Кюхельбекера, которые похвалили исполнителей, чтобы не лишать их веры в себя. Пьеса оказалась слишком сложна для юнцов, зато Бестужев дал им на время свой парадный адъютантский мундир, и мальчики с упоением по очереди щеголяли в настоящей гвардейской форме, что, разумеется, не дозволялось на публичных представлениях. Спектакль назначили на 18 мая. Но невозможно же сохранить тайну, рассылая пригласительные билеты! Слух дошел до Милорадовича, и тот ухватился за возможность отомстить Грибоедову за Телешову. Представление было запрещено. И если когда-нибудь Грибоедов желал введения свободы слова и печати в России, то никогда сильнее, чем в этот день!
Тем временем Столыпин скоропостижно умер. Его смерть сильно задержала Грибоедова: он не мог отказать вдове в поддержке и сочувствии, а она не отпускала его, почитая первым другом и утешителем. Александр ждал приезда ее отца, адмирала Мордвинова, который взял бы на себя попечение о дочери и ее детях. Пока же он оставался в Петербурге, но покоя не знал. Кюхельбекер переселился к Одоевскому на место Бестужева, уехавшего в Москву по делам, и однажды разбудил Грибоедова в четвертом часу утра, на следующий день – в седьмом; оба раза он испугал Александра до крайности и извинялся до бесконечности. Но дело у Вильгельма было не шуточное!!! – побранился с Львом Пушкиным, собрался драться. Грибоедов решил, что сами уймутся, но через день, выспавшись, наконец, без помех, помирил их.
Грибоедов сумел выехать из Петербурга только в конце мая. Он не мог понять, печалит ли его расставание с Телешовой, обещал ей писать, но боль разлуки сгладилась в два дня, а через неделю тоска исчезла без следа. В Москве он не застал уже ни Бегичевых, ни родных, уехавших куда-то на дачу. (Обычай отправляться со всем скарбом в дальние имения постепенно переводился, и москвичи, если не имели подмосковных, все чаще заводили небольшие дачи.) Зато он встретил Павла Муханова, от которого получил множество просьб списать в Киеве разные древние надписи, потому что тот увлекался теперь двумя предметами: женщинами и историей. Встретил и Александра Бестужева, вскоре возвращавшегося в Петербург. Бестужев ничего не сказал, а от Муханова Грибоедов с удивлением услышал, что их общий друг дни напролет проводил у его матушки и сестры и принимался ими как родной. Настасья Федоровна могла быть любезной с молодыми людьми по одной-единственной причине, но в данном случае известие не порадовало Грибоедова. Мария могла высоко оценить прекрасные душевные качества Бестужева, но сам он знал его и с другой стороны. Он понимал теперь, почему Никита Муравьев отошел от заговора после женитьбы на Чернышовой, понимал, почему генерал Раевский потребовал от Михаила Орлова выйти из всех тайных обществ перед свадьбой с его дочерью – и не осуждал их. Одно дело самому ввязываться в революцию, совсем иное – молча обречь сестру или дочь на участь жены каторжанина. Он не стал ни о чем говорить с Бестужевым, полагая, что его сватовство, если до того дойдет, не созреет раньше заговора.
По пути на юг Грибоедов заехал к Бегичеву в Лакотцы, увидел, наконец, его крошечную дочь и шутя предложил вырастить ее ему в жены (увы! девочка вскоре умерла). Александр пробыл у Степана два дня, рассказал ему причину своей поездки и своих надежд на Ермолова: уверяя друга в честолюбивых помыслах и твердости духа генерала, он и сам в них совершенно поверил, увлекшись своим красноречием и подзабыв Ермолова за два года разлуки.
В начале июня он приехал в Киев. Природа и великолепные виды с высокого берега Днепра его поразили. Он почувствовал прилив вдохновения и начал обдумывать план трагедии из времен борьбы Руси с половецкими набегами – эпохи, когда варварство и цивилизация сплелись в клубок противоречий, столь излюбленный Вальтером Скоттом и его последователями. Грибоедов охотно выполнял поручения Муханова, надеясь использовать заметки и для своего творчества. Он побывал в лавре, замечая, что хоть трепетно вступаешь под темные своды соборов, но как душе просторно, когда потом выходишь на белый свет!
В Киеве Грибоедов остановился в «Зеленом трактире» на Московской улице, недалеко от Арсенала и лавры. Он мог бы, конечно, поселиться в квартире Трубецких, но предпочел этого не делать, дабы не скомпрометировать ни себя, ни князя в случае будущих неприятностей. В трактире одновременно с ним жил несколько дней Артамон Муравьев, полковник Ахтырского гусарского полка, переведенного Аракчеевым из-под Петербурга на юг, в городок Любар. Артамон, молодой человек, начинающий полнеть, имел на правой руке наколку порохом «Vera» – имя горячо любимой жены. В эти дни она как раз приехала к нему после полугодового отсутствия, и почти все свое внимание он уделял только ей. Трубецкой познакомил Грибоедова с юношей, ровесником Одоевского, Михаилом Бестужевым-Рюминым. Он с батальоном Полтавского пехотного полка нес в Киеве караул и тотчас явился на встречу с посланником петербуржцев. Короткий разговор с Грибоедовым убедил его, что тот привез для обсуждения слишком важные вопросы, чтобы решать их без участия главы Васильковской управы Южного общества, Сергея Ивановича Муравьева-Апостола, подполковника Черниговского пехотного полка, стоявшего на военных поселениях в Василькове, по дороге из Киева в Любар. Бестужев-Рюмин послал к нему нарочного с просьбой приехать хоть на несколько часов, и Муравьев-Апостол прискакал на следующий день к полудню. Все встретились у Трубецкого. Грибоедов впервые видел представителей Южного общества, и знакомство с ними произвело на него сильное и тяжелое впечатление.
Пожалуй, прежде он не задумывался об участи, выпавшей на долю его поколения. Он сам участвовал в войне, но не в сражениях; после войны много сил отдал театру; потом, хоть против воли, принял дипломатическую должность, оказавшуюся неожиданно важной, позволившую ему развить и применить к делу свои способности; потом его целиком захватили создание «Горя от ума», борьба за него, петербургская жизнь… Всегда он был в гуще столичного театрального, литературного мира, притом на первых ролях, либо же выполнял ответственные дипломатические поручения. Лишь недолгое время он провел в духовной пустыне Персии, где не находил себе никакого занятия, и в Грузии после отъезда Кюхельбекера. Он прекрасно помнил, какая страшная тоска наваливалась на него в те периоды.
Теперь он понимал, что его судьба сложилась счастливо. Разве можно ее сравнить с судьбой Сергея Муравьева-Апостола? Тот родился в Петербурге, в семье писателя и крупного дипломата, до семи лет воспитывался в Париже, потом дома в Петербурге, где получил блестящее и разностороннее образование. Семнадцатилетним юнцом он принял участие в Отечественной войне – и в первом же сражении под Красным получил золотую шпагу за храбрость. Он прошел Бородино, Тарутино, Малоярославец, Люцен, Лейпциг, Париж, заслужил отвагой и инициативностью Владимира с бантом, два ордена Анны, к двадцати четырем годам стал капитаном Семеновского полка. Он привык бороться, действовать, привык находиться в лучшем обществе Европы и Петербурга, он внес немалый вклад в победу над Наполеоном и сделал великолепную карьеру. Но всему пришел конец. После восстания Семеновского полка он был отправлен в Полтавский пехотный полк, потом назначен в Васильков. С тех пор почти пять лет он жил в глухом уезде Киевской губернии, среди военных поселян, с их женами, хозяйством и бесплодной муштрой. Ни проку, ни радости, ни даже служебного продвижения в этом прозябании не было. Все вокруг казалось чужим и отвратительным, даже собственное лицо в зеркале! Ведь гвардейские усы пришлось сбрить, пехотинцам их носить запрещали.
Что ему было делать? Выйти в отставку? Он не представлял себя вне военной деятельности, не был склонен к литературному творчеству или чему-то подобному. Уехать, как Чаадаев, в путешествие по Европе? скитаться в философических раздумьях по местам, где десять лет назад шел с боями? явиться гостем в Париж, куда когда-то вступил победителем? Никогда! Аракчеев, занимавшийся в войну интендантским делом и откровенно признававшийся, что свист ядер вызывает у него дрожь, Аракчеев мог отнять у боевых офицеров смысл жизни, но не мог отнять у них уважение к самим себе. И Грибоедов нисколько не удивлялся, что Муравьев-Апостол стал одним из основателей тайных обществ и активнейшим сторонником немедленных и решительных действий. Его воспитание, образование, юность, полная подвигов во имя Отчизны, естественно развили в нем уверенность в себе и готовность, способность, призвание к государственным и военным свершениям. А что предоставляла ему аракчеевская Россия? Тупое хозяйствование в медвежьем углу, где делать было абсолютно, совершенно нечего.
И разве только Сергей Муравьев-Апостол? Все боевое поколение было внезапно и резко остановлено императором, словно конь на полном скаку. Конь в этом случае встает на дыбы и сбрасывает неловкого всадника. Неудивительно, что и лучшие представители военной молодежи, которым в 1825 году было около тридцати лет, встали на дыбы и готовы были сбросить иго бессмысленного деспотизма. Они получили образование, наиболее пригодное в общественной, политической, представительской деятельности – зачем, если в России не было ни единой общественной, политической, представительской организации? При Екатерине II была Уложенная комиссия, Царству Польскому император дал конституцию и выборный сейм, а в России – ничего, глухое молчание. Они получили огромный военный опыт – зачем? Россия с 1815 года не вела ни единой войны, а ведь рядом кипело греческое восстание, которому так хотелось помочь. Они явились свидетелями исторического подъема русского народа на борьбу с Наполеоном, провели годы бок о бок с солдатами в сражениях и походах – теперь от них требовали издеваться над солдатами в военных поселениях. Они привыкли решать судьбы великих битв, судьбы государств, свои судьбы – теперь их отставили ото всех серьезных занятий.
Боевое поколение изнывало в бездействии. И вместе с ним отчаянно искали выход энергии совсем юные, как Бестужев-Рюмин, родственник Муравьева-Апостола, после восстания семеновцев девятнадцатилетним заброшенный в тот же Полтавский полк. Да оставайся он даже в Петербурге, разве мог бы он эгоистично наслаждаться жизнью, пока его обожаемый старший друг страдал в захолустье? И никакого просвета впереди не замечалось. При Павле I можно было решиться на убийство императора, потому что ему на смену пришел бы молодой либеральный Александр I – и цареубийство произошло. Но убивать постаревшего, закосневшего Александра не имело смысла – его должен был сменить Константин, унаследовавший от Павла все внешние и внутренние недостатки; после Константина на престол мог вступить Николай, внешних недостатков не имевший, но внутренне – истинный Павлович. Во всей царской фамилии только у Николая был сын, семилетний Александр. Но долго же придется ждать, пока настанет его черед править… И поневоле, неизбежно людям закрадывалась в голову мысль о республике.








