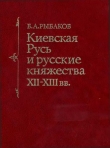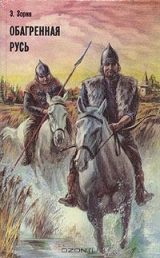
Текст книги "Обагренная Русь"
Автор книги: Эдуард Зорин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц)
Мистиша обмер, икнул и мысленно перекрестился.
– Что, страшно? – Сдерживая булькающий в горле смех, из травы поднялся человек с уродливо торчащим за спиной острым горбом. У горбуна были длинные тяжелые руки и еще более длинные, вывернутые стопами вовнутрь ноги, голова без шеи крепко сидела на слегка приподнятых плечах. Лоб и щеки незнакомца пересекали глубокие борозды морщин.
Горбун подобрал полы старенького кожуха и съехал с откоса к опасливо посторонившемуся Мистише.
– Т-ты что это? – заикаясь, выставил перед собою руки паробок.
– Испужался, – кивнул горбун. – Меня все пужаются. А я человек добрый. Тебя как кличут-то?
– Мистишей, – на всякий случай отодвинулся от него паробок.
– А меня Кривом. Ты откуда?
– Из Триполя, – глядя в кроткие глаза горбуна, увереннее отвечал Мистиша.
– Это твой конь?
– А чей же?!
– Хороший конь, – кивнул Крив. – А ты меня с собой возьмешь?
– Куда ж я тебя возьму-то?
– В Киев.
– А может, я в Триполь возвращаюсь?
– Не, – засмеялся Крив, – я за тобой давно слежу. В Триполь туда, а в Киев сюда, – махнул он своими длинными руками. – Возьми, не прогадаешь. Меня в Киеве все знают, – может, и пригожусь.
– Ты мне и нынче можешь пригодиться, – все больше оправляясь от изумления, сказал Мистиша (боярский строгий наказ не шел у него из головы). – Не про плывали ли здесь с утра лодии и не шла ли берегом дружина?
– Как же, – обрадовался Крив, – и лодии проплывали, и дружина шла. Да тебе-то какое до них дело?
– А на угорском фаре не ехал ли кто? – не отвечая на его вопрос, продолжал допытываться Мистиша.,
– Вона что, – протянул Крив. – Кажись, видел я и угорского фаря. Покраше твоего конь.
– Еще бы! – воскликнул паробок и пристально посмотрел на горбуна, – Скажи-ка, Крив, ежели возьму я тебя в Киев, поможешь ли ты мне сыскать того фаря?
– Ты только меня возьми, – широко заулыбался Крив, – и фаря твоего мы сыщем, и невесту пригожую. Киев – большой город, много там красных девиц.
– Невесту мне не надо, а вот без коня вернуться к боярину я не могу: забьет он меня до смерти...
– А ты не возвращайся к боярину.
– Да как же так?! – испугался Мистиша.
– Вот так и не возвращайся, – сказал горбун. – Я небось тоже не сам по себе. И батька у меня был раб, и мамка раба, и я робичич. А вот живу себе поживаю, как вольный зверь в лесу. И всего добра-то у меня, что эти лапти, кожух да тугой лук. Хошь, покажу, как птицу бить с лету?
И, не дождавшись согласия паробка, с необычайной для своей фигуры ловкостью горбун вскарабкался на бугор и тут же вернулся, держа в одной руке лук, а в другой стрелу.
– Глянь-ко! – пошарил он глазами над Днепром. – Вона, видишь?
Едва заметная в дымке чайка вспорхнула у самой воды и взмыла в вышину – Крив вскинул лук и, казалось, не целясь, тут же спустил тетиву. Пронзенная стрелой, птица рухнула в волны неподалеку от берега.
– Чудно! – подивился Мистиша и восхищенно поглядел на горбуна. – Да где же ты такому выучился?
– Глаз у меня вострый, – сказал Крив, довольный похвалой.
Теперь когда добрая беседа сладилась, совсем и не страшным стал казаться Мистише горбун: такая хорошая улыбка бывает только у простых и сильных людей. Славного сыскал он себе попутчика.
– Ведь и ты голоден, поди, – спохватился паробок и, разломив сукрой, протянул половину Криву, вынул из-за пояса ножичек, поровну поделил сало.
Горбун набросился на еду.
2
Круто обошелся Всеволод с Романом: велел отказаться от Киева.
– Тебе княжить, – сказал Кузьма обрадованному Ростиславу.
В первый же день своего пребывания на Горе отправился молодой князь к отцу своему, заточенному в монастырь.
Тяжелая это была встреча. Не таким, не сломленным, хотел видеть он Рюрика, не ждал, что кинется он к нему с рыданиями и вместо того, чтобы порадоваться за сына, будет, все более и более озлобляясь, вспоминать давно забытые всеми обиды. Даже жену и дочь свою, сестру Ростиславову, заточенных, как и он, не помянет ни единым словом. И на киян затаил Рюрик злобу и шептал обметанными жаром губами:
– Не верь княнам, сыне: неблагодарны они и мстительны. Роману клялись, а своего князя забыли. Так неужто приветишь ты их ласковым словом, неужто предашь забвению нанесенные отцу твоему жестокие раны?!
А сам-то, справедлив ли сам-то он был к киянам? Разве не разорил он уже однажды свой город, отданный Всеволодом Ингварю во время очередной ссоры Рюрика с Романом? Разве не он привел в Киев половцев и позволил им жечь и грабить, и насильничать?..
Помнил, хорошо помнил Ростислав, как шли к нему в Белгород и в иные княжества разоренные набегом ремесленники, как селились в посаде, рубили избы и не хотели возвращаться в Киев под десницу ненадежного князя и как силою, повинуясь воле отца, гнал он их потом обратно на разметанные ветром пепелища. Не потому ли и сам он чувствовал себя сейчас неуверенно в этом городе, что уже однажды не вступился за него, не возвысил голоса против отца, не послушался мудрого совета Верхославы – идти в Киев и образумить Рюрика, пока не поздно? Смалодушничал Ростислав, побоялся родительского гнева, а нынче имел ли он право, вспоминая прошлое, говорить этому стоящему перед ним униженному чернецу жестокую и уже никому не нужную правду?..
Нет, не поднимется у него рука карать слабого и беззащитного. А Рюрик, по-своему понимая молчание сына, распалялся все более, и желтое, еще страшнее оплывшее лицо его сотрясалось от бессильного гнева.
Так и простились они, и слабо утишил отца Ростислав:
– Бог скорбящих призрит, батюшка...
– Раны, раны мои не забудь, – напутствовал его у порога своей кельи Рюрик, – а я за тебя помолюсь.
С тяжелым сердцем покинул монастырь Ростислав, теперь путь его лежал к матери. Но не решился он на тот раз ехать один, взял с собой Верхославу.
Оповещенная игуменьей, Анна уже была подготовлена к встрече, не плакала, сдержанно благословила сына и невестку, сидела тихо, сложив на коленях усеянные темными пятнами исхудалые руки. Испугала Ростислава бледность, покрывающая ее лицо, запавшие глаза, синие поджатые губы.
– Здорова ли ты, матушка? – спросил он с участием и болью, внезапно сдавившей ему сердце.
– Слава богу, здорова.
– Не притесняет ли тебя игуменья, добра ли к тебе?
– Слава богу, добра.
– А сестра?
– И сестра твоя, слава богу, здорова. Дошел слух до меня, что посажен ты в Киеве князем.
– Верен тот слух, матушка. Нынче я на Горе.
Что-то не понравилось Анне в последних словах Ростислава. Она посмотрела на сына пристально. Не вспомнилась ли ей ее молодость, не вспомнила ли, как и она когда-то, еще будучи совсем молодой, впервые вступила со своим мужем под своды княжеских палат, как мечтала быть в них хозяйкой, а стала рабой?
Княгиня перевела взор на Верхославу и слабо улыбнулась ей.
– Ты, Верхославушка, мужу своему опора – радей о нем денно и нощно.
– Уж она ли не радеет, матушка! – воскликнул Ростислав.
Чем-чем, а заботой она окружила мужа едва ли не материнской. Одно только смущало ее: не растерял ли он за ее заботой и ежедневным присмотром своей мужской неприступной гордости? Не слишком ли послушен, не покорен ли сверх меры? Не утратил ли твердости, без коей и самый мудрый князь – лишь орудие в руках своевольных и хитрых бояр?..
Но женское брало в ней верх, и похвала Ростислава потешила ее самолюбие. Она благодарно взглянула на мужа.
Анна перехватила ее взгляд.
– А как Ефросиньюшка, с вами ли? – захлопотала она, вспомнив про внучку.
– С нами, – сказала Верхослава.
Анна часто закивала головой, слабо попросила:
– Привели бы ко мне – взглянула б разок. А то ведь скоро и к престолу господню...
– Как же, приведем, – пообещал Ростислав.
Вдруг лицо княгини сделалось суровым и даже надменным.
– Ты сестрицу свою навести, – сказала она твердым голосом. – Страдалица она – из-за Романа, кобеля беспутного, в монашках сохнет. Поди, привел уж в свой терем другую жену? Мало ему наложниц...
И тут же снова сникла, плаксиво заговорила о Рюрике:
– Много принес мне отец твой горя, но все прощаю ему. И то ладно: вместе маялись в миру, вместе грехи отмаливать... Воздастся нам на небеси.
Свидание затянулось, настала пора прощаться. Анна, как и при встрече углубилась в себя, сложила руки на коленях, беззвучно шептала что-то синими губами.
Уходя, Ростислав поцеловал ее в лоб, Верхослава обняла свекровь – Анна благословила их вялой рукой...
Сестра, к которой они наведались в тот же день (уж таким он с утра выдался), плакала, громко причитала и жалела Романа:
– Все вы супротив него, всем он дорогу перешел – навалились скопом и рады. Как же я без него-то буду? Кто ноженьки ему вымоет, кто приголубит? Молодая-то жена живо обратает, воли-то ему не даст, все, что ни есть у него, все под себя загребет...
Покоробило Ростислава:
– Пошто отца-то своего не жалеешь? Отец твой через Романово своевольство в монастыре.
Нет, под смиренной монашеской одеждой билось еще у сестры молодое сердце. Как вскинулась она на брата – словно орлица на разорившего гнездо ее покусителя:
– Через отца замкнули меня в этой келье. Почто жалеть мне его? Не орудием ли была я в отцовых безжалостных руках, не он ли велел мне приглядывать за Романом да ему доносить? Пущай иссохнет он в монастыре, пущай сгинет, ему и на том свете не уготовлены райские кущи!..
– Опомнись, сестра! – вскричал ошеломленный Ростислав. – На кого возносишь хулу?! В уме ли ты или вовсе лишилась рассудка?
– Все вы одно семя – и отец, и мать твоя, и ты – закричала, перебивая его, Рюриковна и вдруг упала на колени перед образами, часто крестясь, забормотала безумно:
– Да что это я? Прости меня, господи!..
Вечером собрал у себя Ростислав Рюриковых бояр. Славна посадил рядом, подчеркивая тем самым особое к нему внимание и уважение.
– Вот, бояре, достойный воевода, – говорил он почти точь-в-точь словами Ратьшича.– Не побоялся укоров, в трудную годину взял Киев под свою руку и тем спас его. Жалую я ему за верную службу новые земли за Росью, а еще золото, серебро и коней и повелеваю: отныне место сие на думе за ним главное, и слово главное, и почет ему воздавать, как первому из моих думцев.
Никто из бояр не посмел возражать ему, хотя многие считали, что не по правде поступил Ростислав: велика ли заслуга Славна, еще поглядеть надобно, не из корысти ли остался он в Киеве воеводою, не проникся ли страхом к Роману и потому только не перечил галицкому князю, а вовсе не из любви к киянам. Все поглядывали с опаской на сидевшего тут же в безмолвии Кузьму Ратьшича. Не сам по себе Кузьма был опасен – опасна была стоявшая за ним неведомая сила в лице владимирского великого князя Всеволода, которого большинство из думцев и в глаза-то не видывало, но о котором наслышано было вдоволь. Ныне многие еще раз убедились въявь: не нужно Всеволоду с войскам становиться под стены Киева, чтобы утвердить свою волю, – довольно и одного лишь его слова.
– А где же Чурыня, – спросил вдруг, обведя всех взглядом, Ростислав, и по сеням прополз ядовитый шепоток.
– Устрашился гнева он твоего, княже, – сказал
Славн, – собрал домочадцев, челядь свою и табуны и ушел из Киева.
– Куда?
– Никому сие не ведомо, но сдается мне, что подался он не иначе, как в Триполь или под Переяславль, где есть у него еще отцом твоим дарованная землица,
– отвечал боярин.
– Под крыло к Ярославу, сыну Всеволодову, пойти он побоится, – сказал Ратьшич. – Ищи его, княже, в Триполе...
– Тебе, Славн, поручаю сие, – повернулся к боярину Ростислав. – Возьми дружину и немедля доставь Чурыню ко двору. Негоже, чтобы отступник остался безнаказанным.
И, снова обратясь к притихшим думцам, князь сказал:
– А вы како мыслите, бояре?
– Пущай езжает Славн, – согласно закивали бояре. – Мы с тобою, княже, завсегда.
Каждый из них был рад, что не ему поручено это черное дело. Каждый думал про себя: нынче Чурыню – завтра меня поволокут на правёж, не годится это – с боярами боярскими же руками счеты сводить.
И еще больше за согласие его возненавидели они Славна: небось – повелел бы Роман – и Романову волю исполнил бы он с такой же легкостью.
Признаться, так и Славну не очень-то пришелся по душе князев наказ, и он пробормотал, что Чурыня, мол, его давний знакомец, вместе Рюрику служили, вместе ходили во Владимир сватать Всеволодову дочь, нельзя ли снарядить на розыски младшую дружину...
Ростислав насупился – Славн осекся на полуслове и больше не возражал.
Ночью открылся князь Верхославе:
– Скучаю я по нашему Белгороду. Не лежит у меня к Киеву сердце. Распустил отец бояр – не справиться мне с ними. На что уж Славн – и тот принялся перечить. Да и кияне не шибко привечают меня, нынче дружину забросали каменьями. Завтра, того гляди, пойдут подсекать сени. И сдается мне, что стоят за ними тайно прежние отцовы думцы...
3
Получив с купцов сполна товаром и пенязями за сопровождение лодий от Олешья, поделившись честно с дружинниками, загулял Несмеян, как и раньше это бывало; несколько дней не показывался он ни на княжом дворе, ни в молодечной. Своего дома у него не было, зато где шум, где пир горой, где песни и пляска, – там Несмеян. Забубенная он голова, разудалый молодец, друзей и знакомых у него в Киеве не счесть. А еще был Несмеян человеком не жадным – и это все знали. Не спрашивал он на своем пиру ничьего имени, ни звания: пришел – садись к столу, пей, сколько пузо примет, но только не хмурься. Хмурых людей Несмеян не любил, за хмурыми все грехи числил – веселому же человеку прятать нечего, он весь на виду.
Мало кто в Киеве не знал, как покарал Несмеян одного странника, прикинувшегося божьим человеком. Затесался он к дружиннику на почестен пир, когда вернулся тот с купцами из Полоцка. Любопытный был старичок – тешил гостей рассказами о хождении к святым местам, но чару пил умеючи, ждал, когда все захмелеют. А после обобрал хозяев – и был таков.
– Ты кого это ко мне привел? – разбудил Несмеяна рассерженный древодел Данила, у которого правили пир.– Погляди-ко, все лари повытряс твой странничек...
Рассердился дружинник, да и перед хозяевами стало ему стыдно, сел на коня и поехал искать нечестного гостя по всему Киеву. Три дня не возвращался к Даниле, а все ж таки словил беглеца. Привел его в избу к древоделу, усадил за стол, выставил корчагу меду:
– Пей, да после не сказывай, что хозяева были скупыми. Покуда всей корчаги не одолеешь, не выпущу из избы.
– Да где мне выпить разом корчагу-то, – взмолился странничек. – Ее, чай, и добру молодцу не одолеть.
– А вот я с тобою, сидя супротив, такую же корчагу стану пить, – сказал Несмеян и слово свое сдержал. Стали они пировать вдвоем: странничек чару – и Несмеян чару, странничек другую – и Несмеян за ним вослед.
Собрались вокруг бражники, жалко им стало похитителя.
– Оставь его, Несмеян, – говорили они, – аль не видишь – хлипок старик.
– Не отравой я его потчую, а тем же медом, коим соблазнился он, со мною на пир идучи, – спокойно отвечал Несмеян, наблюдая, чтобы чара странника все время была полна.
Прикончили они свои корчаги, остатки меда вливал дружинник в странника силой. Затем взвалил его на седло и сдал городской страже, а те препроводили похитителя в поруб.
Таков был Несмеян, и шутки шутить с ним никто не решался, хотя сам он слыл большим охотником до всяких шуток. Вот и с воеводою трипольским занятно пошутил: ведь мог отказаться он от Стонегова коня, не в себе был хозяин – однако же не отказался: то-то сейчас рвет и мечет боярин, но впредь будет осмотрительнее.
Не чувствовал за собою вины Несмеян – оттого и был беззаботен: не таясь, разъезжал по Киеву на фаре, считал его своим конем. Нравилось ему, что другого такого же нет во всем городе ни у кого – небось Романов подарок, лучших угорских статей.
Однажды, правда, остановил его боярин Славн:
– Эй, Несмеян, и отколь у тебя такой конь?
– Что, понравился? – засмеялся дружинник.
– Да вроде встречал я такого же допрежде того, а вот где – не припомню.
– И не старайся, боярин. Мой это фарь, а иного на свете нет. Никак, приснилось тебе.
Покачал головою Славн: не могло такое присниться, а вот где видел он коня, так и не вспомнил.
В большом городе не каждая дорожка пересекается. Покуда бражничал Несмеян, покуда песни пел и плясал у своих дружков, Мистиша с Кривом тоже достигли Киева и, пристав к хорошо знавшим горбуна скоморохам, искали, но никак не могли напасть на след пропавшего Стонегова скакуна. Имени дружинника Мистиша не знал (боярин-то за переполохом главного не сказал), и, кроме как на купеческом подворье, спрашивать им про коня было не у кого. Но купцы тоже не сводили с дружинниками близкого знакомства: кончился путь, рассчитались щедро, били по рукам и расстались до будущих времен, а то и вовсе не придется свидеться.
Горбун сунулся было на княж двор, но его не впу
стили, с Мистишей никто из сторожи и разговаривать не стал.
Растерялся паробок: что делать? Киев ошеломил его своим шумом и многолюдьем – тут и за год не сыщешь боярского фаря, а сало уже на исходе – хорошо еще, что покуда делились с ними хлебом знавшие Крива скоморохи.
А еще обузою стал доставивший их в Киев добрый конь. У скоморохов одна худая лошаденка, им бы ее прокормить – доброму же коню и овес нужен, и сено...
– Давай продадим коня, – предложил как-то Мистише Крив.
– Да ты что?! – обомлел паробок. – Как же это я боярского коня продавать буду?
– А не будешь, так одна тебе дорога: возвращаться в Триполь без фаря.
Вот ведь задача: и к боярину возвращаться нельзя, и коня лишиться боязно. Да и как его продавать: того и гляди, схватят зоркие мытники, начнут выспрашивать, чей конь, потянут к ответу, в темницу кинут...
Через некоторое время горбун снова пристал к паробку:
– Гляди, тощает животина. Ну на что тебе конь? Ежели сам боишься, отдай мне, я его продам. А сыщешь фаря – простит тебя боярин.
– Мой не простит...
Упрямился Мистиша, хоть и сам уже понимал: никуда не денешься, все равно сгинет конь, все равно ответ держать перед Стонегом.
– Может, еще повременим? – стал он упрашивать Крива, – Вдруг сыщется фарь?
За последнюю цеплялся надежду.
– Ладно, – сказал горбун, – Приглянулся ты мне, в беде тебя не брошу.
И стал он потешать честной народ на торгу вместе со скоморохами: горб ему помогал, дело для Крива привычное. А еще стрелял он из лука: подбросит яблоко и разит его стрелою на лету. Очень нравилась киянам эта забава. Но того, что подавали, едва хватало на пропитание.
Через два дня сунул ему Мистиша поводья в руку:
– Была не была, продавай, Крив, коня.
Привел вечером горбун незнакомых людей в скомороший стан, долго торговался с ними, седло расхваливал, уздечкой тряс. Но те людишки тоже были себе на
уме – знали, что не своего коня продает Крив (откуда быть у него коню?), за каждую ногату едва не лезли в драку. Не сдавался горбун. Тогда они ему сказали:
– Дело твое. Но только попомни, не долго пользоваться тебе конем – нынче же сбегаем да кликнем стражу. Пущай ни нам, ни другим не достанется, пущай поставят его в княжескую конюшню.
Язык держи, а сердце в кулак сожми. Понял Крив, что не кончится добром эта встреча. Уступил. Увели незнакомцы коня.
– Ну, теперь мы, Мистиша, вольные люди, – сказал не привыкший подолгу унывать горбун.
И принялись они бродить по Киеву, везде высматривать да всех расспрашивать. И не зря. Скоро дошла до них первая весточка.
– Фарь, говоришь? Угорских статей? – припомнил один из гончаров на Подоле. – Как же, как же... Кажись, у Несмеяна видел.
– Недавно из Олешья с гостями прибыл?
– Кто?
– Да Несмеян-то, – подсказал Крив.
– Может, и из Олешья. А то еще откуда. Мне-то почем знать?!
– А где видел?
– Несмеяна, что ль?.. У нас и видел, на Подоле. Проезжал он тут с дружинниками... Ну, народ и высыпал, все глядят на коня, любуются. Отколь, спрашивают, у тебя, Несмеян, этакой фарь. А он и отвечает со смехом – Роман, мол, мне его подарил...
– Наш фарь! – не сдержавшись, вскрикнул Мистиша. Крив дернул его за рукав, но поздно уже было: вылетевшего слова не вернуть.
– Это как же так ваш? – прищурился гончар, – Чай, не водятся такие кони у простых людинов.
А Мистиша возьми да еще подлей масла в огонь:
– И верно, Романов подарок этот фарь. Но только не твоему дружиннику дарил его князь, а моему боярину Стонегу.
– Не слушай ты его, добрый человек, – поспешил на выручку горбун, потому как знал, что положено за клевету прокалывать шилом злые языки, – Не в своем уме паробок.
И потащил за собою Мистишу с Подола прочь. Рассердился на него паробок:
– А говорил, что будешь мне верным товарищем.
Как же сыщем мы коня, ежели напали на след, да гнать его побоялись? Чего взгомонился-то?
– Ты в Киеве человек новый, – спокойно пояснил ему горбун. – Вот и делай, что велят. Помнишь, как поглядел на нас гончар? Не скоро до него слова твои дошли, а коли бы скоро, так не ходили бы мы с тобою теперь по Владимирову городу, а везли бы нас на допрос к воеводе. Ты Несмеяна знаешь?
– Не, – помотал головой Мистиша. – Только и видел, что у Стонега...
– То-то и оно. Что, как не признает он за собою вины? Конь-то небось все же дареный. Вот и выходит, что мы на него напраслину возвели, перед добрыми людьми обесчестили.
– Как же быть-то? – обескураженно уставился на него Мистиша. – Придумай что-нибудь, Крив.
– Вот я и думаю, – почесал в затылке горбун. – Как зовут твоего дружинника, мы теперь знаем. Гончару и на том спасибо. Но когда встретимся с Несмеяном, ты к нему сразу не кидайся. Поклонись да по чину все объясни: так, мол, и так – боярин-де мой серчает. Может, и пожалеет он тебя...
– А ежели нет?
– А ежели нет, то сами уведем коня. Но тогда держись, в руки Несмеяну не попадайся!
– Шибко напугал ты меня, Крив.
Язык языку ответ подает, а голова смекает. Теперь во всех разговорах Мистиша положился на горбуна, в беседу не встревал, а только слушал. Как стал Крив про Несмеяна спрашивать, закрутилось колесо: то здесь его видели, то там. Дружинника в городе знали хорошо, верный путь к нему указывали, но всё не поспевали горбун с паробком ко времени: был, да уехал, а к кому – неведомо.
– Потерпи еще немного – словим мы твоего Несмеяна, – улыбнулся Крив.
К вечеру сказал им кто-то, что видел, как подался Несмеян с дружиною к исаду.
Заволновался Крив:
– Поспешать нам надо. Как бы не наладился он снова в путь.
Припустили они бегом и в первый раз пожалели, что нет у них коня. Но зря спешили: на исаде Несмеяна не было. Только бока себе намяли в толчее, едва не потеряли друг друга.
– Ничего, не отпыхавшись, дерева не срубишь, – не терял надежды горбун, выбираясь из толпы.
Мистиша глядел вокруг себя завороженно: сколь прожил он в своем Триполе, а такого не видывал.
– Лодий-то сколько – как листьев в воде! Неужто со всей земли собираются в Киев торговые гости?
– А чего ж им не собираться – живем богато, соседям в рот не заглядываем: и мех у нас, и воск, и кони, и рыбий зуб. И брони, и мечи. Вот и везут нам в обмен – кто аксамит, кто ковры, кто сарацинское пшено... Мы гостям рады!
– Вот живут-то, – восхищенно протянул Мистиша, не торопясь уходить с исада.
– Про гостей ты, что ль?
– А то про кого!
– Не завидуй им, Мистиша, жизнь у них трудная и опасная – потому и ходят с дружиною. Нынче вернулся с прибытком, а завтра, глядишь, снесут голову где-нито на волоке – и вся недолга.
Так, беседуя, не торопясь, поднимались они к Подольским воротам, как вдруг кто-то окликнул горбуна:
– Крив, ты ли это?
Из толпы навстречу им кинулся, растопырив руки, рослый бородач. Горбун пригляделся к нему, сделал шаг, другой.
– Негубка? Купец?!
– Он самый я! – закричал Негубка и принялся обнимать и шлепать Крива по горбу, приговаривая:
– Вот ведь где встретиться довелось, а я уж и вовсе потрял тебя из виду.
– Меня потерять из виду немудрено, – говорил, улыбаясь, Крив и с гордостью поглядывал на Мистишу (вот, мол, какие у меня знакомцы!).
– А этот паробок не с тобой ли? – заметив его взгляды, спросил Негубка и, не дождавшись ответа, двинулся к Мистише, тоже обнимал его и разглядывал пристально.
– Мистишей его кличут, – стоя рядом с ними, запоздало объяснял Крив, – Вместе из Триполя шли, вместе в Киеве мыкаемся...
– Да почто ж мыкаетесь-то? Пойдемте ко мне на лодию. Эх, Крив, Крив, как рад я тебя видеть живым и здоровым!.. Сколь уж лет прошло с нашей последней встречи?
– Почитай, первой и последней она была, – попра
вил горбун. – А лет прошло не так уж и много.
– И то верно. Спас ты меня тогда, – кивнул Негубка, – и я пред тобою в долгу.
– Нам ли долгами считаться, свиделись – и ладно, – смущенно проговорил Крив. – А Митяй с тобою ли, купец?
– Не забыл? – обрадовался Негубка. – Со мною, где ж ему быть! Вот пойдем на лодию, там н свидитесь.
И он потащил их за собою, решительно разгребая плечом толпу.
Мистиша тоже поначалу весело зашагал за Негубкой, но, чем дальше они удалялись по кромке берега от шумного исада, тем все больше охватывала его тревога: что же это такое – встретил Крив своего знакомца и уж забыл, зачем они сюда поспешали. Этак-то чего доброго, проглядят они Несмеяна, уйдет он с дружиною – и поминай как звали.
– Крив, а Крив, – подергал Мистиша горбуна за рукав кожуха.
– Чего тебе? – обернулся Крив.
– Идем мы в гости к Негубке, а как же фарь?
– Экой ты прилипчивый, паробок, – проворчал горбун. – Ну скажи, где нам на ночь глядя искать Несмеяна?
– Утром бы не упустить...
– Некуды ему деться окромя исада. Тут и словим его, а там – как бог даст. Негубка нам поможет. Негубка, поможешь нам словить Несмеяна? – обратился Крив к купцу.
Негубка остановился и посмотрел на них с усмешкой:
– Вона вы что замыслили! Только что-то в толк я не возьму, почто вам Несмеян понадобился?
– Послал Мистишу боярин Стонег из Триполя искать своего коня. Увел, вишь ли, у него фаря Несмеян, а паробку хошь домой не возвращайся.
– Далеконько же вам придется Несмеяна искать, – покачал головой Негубка. – Ушел он с новгородскими купцами на Любеч. Видел я его на Взвозе, и то верно – славный под ним фарь.
Вона как, не думая, не гадая, обвел их Несмеян, а они ждали его на исаде.
– Ах ты, господи, – взволнованно проговорил горбун. – Не серчай на меня, Мистиша. Пристанем заутра к какому ни на есть обозу, пойдем на Любеч. А там, ежели что, то и дале. Найдем Несмеяна – не рыба он, чтобы под водою плавать, не птица, чтобы парить в поднебесье...
– Почто вам обоз искать? – сказал внимательно слушавший их Негубка. – Завтра моя лодия отбывает в Любеч. Ежели ты, Крив, не против, пойдем со мной. И ты, Мистиша, не печалуйся – сообща путь короче, а с добрыми товарищами не пропадешь. Сыщем твоего фаря!..
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
В Новгороде было неспокойно.
От Варяжского моря, от Невоозера дули северные холодные ветра, нагоняли тучи, подымали воду в Волхове, мели по улицам пожухлые листья, расстилали над крышами ранние дымы.
К непогоде у посадника Мирошки Нездинича всегда, сколько он себя ни помнит, ныли кости, но сегодня, возвращаясь верхами к себе на Торговую сторону и проезжая через Великий мост, он почувствовал, как закружилась голова, и едва удержался в седле, однако не придал этому особого значения: в палатах у владыки Митрофана, где собирались, как обычно, бояре – триста золотых поясов, было душно, кисло от пота и угарно от жарко топившихся пристенных печей.
А еще пришлось схватиться с Михаилом Степановичем, прежним новгородским посадником, который, несмотря на преклонные годы, снова входил в силу и собирал вокруг себя давнишних противником Мирошки.
Пользуясь тем, что допущен был на Боярский совет, Михаил Степанович стал возводить хулу на Мирошкина сына Димитрия, обвиняя его в лихоимстве и притеснении купцов, кои творил он при попустительстве своего отца.
Бог весть, чем бы кончилась эта ссора, ежели бы владыка не развел накинувшихся друг на друга бояр.
Еще тогда, еще на совете, худо стало Мирошке, теперь слабость повторилась, и он поспешил скорее к себе на двор. Сын Димитрий ехал с ним рядом, вспоминал, как кидался на него Михаил Степанович, стучал
посохом. Кривя в злобной усмешке рот, Димитрий говорил отцу:
– Ишь, чего выдумал боярин, неймется ему. Сам, бывало, взымал с купчишек дикую виру, а мне грехи свои приписал. Никак, задумал возвернуться к старому – на твое место, метит, батюшка...
Нахмурившись, Мирошка молчал. Слова сына задевали его за живое, но он сдерживался, только чаще подергивал поводья и морщил лоб.
Димитрий по-своему расценивал молчание отца, становился все говорливее, и, лишь когда слушать его стало больше невмочь, Мирошка резко осадил коня и неприязненно посмотрел на сына.
– Что ты, батюшка? – ошеломленно пробормотал Димитрий, пряча быстро забегавшие глаза.
– Шей по росту: полы оттопчешь, – сказал с тяжелым придыханием посадник. – Много чего ты мне наговорил а всё – чтобы грязный хвост спрятать. Думаешь, не знаю, как прикрываешься ты моим именем и, бесчинствуя с дружками своими, дружбу свел с резоимцами? И, ища, чем заплатить резы, притесняешь не токмо купцов, но и ремесленников из посада?.. Думаешь, я про это не знаю? Или про то, что повадился ты к купчихам и они доят тебя, как корову? Прав был Михаил Степанович, и потому только не дал я ему изобличать тебя и далее, что думал о Новгороде, а не о тебе, ибо, изобличив тебя, и на отца твоего бросит он тень и на все, что дело рук моих!..
Растерялся Димитрий, губы его плаксиво задергались, и Мирошка, вконец расстроенный, чтобы не видеть его унижения, пришпорил коня и живо выехал с моста на Торговую сторону.
Вблизи своего двора почувствовал он себя еще хуже, едва сполз с седла, в сопровождении услужливых отроков вошел в избу, сел на лавку и с трудом перевел дух.
Нет, не от сидения в жарких палатах владыки сделалось ему худо. Давно подкрадывалась к посаднику злая хворь. Занемог он еще с того времени, как унизил его владимирский князь Всеволод, держа у себя в заточении, и теперь унижал, ибо не он уже был хозяином в своем городе и не малолетний сын Всеволодов Святослав, безвыездно сидевший в городище, а пестун Святославов, боярин Лазарь, и владыка, данный Нов
городу во Владимире и избранный под присмотром Всеволодовых дружинников.
Вот и сегодня один пуще другого старались друг перед другом Лазарь и Митрофан. Не вступился владыка за Мирошку, а только разнял их с Михаилом Степановичем, обоих пожурил поровну: Бояркий-де совет не торг, это на торгу можно размахивать кулаками и надрывать горло.
При воспоминании о Митрофане посадника прямо передергивало от ненависти. С прежним-то владыкой Мартирием худо ли бедно ли, а они все же ладили хоть и тот был себе на уме, но понимал, что без Мирошки в доверие к новгородцам ему не войти.
Митрофан явился на все готовое, грозная тень Всеволода маячила за ним, в городе стояла владимирская дружина, князь был владимирский и боярин при нем из близких ко Всеволоду людей.