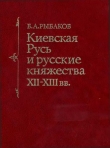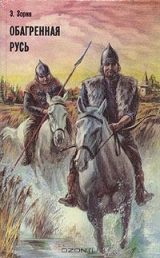
Текст книги "Обагренная Русь"
Автор книги: Эдуард Зорин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 28 страниц)
– Свят-свят, уж не ты ли это, Митяй, или я обознался?
– Не обознался ты, Кукша. Сколь лет прошло, как выезжал я с Негубкой из этих же самых ворот, а всё будто вчера было.
– Господи! – всплеснул руками воротник. – Всякого повидал я на своем веку. И Веселица здесь же, под этими сводами, побирался с лихованными, но чтобы в таких лохмотьях купцы возвращались, такого еще видано мною не было. Да где же кони твои, Митяй?
– Сгинули мои кони, – грустно отвечал Митяй. – Далече отсюда сгинули.
– А товар?
– И товар сгинул.
– А Негубка? – спросил и осекся воротник. Но сказанного не вернуть.
– Нету больше Негубки, – проговорил Митяй, и глаза его наполнились слезами. – Схоронил я лихого купца в чужой неведомой земле – мир праху его.
– Мир праху его, – покорно вторил Митяю обескураженный Кукша и с жаром перекрестил себе лоб. – А енто кто? – кивнул он в сторону присмиревшего на лавке чудного незнакомца.
– А это Вэй, – сказал Митяй. – Не нашей он крови и веры чужой и идет со мною от самой страны тангутов.
Услышав свое имя, человечек с лисьими глазками встрепенулся и что-то пробормотал по-своему, глядя на Митяя. Митяй отвечал ему на том же непонятном языке – человечек кивнул, поворочался и снова притих, прислонившись спиной к стене. Сон смежил его глаза, послышалось ровное дыхание.
– Ишь ты, – почесал за ухом воротник. – Воистину огромен мир, и несть ему конца. Куды ж занесло тебя с Негубкой, Митяй? И пошто не объявлялся ты все эти годы?
– Долог мой рассказ, Кукша, – отвечал Митяй, прислушиваясь к завыванию ветра за дверью избы. – А покуда нет у меня сил, клонит ко сну, и до дома своего мне не добрести...
– Да разве кто гонит тебя? – удивился воротник. – Ложись и спи. А рассказать обо всем и после успеешь...
Спал на лавке Вэй, на брошенной на пол шубе спал Митяй, а Кукша сидел за столом, глядел на них и то усмехался, то хмурился.
Всю жизнь, почитай, провел он возле этих ворот. Когда маленьким был, стоял у въезда его отец. Потом брат стоял, сейчас его черед. И без малого двадцать годков сторожит он город от нечаянных бед.
Много разного люда прошло перед его глазами, и всех почти владимировцев знал он едва ли не наперечет: и бояр, и дружинников, и ремесленников, и купцов, и даже нищих.
Знал он и то, кого какая печаль или радость уводила на просторы равнинного ополья – к Боголюбову, к Суздалю и дальше – к Ростову Великому.
И был он всегда исполнен гордости за порученное ему дело. Ведь не зря же пал брат его от половецкой стрелы, когда привел рязанский Глеб под стены Владимира войско беспощадных степняков, – подал знак, не отворил ворот, не поддался соблазну, хоть и обещали ему немалую награду.
Не довелось Кукше вкусить братниной славы – теперь уж нет охотников брать Владимир на щит, теперь поглядывают на стены его с опаской; перевелись окрест и шатучие тати. Однако же и по сей день все городские ворота на запоре – береженого бог бережет, да и почто шляться по стольному граду кому не лень? Первый досмотр у ворот – Кукшин, а там уж разбираются посадник, и бояре, и боярские тиуны... Кому почет и красное место, а кому – зловонный поруб.
Но, стоя у ворот, не всегда только гордостью был преисполнен Кукша – с годами все больше обуревала его неясная тревога. Глядел он, опершись о копье, на убегающие вдаль поля, на синюю, окантованную лесами кромку видимой земли и завидовал всем идущим и едущим.
Вроде бы и завидовать нечему – не от радости, не от безделья отправлялись люди в нелегкий путь: вели их на дорогу каждодневные заботы и тревоги. Кому приспело зверя добывать, кому скакать с грамотой, а кому просто искать пристанища – тесно во Владимире, все труднее дается хлеб насущный, все больше лихованных скапливается под сводами ворот.
Но вот заковыка: больше других слыхивал Кукша рассказов о далеких странах и населяющих их народах, о разных разностях и прочих чудесах. И так однажды, в такую же непогожую, как и нынче, ночь, подумалось ему: вот стоял мой батька у ворот, и братка стоял, и я который уж год стою, да так и умру, не взглянув и на сотую долю того, что даровал людям господь. Всем всего поровну дал: и лесов, и рек, и морей. И расселил по ним все сущие народы. И не разделил их, а проложил по земле дороги, весь мир собрав воедино. Так почто боярину, или князю, или тому же купцу – ступай, куда хошь, а ему – стоять у ворот, как батька и братка стояли, а когда сложит у тех же ворот свою голову, то встанет на его место сын, а на место сына – внук, и так до скончания времен?..
Жалел Митяя и завидовал ему Кукша, с тягучей тоской глядел на спящего тангута: поди-ко, снятся ему необычные сны, отлетает он мыслями своими далече. А куда воротнику отлететь во сне? Как и наяву, видятся ему в ночи все те же Серебряные ворота...
4
В молодечную с ветром и пляшущими снежинками ввалился белый ком.
– Хозяевам хлеб да соль, – прошепелявило из заиндевелой бороды.
Дружинники сидели вокруг стола, кончали вторую корчагу меда и играли в кости. Все уже друг другу надоели, хоть в драку лезь. Новому человеку обрадовались, смотрели на него с радостным ожиданием: коли в такую непогодь занесло на княжий двор, значит, дело важное.
– Проходи, гостем будь, – соскочил с лавки Крив. – Почто у порога торчишь?
Мужик распахнул шубу, встряхнулся, как пес, снял шапку, махнул по сапогам. Пристальные глазки быс
тро обежали сидящих за столом, в недоумении задержались на Криве.
– Зашел, гляжу, а мово знакомца нет, – сказал гость и неуверенно помял в руке шапку. Постоял, подумал, нахлобучил ее на голову и поворотился к двери.
– Постой-ко, – остановил его Крив. – Это ты про какого знакомца здесь сказывал?
– А про того и сказывал, – обернулся дядька, – что промеж вас похожего на него нет.
– Уж не Мистишу ли ищешь?
– А хотя бы и его.
– Вавилой тебя кличут?
– Ну, Вавилой, – неохотно отозвался мужик.
– Да что же тебя в молодечную привело к Мистише, за каким важным делом?
А про себя Крив так подумал: «Боится мостник, как бы не скрылся женишок».
Дружинники, бросив кости, с любопытством прислушивались к их разговору.
Вавила сказал:
– А ты почто в чужие мысли встреваешь?
– Мысли твои мне ведомы, – спокойно отвечал ему Крив, – потому как с Мистишей мы старые дружки.
– А коли старые дружки, – оживился мостник и снова снял шапку, – то вот и скажи мне, куды подевался Мистиша? Небось тоже в непогодь не по-пустому его носит?
– Мы люди князевы, и заботы у нас князевы, – сказал Крив с достоинством, – нам погода нипочем.
Вавила подозрительно оглядел уставившихся на него дружинников и поманил Крива за дверь. В сенях было холодно, ветер задувал в щели мелкую снежную крупу.
– А ты не врешь, что его дружок? – совсем близко придвигаясь к лицу горбуна, быстро прошептал мостник.
– Чего ж врать-то?
– И про сговор наш знаешь?
– Э, – протянул Крив, – сговора-то покуда не было.
– Это как же так не было? – отшатнулся Вавила.
– А вот так и не было. Сватов к тебе Мистиша еще не засылал. Но нынче гляжу я на тебя, Вавила, как повадился ты хаживать к нам в молодечную, и думаю: а не отговорить ли Мистишу? Уж больно нахваливаешь ты свой товар. Как бы не обвел ты дружка мово вокруг пальца...
– Погоди-ко, погоди, – хищно сузил глазки Вавила, – уж не от тебя ли тем ветерком подуло?
– Может, и от меня, – кивнул горбун. – Мистишу я в обиду тебе не дам. Уж больно прыток ты, уж больно норовист. А с девкой пущай они сами сговариваются.
Вавила медленно покачал головой:
– Теперь вижу я – верно в городе сказывают, что у Всеволода в дружине одни кобели.
– Стой, мил человек, – оживился Крив, – вот и словил я тебя. Так где это про князя и его дружину такое говорят?..
Оцепенел Вавила, на Крива уставился побелевшими от страха глазами. Да вдруг как бухнется перед ним на колени, как завопит:
– Помилуй! Вырвалось у меня по неразумению, а подумал уж после. Ничего худого о князе я не говорил.
– Али оглох я? – оттолкнул его от себя Крив, радуясь, как складно все само по себе получилось. Теперь не ему уговаривать Вавилу, теперь пусть Вавила перед ним поползает. – Пришел на княж двор не зван и на дворе его князя хулить? Али татей безродных собрал вокруг себя Всеволод?
– Про татей я и не обмолвился, – пробовал беспомощно защищаться Вавила.
Посмеивался горбун над мостником:
– А вот как кликну я сейчас отроков?
– Не губи ты меня, – взмолился Вавила, – отпусти с богом.
– Так вдругорядь заявишься...
– Ей-ей, не заявлюсь.
– А про свадьбу что слышно?
– Подцепил ты меня на уду, горбун...
– Впредь оглядчивее будешь. А Ксеньицы твоей не позорил Мистиша, и зазря страмишь ты его на всю молодечную. Коли полюбится она ему, так и без тебя сватов пришлем.
– Так что ж не полюбиться? Девка она ладная...
– Иди, покуда не передумал, – подтолкнул его Крив. Помягчевший голос его снова вселил в мостника надежду. И отворил он было рот, чтобы еще что-то сказать, но Крив повернулся на своих тонких ножках и скрылся за дверью.
Все еще стоя на коленях, в сердцах плюнул ему вдогонку Вавила.
бормотал он, кряхтя, поднялся и вышел во двор.
Метель не утихала. Косые полосы снега, как плети, больно хлестали по лицу.
А Мистиша в это время сидел неподалеку, в Негубкиной избе, прислушивался к шороху ветра и думал о том, что только что рассказал ему Митяй.
В печи потрескивали дровишки, красные угольки прыгали по загнетке, было тепло и уютно.
Митяй, уже постриженный и умытый, в новой синей однорядке, прикрыв глаза, потягивал из чары брагу. Узкоглазый Вэй, пристроившись у его ног на полосатых половичках, покачивался и напевал что-то тоскливое.
Случайной получилась эта встреча, а засиделся Мистиша до самого позднего вечера.
С утра кликнул его к себе Веселица, велел съездить к кузнецам, поглядеть, готовы ли новые брони. Возвращаясь, увидел Мистиша курящийся над Негуб-киной избой дымок.
Сперва подумал он, что почудилось, что не дымок это вовсе, а ветер сдувает с конька недавно выпавший снег. Но у ворот была протоптана дорожка, и видимые за плетнем тропки пересекали двор.
Мистиша растерянно придержал коня, привстал на стременах, черенком плети постучал в воротную верею. Никто не отозвался на его стук, да за ветром и не было его слышно.
Ворота оказались не запертыми. Мистиша въехал во двор и спешился. Взошел на крыльцо, толкнул дверь. В сенях было темно и нелюдимо. Однако же и здесь, на припорошенных снегом досках, Мистиша увидел недавние следы.
Вторая дверь – в повалушу – сама отворилась ему навстречу. Мистиша отступил в растерянности: из дверного проема скалилось в улыбке чужое узкоглазое лицо.
– Ты кто? – спросил Мистиша, и рука сама непроизвольно потянулась к висевшему на поясе ножу.
Чужое лицо изобразило безобразную гримасу и отпрянуло. На месте его замаячила русая борода.
– Мистиша!
Дверь распахнулась настежь, и дружинник не успел опомниться, как оказался в крепких объятиях.
Только тут догадка его разрешилась – живой и невредимый Митяй стоял перед ним: и глаза те же, и
улыбка та же, одна лишь борода была непривычна.
– Да что же стоим мы на пороге-то? – потянул его в повалушу Митяй, скинул с него шапку, взъерошил волосы. – А я-то думал: кто первый из старых моих дружков в гости ко мне наведается?..
Когда отъезжали Митяй с Негубкой в Булгар, Мистиша был далеко от Владимира, и расставались они не друзьями – стояла еще тогда между ними Аринка. Думали, больше не встретятся. Думали, навсегда разошлись их пути. Да верно говорят: пора пройдет – другая придет. Теперь и не вспоминали они былые обиды – не до них было: старая дружба новыми побегами проросла.
Сидели они за столом друг против друга, и Мистиша будто волшебную сказку слушал. Жизнь-то всяк по-своему меряет. Казалось ему, уж больше его с Кривом никто лаптей не истоптал – где только их не носило! Да зря похвалялся он пред собой. То, что Митяй сказывал, и во сне хмельном не снилось молодому дружиннику. А ведь иной раз такое привидится, что диву даешься.
Отпущенные Чингисханом, трудно добирались Негубка с Митяем до Отрара. Торговые пути опустели, колодцы занесло горючим песком, вымерли напуганные кочевниками селения...
– Ежели бы не Вэй – ласково посмотрел Митяй на сидящего рядом безмолвного тангута, – не один Негубка, и я бы лег костьми в безводной пустыне...
– А что же купец? – нетерпеливо спросил Мистиша.
– Скосила его неведомая болезнь, – сказал Митяй, – а я так думаю, что помер он от тоски. Перед самой смертью-то только и вспоминал он, что нашу Клязьму. Не дойти мне, говорил он, до Владимира, а тебе, Митяй, помирать еще рано. Не можно так и сгинуть нам обоим в чужих краях. Страшная беда нависла над Русью, и слова ихнего хана не пустая похвальба. Куды там наши половцы!.. Да что ты, успокаивал я его, о смерти думать тебе еще час не пришел, еще окунешься ты в нашу Клязьму, а беда покуда далече – почто сердце себе надрывать? Но неустанен был Негубка в своей тревоге. Молод ты еще, упрекал он меня. И все торопил – коней заморили мы подле самого Отрара. Вот тут-то Негубка и кончился. Песчаная буря захватила нас возле колодца – целую неделю пролежали мы, погребенные песком, в жару и безводье: в колодце-то том воды было едва только на донышке – всю мы ее в первый же день и вычерпали. А когда набрели на нас люди, Негубка уж бездыханен был – так и схоронили его на чужбине...
– И вот что чудно, – продолжал Митяй, – потешались над нами в Отраре: напугали-де вас разбойники, вот и бормочете бог весть что. Взгляните-ко, какие стены окружают Отрар...
– А может, и верно – зря беспокоился Негубка? – прервал его Мистиша. За окнами ветер завывал, в избе было мирно и тепло. Привычно было, но узкоглазый Вэй сидел, поджав под себя ноги, на полу, и Мистиша отводил от него смущенный взгляд.
Другим стал Митяй, словно подменили его за эти годы. И только сейчас заметил дружинник в волосах его серебристую седину.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
Скоро прошла метель, и дороги выправились. И тогда явились сыновья к Всеволоду за благословением.
– Ты горячка, – сказал старый князь Юрию, – а ты, Ярослав, еще молод. Во всем слушайтесь Константина. А тебе, Костя, мой наказ таков: попусту Мстислава не задирай, и ежели дело обойдется без крови, то и слава богу. Митрофан пущай в Новгороде как сидел, так и сидит. А Святослава забери – не по его зубам оказался орешек, сами в другой раз разгрызем...
Была у него заветная дума: самому встать во главе войска, примерно наказать Мстислава, чтобы сидел в своем Торопце и на большее не покушался. Понимал он, что на сей раз не захудалого князя избрали для себя строптивые новгородцы и ежели дальше так же пойдет, то со многим придется мириться. Но сил уже прежних не было, крутой недуг все чаще приковывал его к постели, и не то что взобраться в седло, иной раз и из терема выходил он с опаской.
Еще день пошумел, пображничал Владимир – и ушло войско. Тихо сделалось в городе. Недолго вспоминали владимирцы шумные игрища и пиры – скоро жизнь потекла обычным чередом.
Одного только Всеволода и продолжало терзать беспокойство. Ходил он по ложнице, как пойманный в клетку зверь, то и дело припадал к оконцу, будто увидеть что пытался, будто взглядом своим мог помочь сыновьям. Мысленно представлял себе пройденный ими путь, высказывал жалобы свои Любаше:
– Нет в молодых князьях согласья, поди, и нынче уже перессорились. Что одному бог дал, тем другого обделил. Спокоен и рассудителен Константин, а Юрий решителен, да без головы – ему хоть в омут. Ярослав же у Юрия в поводу...
– Вот и не печалуйся, – успокаивала его Любаша. – Что одному недостанет, то другой возместит с лихвой. А Константин молодшим как коню узда.
– Узда-то узда, – покачивал Всеволод головой, – да как бы конь седока не сбросил. Тихий ездок-то.
Говорил и посматривал на жену с подозрением. Всякий раз, когда хвалила она старшего сына, словно бы что-то сжималось у него в груди.
Но Любаша глядела на него ясным взором, бережно поправляла подушки, и он снова успокаивался.
«Пустое, – думал Всеволод, – к чему терзать себя понапрасну? Это от молодости у него, а вот пройдет время – и перебесится. Хорошо, что поставил я его над Юрием и Ярославом. Пущай привыкает. Умру – все ему отойдет, отца своего помянет добрым словом».
Вот управится он со Мстиславом, сделает все, как повелел, – тогда и на покой, тогда ничего не страшно старому князю. А смерть, она у всех над головой – ее воеводами не пугнешь, самой лихой дружине с нею не сразиться. И не защитят от нее Всеволода ни молитвы ни высокие городницы, ни глубокие рвы.
И все-таки умирать не хотелось, все-таки думалось: доведу дело свое до конца сам. Ведь вона как сызнова заколобродила Русь: в Галиче смута, Чермный так и норовит Рюрика спихнуть с горы (а ведь сам из Ольговичей), Мстислав утвердился на берегах Волхова, подвигнулся на неслыханное – Всеволодова сына упрятал под крепкие затворы.
Или почуяли все, что ослабла его рука?
Нет, зря успокаивал себя Всеволод: не в ясности и сознании силы кончал он свои дни.
И все чаще сиживал старый князь с Иоанном и Симоном, все чаще спорил с ними и в спорах пытался открыть для себя истину. Но скоро понял он, что не просветят его, а сами ждут от него ответа духовные пастыри.
– Вольно вам за моей спиной, – сердился Всеволод. – А есть ли правда?
– Истинно так, – говорил Иоанн.
– Смирись, – вторил ему Симон.
– Меня не вразумил господь, – криво усмехался Всеволод, – а вы и вовсе пребываете в потемках.
Как-то сообщили князю, что на торгу и в ремесленном посаде странные плодятся слухи: будто далеко отсюда, на восходе солнца, собирается бесчисленная рать, будто идет она на Русь и грядет то ли всеобщее разорение, то ли даже конец света.
– Сыскать зачинщика, – повелел князь, – и бить кнутом нещадно на моем дворе.
– Не иначе как все от купчишек пошло, – намекнул ему Кузьма Ратьшич.
– Потрясите-ко купчишек, – повелел своим людям Всеволод.
Добрый дал совет Кузьма – и дня не прошло, как притащили отроки пред княжеское крыльцо мужичонку.
– Тебя как кличут? – нахмурился Всеволод.
– Митяем, – отвечал купец.
– Ты что же, купец, зловредные слухи по городу распустил? Народ смущаешь, байки свои за правду выдаешь?
– Хошь верь, хошь не верь, княже, – сказал Митяй, – но я не скоморох и до баек не охоч. И всё в словах моих истина. Что же до других, то я за них не ответчик.
– Смел ты, купец, как я погляжу, – проговорил Всеволод в задумчивости: смутила его Митяева прямота. – Наказать я тебя всегда успею, а вот и мне не расскажешь ли, где был и что видел и отколь в тебе такая уверенность?
– Отчего же не рассказать? – ответил Митяй.
Вечером званы были в большую палату передние мужи. Ввели Митяя, поставили перед княжеским стольцом.
Бояре перемигивались друг с другом, некоторые про себя ехидно посмеивались: вот-де дожили, вовсе в детство впадает Всеволод, кличет, как на думу, слушать потешины – ни медов, ни браги не выставляет.
Но князь, разгадав их мысли, глянул сурово – и все притихли, ладони к ушам приставили: ну, ну, коли новый пошел обычай, так отчего бы и не послушать.
– Начни, – повелел Всеволод Митяю и устало откинулся на спинку стольца.
Помялся Митяй, покашлял, собираясь с мыслями. Страшно ему было: ведь не за чаркой крепкого меда в корчме – перед боярской думой говорил он и за каждое свое слово держал ответ. Не убедит он князя – и обещание свое Всеволод исполнит: будут бить его при народе кнутом за гнусную ложь.
Начал он с того, как выплыли они с Негубкой от Булгара. Вяло продвигался его рассказ – бояре зевали, Всеволод нетерпеливо ерзал на стольце. Но чем дальше, тем увереннее становился окрепший голос молодого купца. А когда дошел он до того места, как схватили тангутов и как беседовал с купцами в шатре своем Чингисхан, сонливость будто ветром сдуло с боярских лиц.
Нет, не был похож на сказку пространный рассказ Митяя. И не лицедействовал он, когда смахивал со щеки непрошеную слезу.
Всеволод впился в лицо его горящим взглядом, с силой сжимал в кулаках подлокотники кресла. Бояре растерянно безмолвствовали.
Первым очнулся игумен.
– Все кочевники вышли из Етривской пустыни, – сказал Симон. – Причудлив и непонятен мне рассказ сего купца. А о монголах мы никогда не слышали.
Бояре зашевелились.
– Не может того быть, – говорили одни.
– Может, – говорили другие.
– Почто тезики нам про монголов не донесли? – сомневались некоторые. – И что это за земли такие, где живут язычники?..
Всеволод слушал их, глядел на Митяя, и сердце его учащенно билось.
«Вот оно», – вдруг толкнулось в грудь, и кровь прилила к голове. Не он ли когда-то вычитал в латинских хрониках, как пришли с востока несметные полчища варваров и поглотили беззаботный Рим?.. Быль и небыль сплетались под перьями переписчиков, но память хранила главное. Да и разве сам он не видел развалины древних городов?
Неужто снова грядет жестокая гроза, неужто снова
собираются зловещие тучи? И не предчувствие ли великой беды водило все эти годы его делами и помыслами?
В большом и малом видел он свою правоту, и теперь выступала она все с большей и большей ясностью. Так неужто ему одному открылось неизбежное? Неужто все эти люди, сидящие в палатах улыбающиеся и беззаботные, незрячи, как только что появившиеся на свет щенки?..
Но вот хмурится, покусывая седой свой ус, Кузьма Ратьшич, вот Яков притих и с немым вопросом в глазах глядит на князя, вот часто крестится и беззвучно шепчет молитву епископ Иоанн. Нет, прозрели и они, тревога цепенит и их сердца.
Всеволод обессиленно откинулся на стольце: рано, рано уходит из него жизнь. Все тело его охватила болезненная слабость, руки стали липкими и бесмощными. Любаша закричала, бояре повскакивали с мест. Перепрыгивая через лавки, Яков первым оказался возле стольца, подхватил на руки сползающее на пол тело князя.
– Лекаря! – закричал Кузьма, ударом ноги распахивая дверь в переход.
– Лекаря! Лекаря! – зашуршало, затрепетало из уст в уста, покатилось по лесенкам, долетело до каморы, где отдыхал на лежанке Кощей.
Будто огнем его прижгло – вскочил он, кинулся в сени.
Всеволода уложили на ковер, Любаша рыдала у его изголовья, вокруг кучно стояли бояре. Кощей опустился на колени, осторожно приоткрыл князю веки, подержал его обмякшую руку в своей, торопливо расстегнул на груди кафтан, приложился ухом к сердцу – жив. Скользнул взглядом по лицу Кузьмы – тот понял его, растолкал бояр, быстро подошел к окну, распахнул створки: морозный ветер ворвался в сени, белой пеной закучерявился на половицах. Бояре поежились, заворчали на Кощея.
– Неча, неча толпиться! – прикрикнул на них Кузьма. Яков выталкивал любопытных за двери:
– С богом, с богом, бояре...
Чувствуя себя ущемленными, думцы выходили неохотно, сердито стучали посохами. Не терпелось им словить последнее дыхание Всеволода.
Но князь уже приподнялся на руках Якова, пытался встать на ноги.
– Экой же ты, княже, – терпеливо, словно ребенку, выговаривал ему Кощей. – Сколь раз тебя остерегал, а ты все за свое. Почто травку не пил, почто бояр собрал на думу? Не молод ты, чай, а всего все одно не переделаешь. И без тебя управились бы думцы. Им что – они вон у тебя какие ражие.
Всеволод добрался до стольца, сел, откинув голову, отмахнулся от лекаря, как от назойливой мухи.
– Не томи мне душу, Кощей. Изыди. И от травок твоих мне нет облегчения, а бояре мои куды тебя поречистее.
– Потому и нет облегчения, что непослушен ты, княже, – обидчиво пробормотал лекарь. – Ты на земле своей хозяин, знаешь, чем кормит она и чем поит, – там свои хвори, и на думу твою я не ходок. Но ежели держишь ты меня при себе, то не зря же есть мне свой хлеб. Душу твою я не тревожу, а тело вижу насквозь.
– Полно, Кощей, не сердись ты на меня, – мягко проговорил Всеволод. – Ступай, полегчало мне. А ежели снова худо станет, кликнут тебя.
Кощей поклонился князю и удалился.
– И вы ступайте, – сказал Всеволод Кузьме и Якову. – Ты же, Любаша, останься, – повернулся он к жене.
Тихо стало в сенях, тишиной оглушило князя. «Словно в могиле», – подумал он. Любаша опустилась перед ним на колени, заглянула в глаза.
– О чем думаешь, княже?
– О тебе, – сказал Всеволод.
– Да что обо мне думать-то, – слабо отозвалась Любаша. – Ты о себе подумай. Верно сказывал тебе Кощей: всякой думы не передумаешь, а дней впереди много...
– Не много уж осталось, Любаша.
– О том ли скорбишь?
– И о том тоже. Кому умирать охота? А еще тревожит меня – как останешься ты одна? Кто приласкает тебя, кто приголубит? Сынам моим доверяешь ли?..
– Уйду в монастырь, – сказала Любаша.
– Вот оно! – встрепенулся Всеволод. – Значит, загубил я твою молодость?
– Счастлива я...
– А ты поверь мне, княже...
Всеволод вздохнул и отвернулся. Все мешалось в голове, теснили друг друга беспокойные мысли. Хорошо, когда в доме много детей, но худо – когда все они молодые князья. Не успел рассеять он их по Руси, не успел каждому выделить свой удел. А Владимиро-Суздальскую землю начнут между собою делить – тут всему конец. И не станет ли стольный град его вторым Киевом?
Стемнело. Неслышно вошли со свечами слуги. Так же неслышно вышли.
2
Плохо спалось в ту ночь Мстиславу. Выйдя заутра на городницу, он увидел скачущего во весь опор по берегу Волхова одинокого всадника.
«Никак, и боярам худо спалось, никак, и посаднику что-то загрезилось, – подумал князь. – А то бы с чего ни свет ни заря слать ко мне на Городище гонца?»
Всадник и верно был послан Димитрием Якуновичем. Едва отворили ворота, едва влетел он на усадьбу и спрыгнул с коня, как встретил его спутстившийся с вала Мстислав.
– Беда, княже! – падая на колени, завопил гонец.
Эк его разобрало, к чему такая спешка?
– Уж не свеи ли вошли в новгородские пределы? – улыбаясь, спросил Мстислав.
Гонец был молод, редкий пушок едва пробивался на его верхней губе. И уж ясно, с первым поручением скакал он на Городище. Оттого и сияют его глаза, оттого и прерывист голос:
– Кабы свеи, княже, а то велел передать тебе наш посадник: двинулся-де Всеволод с Понизья на Тверь, а дальше путь его лежит на Торжок.
Крепко напугал новгородцев владимирский князь – вона как сразу зашевелились. А ведь не дале как вчера в том же терему, у того же посадника, собравшись вместе, укоряли бояре Мстислава, что худо радеет он о своей земле, что, когда ходил на литву, оставил себе половину добычи, когда положена ему треть.
– Это кто же так положил? – посмеялся над думцами князь.
– Вече.
– Ну так пущай мужики ваши и боронят пору бежье, – сказал Мстислав, – а моя дружина кормится с конца копья.
Знал он себе цену, знал, что уступят ему бояре. Но уперся Димитрий Якунович:
– Негоже ломать тебе старый обычай.
– В Торопце у меня обычай иной.
– Но сидишь-то ты на Городище! – воскликнул Димитрий, ища поддержки у думцев. Бояре, стоя за его спиной, согласно потряхивали головами.
– Что за честь! – рассмеялся Мстислав в лицо посаднику. – На Городище – не на Ярославовом дворе.
Зашумели, закричали, слюной забрызгали бояре.
– Полно, – остановил их Димитрий Якунович и повернулся к князю: – Али не мы с тобою заключали ряд?
– Али не я тебя вызволил из узилища? – в свою очередь вопросил его Мстислав. – Кабы не кликнули меня из Торопца, кабы Христом-богом не просили, то и по сей день хозяйничал бы у вас Святослав, а владимирцы путали свои бретьяницы с вашими.
– На том благодарствуем тебе, княже, – степенно отвечал посадник, и ни один мускул не дрогнул на его лице, – но на старом порядке испокон веку стоит вольный Новгород, и батюшка твой законов наших не нарушал...
Твердолоб Димитрий Якунович – достойный сын своего отца; твердолобы бояре, купцы твердолобы, воеводы и ремесленники – всяк в Новгороде твердолоб.
Взбесили думцы Мстислава. Ударил он кулаком по столу – проломил столешницу. Побледнели бояре, отступили от гневливого князя, но, только снова завязался у них разговор, как снова принялся Димитрий Якунович за свое.
Мстислав непривычен был торговаться – жил он широко и бездумно. И не ради добычи шел сюда из своего Торопца. А дразнить бояр ему просто нравилось.
– Ни ногаты не уступлю, – сказал он твердо. – Видел я, как ваш Домажир сидел в Торжке на ворованной куче.
За самое живое задел он думцев. Завопили они, размахались руками. Чернявый Домажир беззвучно хватал ртом воздух, закатывал глаза.
– Навет это, бояре, – вступился за него молчавший до сих пор Ждан. Обильный пот струился по его угрястому лицу. – А тебе вот что скажу я, княже: ты на
бояр голоса не подымай. Ты бояр слушайся – худа мы тебе не хотим, но и себя не дадим в обиду. Так и знай.
Но еще долго заставил Мстислав попариться бояр. И когда все накричались и выдохлись, сказал:
– Негоже нам из-за третьей доли ссориться. Оставьте, бояре, сие на мое усмотрение. А не то хоть завтра возвращусь в Торопец.
Вот как припугнул их Мстислав. Такого доселе еще не бывало. Другие-то князья за великую честь почитали, ежели их приглашали в Новгород. А этот упрямится да еще покрикивает, и деться думцам некуда: он один только и в силе защитить их от притязаний Понизья, с ним только и считается Всеволод.
Прикусили бояре языки, ни да ни нет Мстиславу не сказали, новым уговором себя связывать не захотели. С тем и отбыл он к себе на Городище.
И вот не много дней прошло – на следующее же утро поклонился ему Боярский совет.
Гонец глазами поедал прославленного князя.
– Что повелишь боярам сказать, княже?
– Скажи, отдыхает князь. А как отдохну, так и прибуду на Ярославово дворище.
Гонец поскакал обратно к Новгороду. Выслушав его, Димитрий Якунович рассердился, не выдержал, при гонце обругал Мстислава:
– Спесив, да не умен. Вона как с высока полета закружилась у него голова.
Гонец поджал губы: не понравилось ему, как ругают при нем Мстислава. И Димитрий Якунович заметил это.
– Ты ступай, – сказал он гонцу, – да вели, чтобы собирались бояре...
Старыми обидами считаться было сейчас не время. Того, что Святослава пленили, Всеволод Новгороду не простит. Не слишком ли круто начал Мстислав? А ежели в себе уверен, то пусть заваренную кашу сам и расхлебывает.
Так думал Димитрий Якунович, так и сказал собравшимся боярам.
– Назад всегда не поздно ступить, – добавил он. – Но вижу я в строптивости Мстислава и немалую для нас выгоду, Никто доселе Всеволоду дерзить не смел. А этот не испугался. Что, как и впрямь оградит он нас от Понизья?
Мысль его всем была мила и заманчива. Давненько не представлялось Новгороду такого счастливого случая.
И все бы шло хорошо, если бы вдруг, взметая буруны, не подъехал к терему посадника возок владыки Митрофана.
Бояре повскакали с лавок, прилипли к окнам. Опираясь о плечо служки, владыка выбрался из возка и грузно поднялся на крыльцо. Тут же бояр будто ветром сдуло от окон, все чинно расселись на лавках вдоль стен, придали лицам своим благочинное выражение.